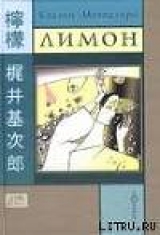
Текст книги "ЛИМОН"
Автор книги: Кадзии Мотодзиро
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
БЕСПЕЧНЫЙ БОЛЬНОЙ
1
Ёсида был болен туберкулезом. С первыми же холодами поднялась высокая температура и начался нестерпимый кашель. Когда он кашлял, ему казалось, что все в груди переворачивается. За какие-то четыре или пять дней от него остались лишь кожа да кости. Потом он уже не кашлял. Не потому, что кашель прошел, просто мышцы живота так уставали, что он больше не мог кашлять. А стоило хоть один раз кашлянуть, как сердце начинало бешено колотиться, и пока оно не успокаивалось, ему бывало очень плохо. Он переставал кашлять потому, что ослаб, лишился сил, которые еще были в начале болезни. Дышать было все труднее, поэтому приходилось делать частые и неглубокие вздохи.
До того, как болезнь обострилась, Ёсида считал, что у него обычный эпидемический грипп. Он инстинктивно пытался избежать правды, вновь и вновь говорил себе: «Завтра должно быть лучше», однако обманывался в своих ожиданиях, напрасно терпел, откладывая визит к врачу со дня на день, бегал в уборную, когда становилось тяжело дышать. А когда он решился наконец позвать врача, он уже был худой как щепка, с впалыми щеками, еле двигался. За два-три дня в постели на его теле даже появились следы, напоминающие пролежни. Он то и дело повторял: «Вот так», «Вот так», а потом ослабевшим голосом начинал жаловаться: «Как тяжело, как плохо». Каждую ночь это томление, возникающее непонятно откуда, изматывало и без того ослабевшие нервы Ёсида.
Никогда прежде такого с ним не случалось, он мучительно пытался отыскать причину этого беспокойства. Возможно, он так ослаб от повышенного сердцебиения, или это было обычным проявлением болезни, или его чувствительная нервная система заставляла его переживать эти муки. – Ёсида почти не мог двигаться, дышал с трудом, сохраняя по возможности неподвижное положение, которое, как он полагал, со стороны выглядит чопорным. Он спрашивал себя, что будет с ним, если что-то неожиданно нарушит это равновесие. Ёсида серьезно размышлял над тем, что один или два раза в жизни ему придется столкнуться с серьезным землетрясением или пожаром. Ёсида понимал необходимость непрекращающихся усилий, чтобы продолжать жить дальше в таком состоянии. Если у него вдруг появится тень сомнения, как у канатоходца, то ему суждено тут же упасть в бездну глубокого страдания. Однако сколько бы он об этом ни думал, никак не мог найти решения задачи из-за отсутствия необходимых знаний. Ведь чтобы разобраться в причине тревоги, или хотя бы для того, чтобы рассудить, что так, а что не так, ему все равно не оставалось ничего иного, как исходить из собственного чувства тревоги. Естественно предположить, что в результате он пришел бы к тому, что окончательно перестал понимать, что происходит. Однако Ёсида даже в таком состоянии вряд ли мог просто примириться, отчего его муки с каждым днем лишь умножались.
Ёсида также мучило то, что у этой тревоги были последствия. Кто-то должен был сходить за врачом, и кто-то должен был сидеть ночью у его постели. Ему было тяжело попросить человека, закончившего свой рабочий день и собиравшегося уже ко сну, сходить за врачом, жившим в половине ри от его дома по проселочной дороге. Или же попросить мать, которой уже было за шестьдесят, посидеть ночью у его постели. Когда наступал момент и Ёсида намеревался решительно попросить об этом, он сталкивался с вопросом: как заставить непонятливую мать понять всю тяжесть его положения? – Нет, даже если он сможет ей об этом сказать, мать примет это со свойственным ей спокойствием, а человек, которого он попросит сходить за врачом, возьмется за поручение с большой неохотой, и тогда страдания Ёсида окажутся напрасными, как попытка сдвинуть высокую гору с места пустыми фантазиями. – Но все же, почему появляется эта тревога? А точнее, почему тревога влечет за собой тревогу? Он думал о том, что все уже заснули и вряд ли найдется кто-то, чтобы вызвать ему врача, а также о том, что заснула его мама, и он остался один на один с долгими одинокими ночными часами, а еще о том, что если в ночи его непонятная тревога обретет хоть какую-нибудь форму, он не сможет больше ничего сделать. Поэтому, закрывая глаза, он спрашивал себя: «Терпеть или попросить?», понимая, что кроме этого выбора у него нет иного решения. Даже если он сможет почувствовать в себе, хотя бы неясно, другое решение, в том безвыходном положении, в котором оказалось и его тело, и его душа, ему будет еще труднее отказаться от своего заблуждения, и в результате страдания, связывающие его по рукам и ногам, будут лишь множиться. В конце концов, он не сможет терпеть эти страдания и примет окончательное решение: «Чем так мучаться, лучше сказать». Однако в этот самый момент его охватит чувство безысходности, и беспечное существование матери, садящей подле, будет выводить его из себя. «Она так близко, почему же я не могу сделать так, чтобы она меня поняла». Ёсида захочется извлечь свою боль из груди и швырнуть ей в лицо, чтоб только избавиться от своего раздражения.
Однако, в конце концов, и это сведется к жалобам, слабым и трусливым: «Как тяжело, как плохо!». Если задуматься, это будет не столько слабостью, сколько подсознательным желанием человека, оказавшегося в безвыходном положении, обратить на себя внимание, когда что-то случится посреди ночи. Ему неизбежно останется терпеть бессонные и одинокие ночи.
Много раз Ёсида думал: «Мне бы хоть просто спокойно поспать». Будь у него хоть надежда заснуть этой ночью, он бы не страдал, несмотря на всю свою маяту. Самым тяжелым было то, что он не мог ни днем, ни ночью уповать на сон. Чтобы хоть немного справиться с болью в груди, Ёсида сидел в постели и день и ночь. И сон, казалось, не имеет к нему никакого отношения, как слабый солнечный свет, который то появляется, то исчезает в небе в дождливый день. Как бы ни устала его мама, ухаживая за ним весь день, с приходом ночи она всегда сладко засыпала, казалось, что ей хорошо, и в этом Ёсида видел ее черствость по отношению к себе. В конце концов, говорил он, пришло время и мне заснуть, – и продолжал свои попытки.
Как-то раз вечером в комнату Ёсида проскользнула кошка. Раньше эта кошка всегда спала в постели Ёсида, однако с тех пор, как он заболел, он просил не впускать ее сюда, сказав, что она ему мешает. Когда Ёсида вдруг услышал знакомое «мяу» и увидел, как кошка вышагивает по комнате, то не мог сдержаться и разволновался. Он думал позвать маму, которая спала в соседней комнате, однако она уже два или три дня тоже лежала в постели, кажется, с гриппом. Ёсида подумал, что уход нужен и ему, и ей, и предложил вызвать сиделку. Мать категорически отказалась, настаивая на своем: «Раз ты терпишь, значит и я смогу». Ёсида стало тягостно на душе, и предложение так и не осуществилось. И теперь Ёсида не мог разбудить маму из-за какой-то кошки. Ёсида думал об этой кошке и спрашивал себя: «Я знал, что такое может случиться, почему же я так нервничаю?» Он не мог не возмущаться, потому что жертва, которую он принес, разволновавшись, оказалась совершенно бессмысленной. Он понимал, что от его раздражения ничего не изменится. Однако выгнать ничего не понимающую кошку в его нынешнем состоянии, когда он почти не может шевелиться, было трудной задачей.
Кошка добралась до подушки Ёсида и хотела, как обычно, проскользнуть через распахнутый воротник его ночной сорочки. Щекой Ёсида почувствовал, что нос у кошки холодный, а шерсть мокрая от инея на улице. Ёсида повернул шею и запахнул ворот рубашки. Кошка быстро забралась на подушку и попыталась просунуть голову в другую щель. Ёсида одной рукой оттолкнул морду кошки. От безвыходности он сделал это грубо, оскорбляя чувства кошки к хозяину, он хотел, чтобы это животное, которое понимало только язык наказаний, почувствовало недоверие и оставило свои попытки. Стоило ему только вообразить, что это ему удалось, как кошка медленно вскарабкалась на одеяло, свернулась клубком и принялась вылизывать шерсть. Столкнуть ее с этого места Ёсида уже не мог. Дыхание стало тяжелым, словно он ступал по тонкому льду. Растущее раздражение вынуждало его принять решение: позвать мать или что-то предпринять самому. Возможно, он смог бы терпеть и дальше. Однако он понимал, что в таком случае лишится возможности заснуть или хотя бы забыться. Сколько это продлится, зависит теперь от кошки и от матери, которая неизвестно когда проснется. От этих мыслей ему стало казаться, что он ни за что не больше не может так по-дурацки терпеть. Чтобы разбудить маму, ему придется подавить свои чувства и прокричать несколько раз, и одно это вызвало в нем тягостное чувство. – Впервые за последние несколько дней Ёсида стал медленно подниматься. Он перевернулся в постели и крепко схватил кошку, спящую на его одеяле. Даже от такого незначительного движения в Ёсида заколыхались волны беспокойства. Однако Ёсида уже ничего не мог поделать, поэтому он отбросил кошку в угол комнаты со словами: «Не беспокой меня больше». А затем вернулся в постель, тяжело перехватывая воздух из-за того, что только что поддался искушению.
2
Однако нестерпимые страдания Ёсида стали сходить на нет. Он обрел сон, который и вправду был похож на сон. Потом он смог с облегчением сказать себе: «Да, ничего не скажешь, было туго». И, наконец, две тяжелые недели остались лишь в его памяти. Это не были мысли или воспоминания, а лишь сумбурное нагромождение камней. Ёсида вспомнил, что при самых тяжелых приступах кашля ему в голову почему-то всегда приходили слова, смысла которых он не понимал. «Гирканский тигр». Может быть, эти слова напоминали звук, вырывавшийся из его горла при кашле, может, они были похожи на слова медитации: «Я – гирканский тигр». Однако кашель стихал, оставляя неясную мысль о том, что же такое «гирканский тигр». Ёсида решил, что натолкнулся на эти слова в какой-нибудь книжке, прочитанной перед сном, однако в какой именно, вспомнить никак не мог. Перед глазами он видел картинки – себя со стороны. Когда Ёсида совсем уставал от кашля, он ложился на подушку, чуть подкашливая, а когда больше не мог сдерживаться, то просто позволял кашлю выходить наружу, и его голова при каждом позыве сотрясалась. И тогда перед его глазами возникало множество картинок, на которых был он сам.
Все это были тягостные воспоминания прошедших двух недель. Однако даже бессонными ночами ему удавалось порой ощутить в своем сердце надежду.
Однажды вечером Ёсида отыскал табак. На глаза Ёсида в углу комнаты подле жаровни – хибати попался мешочек с резаным табаком и трубка. Они не просто находились в поле зрения, Ёсида словно через силу заставлял себя смотреть на табак, и чувствовал, как от одного этого зарождается невыразимо приятное ощущение. Именно от этого ощущения Ёсида не мог заснуть, ему было чересчур приятно. У него даже немного горели щёки. Однако он ни за что не хотел отворачиваться и пытаться заснуть. Тогда бы весенняя ночь, которую он так старательно сотворил в себе, мгновенно сменилась болезненной зимой. Однако бессонница вызывала у Ёсида усталость. Как-то раз ему рассказывали про одну научную теорию, по которой причина бессонницы заключается в том, что больной не желает спать. С тех пор, как Ёсида услышал об этом, каждый раз, когда не мог заснуть, он спрашивал себя, а есть ли у него действительно желание заснуть, и всю ночь выискивал его в себе. Однако теперь он все понимал, ему не надо было ничего искать. Когда настал момент решиться, превращать ли свое скрытое желание в действие или нет, Ёсида должен был наотрез отказаться. Даже совершив те несколько шагов, которые отделяют его от курительных принадлежностей, независимо от того, закурит он или нет, уничтожат его теперешнее ощущение весенней ночи. Ёсида предполагал, что единственная затяжка вызовет кашель, который продлится много дней. Но, прежде всего, он подумал о спящей матери, которая всегда сердилась и отчитывала его за все неприятности, причиненные им, а теперь сама допустила оплошность и забыла табак в комнате. – Он должен был наотрез отказаться. Поэтому свое желание Ёсида не признавал открыто. И он долго смотрел туда, где лежал табак, с колотящимся, словно в весеннюю ночь, сердцем.
Как-то раз Ёсида принесли зеркало, в котором он смог наблюдать отражение засохшего сада в самой глубине зимы. Взгляд приковали красные плоды китайского бамбука, которые всегда оказывали на него пробуждающее действие. Лежа в постели, Ёсида долгими часами размышлял о том, будет ли эффект от полевого бинокля, если его направить на отражение пейзажа в зеркале. «Наверное, будет», – решил Ёсида, попросил принести ему бинокль, направил его на зеркало и убедился в своей правоте.
Как-то раз он услышал голоса перелетных птиц, собравшихся на большом дубе, который рос на улице возле их садика.
– Что же это за птицы? – сказала мать сама себе, подойдя к застекленной перегородке. Но Ёсида показалось, что она спрашивает у него. Подобное вызывало в Ёсида раздражение, и он намеренно промолчал, давая понять, что ему «все равно». Промолчать в данной ситуации для самого Ёсида, возможно, было к лучшему, однако когда он плохо себя чувствовал, от такого молчания становилось еще тяжелее. (Неужели, бросая в воздух подобный вопрос, она не понимает, что он не сможет встать и посмотреть в окно?) С этого все начнется. (Сколько бы она ни говорила о своей рассеянности, по которой сказала первое, что пришло на ум, он бы заметил, что она всегда невнимательна к тому, что говорит. Может быть, она считает, что он должен взять зеркало и бинокль, чтобы посмотреть на птиц?) Добавил бы еще что-нибудь в этом духе. Однако этим утром Ёсида чувствовал себя лучше и мог просто молчать и слушать то, что говорит мать. Мать, не подозревая, какие мысли одолевают сына, вновь заговорила.
– Гомон птиц напоминает «буль-буль-буль».
– Может, это рыжеухий буль-буль.
Ёсида ответил так, потому что ему показалось, что мать узнала в птицах рыжеухого буль-буля, потому и употребила такое выражение, однако через несколько мгновений она, не обращая внимания на замечание Ёсида, сказала:
– А оперение у них серое-пресерое.
Вместо того чтобы раздражаться, Ёсида почувствовал, что манера матери выражать мысли его веселит.
– Значит, это серый-пресерый буль-буль, – сказал он, и ему захотелось рассмеяться.
Недавно к Ёсида приезжал младший брат, открывший в Осака радиомагазин.
В доме, где теперь жил брат, еще несколько месяцев назад они жили все вместе – Ёсида, мама и брат. Лет пять или шесть назад отец Ёсида купил галантерейную лавку, чтобы впоследствии пристроить к торговому делу младшего сына, который не пошел учиться в школу, и, помогая ему, обеспечить собственную старость. Младший брат приспособил половину лавки под радиомагазин, чтобы вести в нем дела самостоятельно, а за галантерейной лавкой присматривала мать, на доходы от торговли они и жили. Осака разрасталась к югу, еще десять с небольшим лет назад квартал, где находился магазин брата, был деревенской глушью, а теперь прямо на глазах строились здания, школы, больницы, а между ними вырастало множество одноэтажных домов, построенных владельцами земли, бывшими местными крестьянами. С каждым годом здесь оставалось все меньше и меньше полей. Магазин брата Ёсида находился на улице, построенной относительно давно, по обеим сторонам этой улицы располагались различные торговые лавочки.
Два с лишним года назад болезнь Ёсида обострилась, и он переехал из Токио в этот дом. На следующий год после возвращения Ёсида в этом доме умер его отец, затем в армию ушел младший брат, а когда вернулся, постепенно стал обустраивать свою жизнь, развернул торговлю, женился. Ёсида и мать ненадолго переехали в дом к старшему брату, жившему отдельно со своей семьей, а затем старший брат нашел хороший дом в деревне, подходящий для больного Ёсида, не очень далеко от того места, где они жили раньше. И только месяца три назад они переехали сюда.
Младший брат в комнате больного затеял нейтральный разговор, недолго рассказывал матери о своей семье, а потом ушел. Через некоторое время в комнату вернулась мать, выходившая проводить младшего сына:
– Та девушка из посудной лавки умерла, – неожиданно сказала она.
– Вот как.
Только она об этом сказала, как Ёсида подумал, что брат не заговаривал об этом в его комнате, а сказал матери за дверью, когда уходил. Брату он показался больным, при котором такие беседы вести нельзя. Может быть, брат и прав, – подумал он.
– Почему ты пересказываешь мне то, о чем вы говорили за дверью? – спросил он.
– Я думала, тебя это напугает, – ответила она, и по ее виду казалось, что она ничуть не приняла это близко к сердцу.
Ёсида хотелось переспросить ее: «И что ты этим хочешь сказать?», однако он передумал и предался мыслям о смерти девушки.
Ёсида слышал, что у девушки туберкулез и она слегла в постель. Посудная лавка располагалась в мрачноватом здании, неподалеку от магазина младшего брата, второй или третий дом от угла. Ёсида никак не мог вспомнить девушку из лавки, хотя ему не раз говорили о ней, однако пожилую женщину из этой семьи он знал, потому что часто видел гуляющей неподалеку. Она казалось глуповатой и, должно быть, даже немного раздражала, потому что, болтая с местными кумушками, то и дело странно подсмеивалась, из-за чего сама всегда была объектом для насмешек, как предполагал Ёсида. – Подобные сцены он видел много раз. Однако его предположение было преувеличением. Женщина была глуховата, и если ее собеседницы не жестикулировали, она не понимала, о чем идет речь. К тому же ее гнусавый голос – словно у нее был заложен нос – должен был вызывать у людей неприятное впечатление. Но все равно находились люди, разговаривавшие с ней жестами и выслушивавшие ее гнусавые речи, а сама женщина без какого-либо стеснения общалась с соседями. Ёсида пришлось узнать многое, чтобы понять, что это и есть неприкрашенная правда жизни города.
В самом начале посудная лавка ассоциативно связывалась с той женщиной, а не с девушкой. Но с тех пор, как состояние девушки ухудшилось, их стало связывать нечто большее, и он внимательно прислушивался к рассказам о ней. Соседи говорили, что отец, хозяин лавки, настолько скуп, что даже не покупал лекарств, прописанных врачом. И только та самая женщина, приходившаяся девушке матерью, ухаживала за ней. С тех пор, как девушка слегла в комнатке на втором этаже, ни отец, ни сын, ни жена сына, недавно пришедшая в эту семью, не приближались к больной. Как-то раз Ёсида услышал, что каждый раз после еды девушка проглатывает по пять маленьких рыбок – оризий. Тогда он подумал: «Вот ведь, опять эти суеверия», и с этого момента мысль о ней засела в его голове, хотя и была для Ёсида мыслью о каком-то ещё совсем далеком и чужом человеке.
Однажды невестка из этой семьи пришла в дом Ёсида за получением платежа. Ее разговор со своей матерью Ёсида слышал из комнаты. По ее словам, с тех пор, как больная стала глотать рыбок, самочувствие стало лучше. Раз в десять дней отец ходит за поле наловить рыбок. В конце она добавила:
«Вы всегда можете воспользоваться нашей сетью, возможно, вашему сыну тоже стоит принимать рыбок».
Услышав этот разговор, Ёсида почувствовал смятение. Больше всего его поразило то, что о его болезни известно чужим людям, и до такой степени, что они публично обсуждают ее. Однако по трезвом размышлении Ёсида пришел к мысли, что такой разговор ни к чему не обязывал, а удивился он лишь потому, что всегда самонадеянно считал себя каким-то особенным. Самое сильное впечатление на него произвело то, что чужие люди хотят заставить его глотать рыбок. А когда он услышал, что его мать засмеялась, он решил, что, возможно, она согласится с ними, а замечание о том, что этих рыбок придется сначала немножко вырастить, оказалось довольно ядовитым. Он почувствовал нестерпимую тоску, представляя девушку на пороге смерти, глотающую рыбок. Больше никаких известий о ней он не слышал, а потом они и вовсе переехали в эту деревню. Когда мать ездила навестить младшего сына, она узнала, что мать девушки скоропостижно скончалась. Это была простая история: женщина поднималась по ступеньке в комнату, где стоял очаг, и внезапно умерла, кажется, он кровоизлияния в мозг. Мать Ёсида беспокоилась, что после смерти этой женщины ее дочь, наверное, совсем падет духом. Несмотря на то, что обычно та женщина вела себя немного странно, по секрету от отца она водила дочку в городскую больницу, а с тех пор, как дочь слегла, тайно ходила за лекарствами. Как-то раз она поймала на улице мать Ёсида и по-матерински жаловалась на свою беду. Ёсида принял этот рассказ близко к сердцу и совершенно переменился в своем отношении к этой женщине. По словам соседей, – сказала мать Ёсида, – с тех пор, как умерла мать девушки, отец заменил ее в уходе за дочерью; неизвестно, при каких обстоятельствах, но как-то раз он сказал соседям: «В торговле покойная была совсем бесполезна, однако видя, как она поднимается на второй этаж по тридцать с лишним раз на дню, я не мог не восхищаться».
Вот и все, что Ёсида слышал о девушке за последнее время. Вспоминая это, он грустил о ее смерти, и его подсознательно стало охватывать странное чувство беспомощности. Комната Ёсида была светлой, рядом была его мать, но почему-то ему казалось, что он один опустился куда-то глубоко, откуда уже не сможет выбраться.
– Ну надо же, – сказал, наконец, Ёсида матери.
– Я же тебе говорила, – сказала она так, будто убеждала в этом Ёсида. Сама она не казалась опечаленной и продолжала свой рассказ. Наконец на ее лице мелькнуло сожаление, и она сказала:
– Девушка жила лишь благодаря матери. После того, как матери не стало, не прошло и двух месяцев, как она скончалась.








