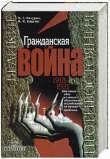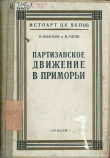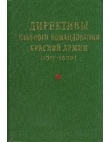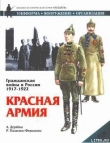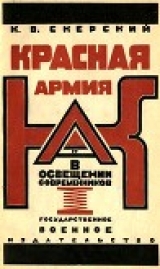
Текст книги "Красная Армия в освещении современников
(Белых и иностранцев 1918-1924)"
Автор книги: К. Скерский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Политработа, как фактор боевых успехов Красной армии
Весьма распространено мнение, будто гражданская война была борьбой не военной и даже не военно-политической, а скорее политическо-военной, и преимущественную роль в ней играла пропаганда и разложение белых армий и их тыла.
В известном смысле и до некоторой степени это можно признать справедливым. Во всяком случае на белых наша пропаганда, проводившаяся на основе выдержанного классового принципа, производила ошеломляющее действие и тогда, во время гражданской войны, и тем более теперь их наблюдатели откровенно признавались в своем полном бессилии бороться с разлагающим ядом классовой пропаганды.
С другой стороны, и внутренняя сила Красной армии и ее превосходство над армией противника в значительной степени достигались методами и приемами морального воздействия и политического воспитания, составлявшими отличительную особенность Красной армии.
Выше, в главе о девятнадцатом годе, мы приводили пример того, какое представление в начале имели белые о партийных организациях Красной армии. С течением времени наши враги присмотрелись и к ним и к новым формам и приемам морального воздействия на армию и могли уже давать характеристики, больше приближающиеся к оригиналу. Иллюстрацией может служить характеристика политического воспитания нашей армии, данная подполк. Фурнье[103]103
«L’armée rouge bolchevique». Revue Milit. Française, № 14. Août. 1922.
[Закрыть].
Автор проявляет большой интерес к этому вопросу, свидетельствующий, несомненно, о таковом же повышенном интересе к нему со стороны широких кругов военнообразованных читателей Франции. Но, как и следовало ожидать, понимание и передача подполк. Фурнье чуждых ему по духу революционных методов сделаны все же так, что часто совершенно искажается сущность политического воспитания Красной армии.
«Коммунистическая партия – пишет Фурнье – ставит своей задачей внушить армии, чтобы подчинить ее и воодушевить в трудные минуты, веру, которой она не обладает»…
«Это достигается двумя путями: институтом военных комиссаров, поставленных на ступеньках военной иерархии до роты включительно, где политрук является настоящим комиссаром при командире роты, и организацией коммунистических ячеек в каждой части, имеющих негласное наблюдение за частью и ведущих внутреннюю пропаганду».
«Таким образом, в Красной армии налицо сосуществование военной иерархии и параллельной ей политической иерархии, индивидуальной и коллективной».
«Внизу, в составе роты, создается самопроизвольно под влиянием пропаганды комячейка (от 3 до 20 человек). Над ней доминируют собрания ротных ячеек и затем полковых, в которых обсуждаются вопросы, интересующие партию».
Роль комиссаров, по мнению Фурнье, сводится к наблюдению. Они следят, во-первых, за лояльностью командира, при котором они состоят, во-вторых, за настроением части, т. е. за деятельностью коллективных органов.
«Зависимость коллективных органов двоякая: с одной стороны, они зависят, по словам Фурнье, от комиссара части, который за ними наблюдает, с другой стороны, от коллективного органа степенью выше, который руководит их политической деятельностью».
Как же оценивал французский генеральный штаб, рупором которого в данном вопросе являлся подполк. Фурнье, политическую организацию Красной армии?
Эти строки представляют, конечно, для нас особый интерес, при чем следует иметь в виду, что представители французской армии менее всего, надо думать, расположены были писать комплименты коммунистам. Вот дословно мнение Фурнье:
«Политическая организация Красной армии дала доказательства своей целесообразности. Кроме особняком стоящего бунта в Кронштадте, нельзя указать ни одного военного возмущения, представлявшего действительную опасность, ни переворота, задуманного каким-либо генералом. Вначале беспорядочная деятельность комиссаров могла стеснять командование. Ныне комиссар не вмешивается в разработку оперативных приказов, но последние подлежат выполнению лишь в том случае, если на них есть виза комиссара.
Комиссарская рамка… способствовала восстановлению дисциплины. Без комиссаров не было возможности положить предел притязаниям солдатских советов и вернуть офицерам право командовать. В бою коммунисты увлекали массы; на их долю падает большая часть успехов Красной армии».
«Политическая организация гарантирует моральное, социальное и политическое воспитание Красной армии. Средством для этого служит организация митингов, концертов, кинематографические сеансы, плакаты.
В дивизиях существует газета: на первой странице фигурируют тезисы политотдела, на второй описывается интимная жизнь частей, жалобы, празднества, письма военных корреспондентов и т. д. Коммунисты втягивают солдата в политические, артистические, спортивные клубы.
Кадровая Красная армия составляет наилучшую почву для изобретательной и комбинированной пропаганды большевизма. И с этой специальной точки зрения постоянная армия несравненно выгоднее, чем милиция».
«Отрывая крестьянина 19–20 лет от деревенской жизни – воспроизводит Фурнье слова Л. Д. Троцкого – чтобы привести его в соприкосновение с рабочим-коммунистом, мы ставим его в среду, наиболее благоприятную для коммунистического воздействия. Казармы должны сделаться для молодого поколения школой военного обучения и политического воспитания»…
Итак, «политическая организация» Красной армии дала доказательства своей целесообразности… В чем же они заключались?
Лучшим ответом на этот вопрос могло бы явиться рассмотрение наиболее крупных операций Красной армии в связи с характеристикой подготовительных мероприятий политического характера, предшествовавших самым операциям. Такой очерк в будущем, несомненно, будет составлен.
Пока же, мы приведем свидетельства некоторых авторов «с того берега», упоминавших об интересующем нас вопросе. Вот что, например, находим мы у Добрынина.
«Зимний период 1918–1919 г.г. явился периодом наибольшего напряжения советской России на донском фронте в смысле численности войск, при чем на воронежском направлении советские власти обращают главное внимание на борьбу пропагандой»[104]104
Генер. штаба полк. Добрынин. «Борьба с большевизмом на юге России. Участие в борьбе донского казачества. Февраль 1917 г. Март 1920 г.» Стр. 63.
[Закрыть].
Пропаганда сыграла в этот период, по свидетельству Добрынина, совершенно исключительную, решающую роль. К январю 1919 г. «зараза развала остального фронта докатилась в донские войска царицынского района и на всем фронте донская армия должна была отходить». «Казачество дрогнуло не столько перед силой противника, как перед его пропагандой»[105]105
Там же, стр. 66.
[Закрыть].
Вина казачества, по мнению автора, заключалась в том, что оно поддалось советской пропаганде, вина же командования донской армией – в том, что оно не сумело организовать широкой пропаганды ни за границей, ни в тылу, ни у себя на фронте, «что блестяще было оборудовано советской властью, сумевшей не только отуманить доверчивые казацкие головы, но и поколебать взгляды большинства мира» (стр. 68).
Пессимизм, появившийся в первой половине 1919 г., видимо, непрерывно возрастал, и белые стали копировать большевистские методы пропаганды в то время, как Красная армия продолжала проявлять «необычайную энергию, необычайную гибкость, ловкость и уменье в использовании всех средств и возможностей для скорейшей ликвидации вооруженных сил на юге»[106]106
Г. Н. Раковский. «В стане белых (от Орла до Новороссийска)». Стр. 19.
[Закрыть].
Одним из таких «средств» пропаганды был плакат. В гражданской войне он сыграл громадную роль. Реализм нашего плаката, строгая конкретность изображения, отсутствие тематической отвлеченности, дыхание гнева, не знающего жалости, которым был проникнут плакат– все это било по нервам белых наблюдателей и невольно наводило на сравнения:
«Отважные плакаты казались жалкими рядом с великолепными плакатами большевиков, а ведь в художественной части работали такие имена, как И. Билибин и Е. Лансере», – сокрушенно восклицает один из работников[107]107
А. Дроздов. «Интеллигенция на Дону». «Архив русской революции», т. II, стр. 53.
[Закрыть] «освага» (осведомительно агитационного отдела добровольческой армии. К.С.).
Белые понимали, что агитация хороша и только тогда достигнет цели, когда она «дерзка и напориста», когда «кажет юркую свою рожу из-за плеч оратора противника», когда, наконец, агитатор представляется врагам таким опасным, что они гоняются за ним, «подобно тому, как Лафайет гонялся за Жан-Поль Маратом под сводами заштатных французских монастырей».
Но… в действительности этого, увы, далеко не было: дерзость и напор были, но только не у белых:
«У большевиков за бронепоездом идет агитпоезд; у Деникина агитпоезд трухтел, жалобно и трусливо позванивая скрепами цепей, вслед за пассажирским».
Белые все время сравнивали свой масштаб, свои приемы и методы пропаганды с приемами и методами, применявшимися у красных, и неизменно приходили в состояние тихой грусти – не на одном только южном фронте, не только в добровольческой армии.
«Обращаясь к вопросу – писал уже упоминавшийся нами, но по другому поводу, военно-полевой прокурор армии северной области, Добровольский[108]108
С. Добровольский. «Борьба за возрождение России в сев. области». «Архив русской революции», т. III, стр. 77–78.
[Закрыть] —об организации на фронте агитации и пропаганды с целью борьбы с большевистской агитацией и внедрения в солдатские массы разумных государственных идей, необходимо с грустью признать, что это дело было поставлено у большевиков гораздо лучше, чем у нас»… наши войска черпали «все сведения о текущих событиях из большевистской литературы, в изобилии разбрасываемой неприятелем».
«Масштаб деятельности культурно-просветительного отделения нашего штаба – признает Добровольский– в области издания агитационной литературы носил скромный характер и не мог сравниться с тем широким размахом, который был присущ противнику, считавшему агитацию и пропаганду самыми верными орудиями своей борьбы.
В то время как наши плакаты были скромных размеров и большей частью без рисунков, противник выпускал их грандиозных размеров, иллюстрируя свои лозунги великолепными рисунками. Чувствовалось, что мы еще не оценили всего влияния этого могучего средства борьбы на психологию народных масс, что мы не умеем спуститься до уровня понимания последних и судим по самим себе, брезгливо относясь к тому дешевому в наших глазах эффекту, который эти плакаты на нас производят.
Противник лучше нас знал и понимал, с кем имеет дело, и бил нас в этой области на каждом шагу, хотя казалось бы, что его безобразная деятельность давала куда больше материала для использования его в агитационных целях».
Осенью 1919 г. начался постепенный уход союзников (англичан) из Архангельска; окончательная эвакуация предполагалась в средних числах октября, но в ночь с 26 на 27 сентября 1919 г. они незаметно исчезли. Белогвардейцы очутились против своего, конечно, желания, «опять в России», «в русском городе Архангельске». Дела на других фронтах гражданской войны тли частью вполне определенно благоприятно для красных, частью не были точно известны населению северной области. Этому населению, численностью около 450 тысяч человек, т. е. равнявшемуся, примерно, народонаселению Петербургской стороны старого Петербурга, надо было вступать, после ухода союзников, в единоборство со всей остальной Россией.
При этом белые должны были все время твердить о необходимости борьбы, в то время, как красные призывали к миру.
Обстановка для пропаганды и агитации складывалась для красных благоприятно, а как они ее использовали – показывает следующая выдержка из той же статьи Добровольского[109]109
С. Добровольский. Указ. статья, тот же том, стр. 112–113.
[Закрыть]:
«Падение других фронтов было немедленно использовано большевиками в агитационных целях для разложения нашего фронта. Как из рога изобилия посыпались на нас прокламации с призывом немедленного прекращения борьбы. Нужно отдать справедливость, что составлены они были чрезвычайно искусно и несомненно должны были произвести сильное впечатление не только на солдатские массы и население, но даже и на офицеров. Так как наше правительство не давало повода для обвинения в контр-революционности, то политические вопросы в прокламациях большей частью совершенно обходились и центр тяжести был перенесен на доказательства безрассудности и бессмысленности нашего дальнейшего сопротивления всей остальной России.
„Неужели вы серьезно предполагаете продолжать борьбу с нами. Ведь мы можем Вас в любой момент сбросить с вашего пятачка пинком ноги в море“—твердили воззвания к населению и войскам, после чего рекомендовалось немедленно прекратить бессмысленную бойню, а если офицеры будут сопротивляться этому, то связать их и выдать. Однако, и последние не были обойдены вниманием, и к ним последовали специальные обращения за многочисленными подписями офицеров Красной армии».
В резолютивной части своей статьи, остановившись на неудовлетворительности белой агитации и пропаганды, Добровольский пишет[110]110
С. Добровольский. Указ. ст., стр. 144.
[Закрыть]:
«Наши руководящие правительственные круги недооценивали всего значения этого могучего средства борьбы в смысле его исключительного влияния на психологию масс. Между тем, у противника это дело было в руках ответственных коммунистических деятелей и насколько важное значение они придавали ему, видно из того, что в критические моменты они на фронт вместе с броневыми поездами двигали агитационные поезда имени Троцкого и Ленина. Достаточно припомнить последний фазис нашей борьбы на севере, чтобы понять, какого успеха они достигли в этой области».
Для колчаковского фронта можно считать достаточно интересными замечания Фурнье в июльской книжке «Revue Militaire Française» за 1922 г.[111]111
«L'armèe rouge bolchevique» р. р. 76, 81.
[Закрыть].
Французский автор считает, что Красная армия родилась и сложилась в период гражданской и советско– польской войн. Особенности ее организации, комплектования, ее воспитания и применения были обусловлены обстоятельствами непосредственных войн. Поэтому он находит необходимым, прежде чем изучать современное положение Красной армии, сказать несколько слов о выполненных ею операциях, остановившись на наиболее характерных.
К числу таковых Фурнье, в первую голову, относит кампанию против Колчака, решением которой он считает атаку красными 27 апреля 1919 г. 11 дивизии западной армии (Колчака), занимавшей сектор между Самарой и Бугурусланом, – атаку, закончившуюся, по его словам, успешно, благодаря переходу на сторону красных полка Терещенко, находившегося во второй линии, сзади 11 дивизии, который перебил своих офицеров и открыл огонь по впереди стоящим войскам.
«Операция большевиков под Бугурусланом представляет атаку, удавшуюся благодаря измене подготовленной неприятельской частью в заранее избранном месте, и в назначенный момент».
Подполк. Фурнье считает это исключительно результатом пропаганды и напоминает известное выражение Гюстава Лебона: «арсенал сил психологических содержит вооружение, которое, будучи хорошо использовано, может оказаться действительнее пушек».
Указав различные факторы, объясняющие такой «полный успех большевистской пропаганды», он резюмирует:
«Своей победой большевики обязаны, главным образом, искусству, с каким деятели пропаганды и агитации использовали эти обстоятельства».
Непреоборимое влияние идей пролетарской революции, коммунистической пропаганды, ее взрывающая сила покоряла своей власти не только крестьян и рабочих, мобилизованных вождями отечественной контрреволюции. Пропаганда политических организаций Красной армии говорила о назревшем, необходимом и неотложном. Ее покоряющая сила сказывалась и по ту сторону так называемых национальных перегородок.
«Надо отдать справедливость большевикам, что пропаганда их в Эстонии была поставлена хорошо; большевистские тенденции и в рабочих и в армии не ослабевали и, само собою разумеется, большевистски настроенные элементы являлись злейшими нашими врагами. Зависимость наша от них была велика, так как тыл был в Эстонии» – свидетельствует командующий северо-западной армией, Родзянко[112]112
А. П. Родзянко. «Воспоминания о северо-западной армии.» Стр. 126.
[Закрыть], имея в виду как раз момент октябрьских успехов этой «армии» под Петроградом.
Применявшаяся Красной армией система политических кампаний, предшествовавших и сопровождавших крупные военные операции, получила, в представлении наших противников, свое наиболее яркое выражение в «попытке» советского правительства «покончить с Польшей».
«Разбивши армии Колчака, Деникина и Юденича – пишет полк. Фори[113]113
Полк. Фори. «Сражение под Варшавой». Беллона. Август – 1921 г. Стр. 658. Пер. В. И. Николаева.
[Закрыть] – советское правительство в конце 1919 г. решило покончить также и с Польшей. Об этом решении говорит официальное письмо Троцкого (опубликованное) в конце декабря.
Большевистское наступление началось энергичной и в равной мере искусной пропагандой коммунистических идей среди польского пролетариата, результатом которой явились весенние забастовки рабочих, а также националистической пропагандой среди населения Белоруссии и Подолии.
Советы не остались пассивными и по отношению к союзным государствам, где их старания дали определенные плоды: крайние элементы европейского пролетариата стали на сторону противника Польши, результатом чего явилось, решение блокировать Польшу; начало блокады намечено было на июль, август. Союзные правительства, за исключением Франции и Америки, поверили в захватническую политику Польши и думали с беспокойством, каким способом можно было бы приудержать эти ее стремления. Может быть большевикам было подсказано дать Польше надлежащий урок. Щитом этой лукавой со стороны большевиков политики были сделанные ими мирные предложения Польше в январе и мае, т. е. в месяцы усиленных военных приготовлений советов.
Начиная с января, советское правительство было занято исключительно разработкой плана весенней кампании; началась реорганизация армии, кадры ее были пополнены принудительным набором, обращено было внимание на поддержание упавшей дисциплины, приложены все старания к усилению средств сообщения для быстрой переброски войск, наконец, все вооруженные большевистские силы были направлены к польской границе».
В этом кратком очерке мы привели известные нам отзывы наших противников о роли, значении и результатах политической работы и военной пропаганды красных. Отзывы касались операций южного, восточного и северного фронтов гражданской войны, а также нашей борьбы с Польшей и с одним из бело-лимитрофов – Эстонией.
Имела ли наша политработа стратегическое значение?
Исчерпывающий ответ в этом отношении дает один из наиболее выдающихся военных писателей современной Франции, ген. Серриньи.
«Большевики оказались мастерами в искусстве комбинирования моральных воздействий и военных ударов. Их кампаниям в Сибири, в Польше и на Кавказе всегда в надлежащее время предшествовала параллельная кампания по деморализации неприятельской армии и населения. Достигнутые результаты были изумительны и заслуживают тщательного изучения»[114]114
Gén. Serrigny. «Reflexions sur l’art de la guerre», 2 èd. 1921 p. 150. Курсив автора.
[Закрыть].
ООООО
Переход Красной армии на мирное положение
Демобилизация
В конце 1919 г. уже не оставалось никаких сомнений, что причинявшая столько бедствий и потерь русским рабочим и крестьянам гражданская война закончится их полной победой. События развернулись очень быстро.
Совершенно разложившаяся армия Колчака быстро таяла под ударами регулярных частей Красной армии с фронта и партизанских отрядов с тыла, и неудержимо катилась на восток. Южная группа белогвардейцев 12 декабря отдала нам Барнаул, 16 – Кузнецк; на великом сибирском пути наше наступление было еще стремительнее: 22 декабря был взят гор. Томск, 7 января захвачен Красноярск и, наконец, 7 марта Красная армия вошла в Иркутск. Образовавшаяся тогда же в марте под давлением Антанты буферная верхнеудинская республика – создала народно-революционную армию, частями которой 21 октября 1920 г. была занята Чита.
На северном фронте наши войска 5 февраля 1920 г. перешли в энергичное наступление и через шестнадцать дней, 21 февраля авангарды красных уже вошли в Архангельск. Одновременно с наступлением на архангельском направлении, шло наступление на Онегу, и 26 февраля она была занята. В конце февраля началось продвижение наших частей к Мурманску, который и был нами занят 13 марта. Десять дней понадобилось затем на то, чтобы очистить Печенгу от остатков белых бойцов, перешедших здесь русско-норвежскую границу. На севере все было покончено.
На западном фронте – эстонское правительство согласилось заключить с нами перемирие, которое и было подписано 31 декабря 1919 г. Разгром нами остатков северо-западной армии превратил это перемирие в мир, заключенный 2 февраля 1920 г. 30 января фактически прекратились военные действия на советско-латвийском фронте, а 16 апреля начались мирные переговоры с Латвией, закончившиеся заключением мира 11 августа. И, наконец, 12 июля был заключен мир с Литвой.
На советско-польском участке фронта военные действия, ограничившиеся в течение декабря 1919 года и января 1920 г. поисками более или менее крупных партий разведчиков, закончились внезапным переходом поляков в наступление, положившим начало формальному состоянию войны между Советской Россией и белой Польшей. Война эта прекратилась, можно сказать, 17 ноября, когда начались в Риге работы мирной конференции для заключения окончательного мирного договора.
Войска южного фронта, выйдя к Мариуполю и Таганрогу, разбили 6 января дотоле сплошной белый фронт на две группы войск – кавказскую и крымскую На кавказском фронте 31 декабря 1919 г. был взят Царицын и под ударами конницы Буденного 8 января пал Ростов. 17 марта в наших руках оказался Екатеринодар, а 27 марта – Новороссийск. Наконец, утром 28 апреля наши бронепоезда вошли в Баку. Последнее убежище отечественной контрреволюции – Крымский полуостров был занят нами, 16 ноября, когда наши части вышли на южное побережье Крыма, заняв, как последний пункт, г. Керчь.
К декабрю 1920 г. обе революционных войны были закончены. Победы Красной армии вовлекли в орбиту организующего революционного влияния и строительства 8.457.650 кв. верст территории с 53.949.000 жителей. После шести с половиной лет непрерывной военной борьбы, после трех одна за другой следующих разорительнейших и опустошительнейших войн, страна восставших рабочих и крестьян и ее армия получили возможность «передышки», демобилизации бойцов и некоторого, может быть, очень непродолжительного, отдыха.
1921-й год был годом демобилизации Красной армии.
Как же протекала в белогвардейском представлении демобилизация тех «банд», для отрицательной характеристики которых они не жалели красок?
Имеющиеся в нашем распоряжении чрезвычайно интересные данные совершенно секретных сводок сведений о Красной армии начальника информационного отделения штаба главнокомандующего русской армией в Константинополе позволяют составить довольно ясную картину и осведомленности белых и их суждения об этом периоде развития Красной армии.
«Начавшаяся в декабре (1920 г. – К.С.) – читаем мы в докладе начальнику штаба главнокомандующего русской армией[115]115
«Сводка сведений о Красной армии», от 20 ноября 1921 г. № 155. Константинополь.
[Закрыть] – демобилизация протекает очень медленно, так как советская власть не в силах в короткий срок перебросить и прокормить распускаемых по домам красноармейцев»…
Как известно, демобилизация различных возрастов армии проходила различно – согласно приказам революционного военного совета. Приказом РВС от 11 декабря были демобилизованы 1885 г. и старше и была намечена дальнейшая демобилизация до 1891 г. включительно. Красноармейцы, родившиеся в 1892, 1893, 1894 и 1895 г.г., были уволены в бессрочный, отпуск приказом РВС от 17 апреля. И лишь в сентябре начался перевод родившихся в 1896 и 1897 г.г. в нестроевые части. «Медленность» демобилизации вполне отвечала ее плану. Это констатируется и за рубежом.
«В общем, несмотря на всю болезненность процесса демобилизации советская власть с ней справилась. По совершенно точным документальным данным Красная армия, насчитывавшая к 1-му января по спискам– 5.017.774 едока, к 1 августа была сокращена до 1.627.985 едоков.
Следует, однако, отметить, что демобилизация вызвала известное расстройство в некоторых отраслях народного хозяйства, первым делом в транспорте, и имела чрезвычайно нежелательные для власти политические результаты, так как распускаемые по домам красноармейцы в значительной части обратились не к мирному труду, а усилили оппозиционные к большевикам элементы».
В чем же выразилась эта «оппозиционность» красноармейцев? А пояснить следовало бы, так как о проявлениях ее что-то не было слышно ни в 1921 году, ни в следующем. Правда, намек на эту «оппозиционности дают последующие строки доклада:
„Благодаря отсутствию продовольствия (при чем тут продовольствие?.. – К.С.) поезда с демобилизованными часто застревали на станциях по неделе и больше, О довольствии мобилизованных никто не заботился, благодаря чему эшелоны часто бунтовали. Красноармейцы сжигали внутреннее оборудование вагонов, сами вагоны, шпалы, разбирали вагоны с углем и дровами, продовольствием и т. д. Во многих случаях, не дождавшись отправки эшелона, демобилизованные расходились пешком, часто большими отрядами и по пути отводили душу на встречных коммунистах“.
Возможно, что и были такие редкие случаи… Но демобилизация почти четырех миллионов бойцов гражданской войны в разоренной, голодной стране, с разбитым до отказа транспортом не могла обойтись без эксцессов. Следует удивляться тому, что их было так мало и носили они преимущественно характер хозяйственных недоразумений. В сводке краски, конечно, сгущены.
Справившись с демобилизацией, – читаем мы дальше, „военное ведомство, однако, оказалось бессильным довести части до полного штатного состава, как это им было предположено. Помимо демобилизации в этом отношении большую роль сыграли два явления отпуска и дезертирство“.
Анализ дезертирства, данный докладом, заслуживает нашего особого внимания.
Доклад отчетливо вскрывает контрреволюционный характер его и показывает, что в применении суровых мер по отношению к дезертирам красное командование оставалось все-таки слишком мягким.
„Начавшееся после первых призывов в 1919 г. дезертирство из Красной армии достигло в 1920 г. колоссальных размеров и превратилось в болезненное бытовое явление. Оно является активным протестом красноармейцев против власти, а зачастую и серьезным фактором, поддерживающим и питающим вооруженную борьбу с ней. Не имея организации, связи и достаточной смелости для открытых выступлений против власти в частях недовольные ею элементы под всевозможными предлогами покидают армию и тем вносят серьезное разложение в ее ряды.
Жестокие кары, ставящие дезертиров вне закона, загоняют их из родных деревень и станиц в горы, леса, плавни и камыши, где они образуют резервуар, из которого постоянно пополняются повстанческие отряды и просто бандитские шайки; с западной границы бегут в Польшу, особенно часты побеги среди украинцев и казаков, уклоняющихся в массе от военной службы, а также в запасных пехотных частях; меньше распространено дезертирство среди великороссов.
Дезертирство развито не только в запасных и строевых частях Красной армии, но даже и в войсках всероссийской чрезвычайной комиссии и в интернациональных формированиях. В ряде батальонов в ч. к. (118, 121) дезертирство достигает 15 % (официальные сов. секретные данные). В западном военном округе советское командование жалуется на усиленное дезертирство поляков и евреев из национальных частей“.
Характеристика дезертирства, как „активного протеста против власти“, является, разумеется весьма и весьма тенденциозной. Вернее было бы видеть в нем проявление крайней усталости после стольких лет напряженнейших усилий, естественную реакцию до последней степени переутомленного и надломленного тяготами войны коллективного организма армии. Но от этого вредоносность его отнюдь не уменьшалась.
Наше командование, конечно, прекрасно учитывало и чисто военный вред и социальный характер дезертирства. Были приняты все меры к его искоренению. Мероприятия имели продуманный характер, организующая мысль революции все время напряженно работала над тем, чтобы создать определенную, выдержанную систему, а не ограничиваться отдельными эпизодическими бросками. Белогвардейские сводки характеризуют эти меры в нарочито иронических тонах:
„По всей России образована сеть органов, имеющих специальное назначение – ловлю дезертиров под разными названиями, начиная от главного управления по борьбе с дезертирством в Москве, всеукраинской центральной комиссии и кончая губернскими и уездными „комдезами“.
На Украине всех этих органов оказалось недостаточно для успешного выполнения поставленных им задач, вследствие чего в каждой деревне были созданы „пятихатные“ и „десятихатные“ на которых была возложена обязанность по вылавливанию дезертиров под страхом строжайшей ответственности: каждый пятихатный или десятихатный, халатно относящийся к исполнению своих обязанностей, наказывается в большей мере, чем сам дезертир; он должен „зорко следить за появлением дезертира в районе его хат“, ежедневно обходить доверенные ему хаты, организовывать два раза в неделю облаву по всему селу и т. д…
Для предотвращения дезертирства при перевозке пополнений из запасных частей выработана инструкция, заключающая в себе 400 параграфов, дающая право начальнику эшелона „немедленно открывать ружейный и пулеметный огонь по солдатам“? (удивителен этот термин в инструкции для Красной армии. Кавычки невольно возбуждают сомнение. – К.С.), выпрыгивающим из вагонов“ и т. д. При этом начальник эшелона и комиссар предаются суду военного трибунала, в случае если число бежавших превышает 5 %. Поезд, везущий пополнение, согласно инструкции, должен иметь пулеметы на паровозе и в вагонах охраны; на три вагона красноармейцев положено иметь четыре (?!) вагона охраны с таким расчетом, чтобы каждый вагон, везущий пополнение, находился между вагонами, вооруженными пулеметами, в которых едут охраняющие.
В общем, различными источниками количество бежавших из Красной армии определяется, примерно, в одну треть списочного состава.
По советским данным от начала года (1921-го. К.С.)дезертирская норма составляла в общем 19 %, а для пехотных частей —22 %. Другие сведения отрывочного характера дают понятие о стихийности этого процесса; так, например, по сообщению большевистской каменец-подольской „Укросты“ за два месяца (январь-февраль) в пределах Киевской губернии советскими агентами было выловлено 7.456 красноармейцев, принимавших, после дезертирования из рядов советских войск, участие в операциях повстанческих отрядов».
«Помимо открытого дезертирства происходит и массовое косвенное уклонение от службы в строевых частях: большее число, как крестьян, так и лиц с известной коммунистической протекцией, устраивается в различных организациях, в управлениях жел. дорог, на лесных и торфяных работах и т. д., где они числятся, как учетные призывные красноармейцы».
«Коммунистическую протекцию» надо понимать, конечно, совсем не так, как это изложено в последнем абзаце.
Выше мы упоминали о двух каналах мобилизации и пополнения рядов Красной армии. В особо острые критические моменты гражданской войны по большей части распоряжением центральных органов, а иногда и инициативой отдельных губернских или областных организаций со специальной работы снимались работники в порядке партийной или профсоюзной мобилизации и отправлялись на фронт.