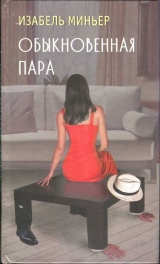
Текст книги "Обыкновенная пара"
Автор книги: Изабель Миньер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
12
Рыбкины писи
Я хожу вокруг него, спрашивая взглядом: выполнять приказ или ослушаться? Телефон безучастен, у него нет мнения по этому поводу. «Тебе решать, я всего лишь предмет».
Приказ: «Ты нам не звони, я сама позвоню, ясно?»
Пока меня удостоили только одним звонком, одним и сверхлаконичным: «Мы дома, все в порядке». И голос был не тот, без которого я чахну.
Три дня без новостей от нее. Три дня без звонкого голоска моей дочурки. Три дня, и я все еще жду, все еще покоряюсь? Хватит!
Тон у тещи сухой, суше пустыни. Она напоминает мне о запрете: я не должен звонить, Беатрис категорически против. Я с ума схожу от беспокойства? Ну и что?! После того, как я поступил со своей женой, мне не на что жаловаться! Я сразу же сдаюсь, хорошо, хорошо, я только хотел поговорить с Марион, прошу вас, мадам.
– Бенжамен, это очень серьезно. Это крайне серьезно. Мужчина, не уважающий свою жену, не заслуживает такой женщины, как Беатрис.
Ах, так? Значит, с другой это допустимо? И есть женщины, которых можно не уважать, не испытывая при этом угрызений совести? Следует перечитать Декларацию прав человека, похоже, я не все понял.
– Бенжамен, я думала, вы порядочный человек. Я разочарована. Весьма разочарована.
– Я тоже.
– Что?
– Я тоже разочарован. В вас. И хочу поговорить с Марион.
– Если вы будете говорить со мной таким тоном…
– Значит, вы имеете право говорить мне все что угодно, хотя ничего не знаете, а я должен молчать?
– Я ничего не знаю?! Не смешите меня! Я все знаю, Бенжамен! Беатрис мне все рассказала. Все!
– Что все?
– Все! Я была просто в шоке! На вашем месте мне было бы стыдно. Как вы после этого можете смотреть на себя в зеркало?
– Вот как раз смотрю. Не слишком-то это сложно, можете сами попробовать… а трубку передайте Марион.
Тишина. Потом щелчок в ухе. Теща бросила трубку. Кажется, жутко разозлилась.
Снова набираю номер. Я готов набирать этот номер до тех пор, пока не услышу тоненький голосок. Я готов надоедать им днем и ночью. Но я дозвонюсь до Марион.
– Бенжамен, нам больше не о чем говорить!
– А я хочу говорить не с вами, а с Марион.
– Мне нужно разрешение Беатрис, но она вышла.
– Я отец Марион и хочу с ней поговорить!
– Перезвоните позже.
Вот те на! А как же запрет?
– Нет, я хочу поговорить с ней сейчас.
– Беатрис права, вы грубиян. Позвольте напомнить, что я ваша теща!
Надеюсь, что ненадолго…
Что? Кто пользуется моим мозгом, чтобы так думать? Наверное, я сам, больше вроде некому… Я растерялся. Я не заметил, как у меня появилась эта мысль, судя по всему, она сидела во мне уже давно, пришла не предупредив. Я так взволнован, что с трудом понимаю: стараясь казаться хамом, непочтительным, неприятным, я добился своего. И после этого они хотят, чтобы я был учтивым? Печальный урок.
– Папа?
Меня так потряс звонкий голосок в трубке, радость так захлестнула меня, что я едва смог ее ощутить. Мы не существовали раздельно с моей радостью – тут она, а тут все остальное; я сам обратился в радость, я стал радостью, во мне не осталось ничего, кроме радости.
– Пап, это ты?
Слышать ее уже чудо. Все, что она говорит, прекрасно. Она этого не понимает, что тоже прекрасно, каждое ее слово – драгоценность.
И если я сам что-то говорю, то только затем, чтобы насладиться ответом, чтобы радоваться и радоваться ее голосу.
– Папа, пааап… А рыбки тоже писают?
Ну разве она не прелесть?
Отвечаю, что плохо разбираюсь в рыбах, но мне кажется, что рыбки тоже писают, как же без этого…
– Значит, когда я купаюсь в море, я купаюсь в рыбкиных писях?
Нет, это слишком прекрасно! Я восхищаюсь ею. Я ею горжусь. Мне такое и в голову никогда не приходило.
– Пааап… А я иногда кааак глотну морской воды. Значит, я рыбкины писи кааак глотну?
Чудо, чудо… Ликую в душе и успокаиваю дочку: воды в море так много, а рыбкины писи такие маленькие, что они с водой смешиваются, в воде растворяются, и в конце концов от них почти что ничего не остается. Поэтому она может спокойно купаться.
– Почти что – значит, немножко все-таки остается! А я не хочу купаться в Рыбкиных писях!
Ох, не знаю, сам-то смогу ли теперь плавать без задней мысли… Но как красиво она сказала!
– А бабуля с мамой говорят, что рыбки не писают!..
Так… У меня наверняка будут проблемы. Но дело и без того зашло чересчур далеко.
– Просто бабуля с мамой считают, что ты еще слишком мала, чтобы понять мои объяснения. Им кажется, только взрослый человек может понять, как рыбкины писи исчезают, смешавшись с водой. А я считаю, что ты достаточно взрослая. Сама-то ты как считаешь?
Она колеблется, потом тихонько шепчет: «М-м… угу…»
Наверное, теперь она станет обдумывать этот вопрос, то есть всерьез обсуждать его со своей куклой, чтобы кукла, которая, конечно же, все знает, сказала, что следует об этом думать. Кукла эта не из тех, которые умеют говорить, но она часто рассказывает Марион о том, что думает сама Марион. До чего же полезна такая кукла…
Как бы там ни было, у Марион будет время разобраться и понять, что же она считает, а пока малышка меняет тему:
– Па-па, я хочу, чтобы ты пири-е-хал!
Я таю. И представляю себе Беатрис – глаза вылезают из орбит, голос – как удар кнута: «Чтобы ты при-е-хал! ПРИ! Учись говорить правильно!»
– Ты хочешь, чтобы я приехал… Я не могу, мой ангел, я не в отпуске.
– Тебе ведь только надо сказать жирной свинье, что ты хочешь в отпуск…
– Дорогая, он не жирная свинья. Его зовут Эме.
Она растерялась:
– А мама говорит, что…
– Я знаю, но я хочу, чтобы ты называла его Эме, хорошо? – На этот раз пытаюсь изменить тему разговора я.
– Папа, я хочу, чтобы ты был тут!
Я таю и мучаюсь.
– Ты хочешь, чтобы я был с тобой… Я тоже этого очень хотел бы, но…
Но наш разговор обрывается, его обрывают. Является Беатрис. Я слышу ее суховатый голос, странная смесь сухости и вежливости.
– Марион, попрощайся, пожалуйста, и положи трубку.
Малышка слабо протестует. Совсем слабо. Чересчур слабо. После чего сухость резко возрастает, и мы оказываемся в абсолютно пустынной зоне – ни малейшего намека на растительность до самого горизонта, и я вижу лишь барханы, барханы, барханы, насколько хватает глаз.
– Марион, клади трубку! Сию же минуту!
– До свидания, папа…
В звонком голоске не слышно огорчения, только покорность судьбе. И привычка.
Такие люди не спорят, они приказывают.
– До свидания, мой ангел, моя феечка, любовь моя…
Дослушать ей не дают. В телефонной трубке уже короткие гудки, цензор не дремлет. Что я о ней думаю – вымарано цензором. Что я без нее скучаю – тоже вымарано цензором. И что я люблю ее – опять же вымарано цензором.
Вытираю слезы тыльной стороной ладони и кладу трубку.
Я несчастен.
У меня две руки, две ноги, я здоров, и все-таки я несчастен.
У меня чудесный ребенок, мой ребенок жив-здоров, и тем не менее я несчастен.
У меня интересная работа, я получаю за нее хорошие деньги, у меня, слава богу, прочная крыша над головой, и при всем при том я несчастен.
У меня красивая, умная жена, но я несчастен.
Многие хотели бы оказаться на моем месте, в моей постели, а я несчастен.
Я избалован судьбой, однако я несчастен.
Самое ужасное, что мне даже не стыдно.
Мой нейрон донельзя взволнован – я чувствую, что он одинок, брошен своими дезертировавшими товарищами. У меня остался только один нейрон, да и тот не знает, что делать. Ему необходимо действие, а не хандра. Ему кажется, что, если будет действие или хотя бы перспектива действия, его товарищи, покинувшие мой бездействующий мозг, сразу же вернутся. Короче: если им найдется работа, они, так и быть, вернутся, а если я буду хныкать – спасибо, нет.
Я молча соглашаюсь, я вежливо киваю. Действовать… Но как?
Учредить сообщество подвергшихся издевательствам, осмеянных и сломленных мужчин?
Похитить Марион и уехать с ней далеко-далеко, как можно дальше?
Купить аптеку, чтобы обрести покой и жить с Марион под одной крышей?
Покой? Скажешь тоже! Ты смеешься надо мной? Неужели сам в это веришь? – говорит мой разочарованный нейрон.
Тогда что?
Покориться?
Покориться, но на этот раз сознательно и зная почему?
Или же…
Или же?
Да, конечно.
Меньшее из зол. Единственное решение.
Я соглашаюсь, нехотя соглашаюсь, и мой нейрон доволен – подкрепление скоро придет.
Мое решение пугает и возбуждает меня, манит и удручает, делает меня слабым и придает мне силы.
Чтобы стать ближе к самому себе, к этому сумбуру чувств, я должен смеяться и плакать одновременно.
Что я и делаю.
13
Фотография под диваном
Она почувствовала на себе мой взгляд, подняла глаза и улыбнулась.
Я почувствовал на себе ее взгляд, поднял глаза и улыбнулся.
Мы с ней часто улыбаемся.
Теперь я знаю, что, когда она уйдет, мне будет без нее пусто. Или же пространство наполнится ее отсутствием.
Новую помощницу фармацевта зовут Сара. Это восхитительное имя. Она будет работать здесь несколько месяцев вместо сотрудницы, ушедшей в декретный отпуск. Если подумать, становится ясно: декретные отпуска слишком коротки.
«Как тебе Сара?» – спрашивает Эме. Что он имеет в виду? Отвечаю, что, по-моему, она красивая и очень милая.
Может быть, она даже слишком хороша?..
Меня не тянет к ней, дело не в этом, совсем не тянет, но… она мне очень нравится.
Она так тихо разговаривает со мной, как будто признается в самом сокровенном. Она так улыбается мне, как будто счастлива меня видеть.
Нет, разумеется, я не занимаюсь самовнушением, не стараюсь себя обмануть, вовсе не стараюсь. Нет-нет, она всего лишь хорошо ко мне относится.
Я чувствую, что я ей симпатичен, о таких вещах всегда догадываешься. Она прекрасно знает, что нравится мне: это сильнее меня, я ищу встречи с ней.
Это взаимная симпатия, вот и все.
Нет-нет, я не собираюсь встречаться с ней вне работы, не стоит все смешивать. Нет-нет, это было бы двусмысленно, она бы подумала, что у меня есть какие-то намерения… и это испортило бы нашу дружбу. Мы не друзья, я знаю, мы всего лишь коллеги, но это не мешает испытывать дружеские чувства.
Недавно, уж не помню по какому поводу, мы смеялись как сумасшедшие. Мы рыдали от смеха, а когда наконец успокоились и смогли посмотреть друг на друга так, чтобы снова не рассмеяться, нам почудилось, будто мы очень давно и близко знакомы, будто у нас есть что-то общее. Это был приятный, счастливый момент… Нам оказалось приятно не только хохотать вместе, нам оказалось приятно и то, что потом… особенно то, что потом.
С того дня мы как будто бы заключили договор о дружбе. Когда ты вот так с кем-нибудь смеешься, то ощущаешь, что между вами устанавливается согласие, возникает близость.
Думаю, есть мужчины, которые спят с женщинами, не испытывая такого сильного ощущения близости, какое мне было дано в тот день.
Странная мысль, сам не знаю, почему мне от нее никак не отделаться, сам не знаю, почему я все время возвращаюсь к ней: мы с Сарой намного ближе, чем некоторые любовники.
Нет, знаю почему. Мне уже давным-давно не было и никогда больше не будет ни с кем хорошо в постели. Я слишком стар для этого. Слишком истрепан. Во мне нет ничего, что могло бы понравиться женщине. Но пусть я не способен быть любовником, я могу быть другом.
Да, вот именно, только это и ничего больше – я хочу быть ее другом. Таким, как друзья детства, которым доверяют тайны, секреты, которым можно сказать все. Близким другом.
Я смотрю на нее, хочу или не хочу – все равно смотрю, это происходит помимо воли, просто так само собой получается. Я смотрю на нее часто и подолгу. На нее приятно смотреть. У нее довольно непослушные волосы, они всегда чуть-чуть растрепаны, они словно бы приплясывают на голове. У нее такой маленький хорошенький носик, что его хочется съесть – едва хватило бы на один укус. У нее полные губы, созданные для того, чтобы их целовать. Нет, не мне, я даже не думаю об этом. Ее губы заслуживают поцелуя кого-нибудь стоящего, а не такого бесцветного существа, как я, – тут у меня никаких иллюзий…
– Она тебе нравится, да?
Я вздрагиваю.
Это голос Эме, конечно, это он спросил.
Не уточняя, о ком это он, отвечаю «да, конечно». И, поскольку он молчит, добавляю: «Она симпатичная».
Она симпатичная… Открываю дверь, чтобы выйти из аптеки, а в голове эти слова. Не знаю почему, но в сказанном есть что-то грустное, бесконечно грустное. И тут я замечаю, что Сара здесь, рядом. Придерживаю дверь, пропуская ее вперед, и выхожу следом за ней.
Мы стоим на тротуаре, и, пока она со мной прощается до завтра, я ловлю ее взгляд.
Странно. Я слышу: «До завтра?» – со знаком вопроса. И, сам того не сознавая, отвечаю на этот ее вопрос – «нет».
– Сара, а сегодня… а сегодня у тебя найдется немного времени?
Она улыбается:
– Думаю, найдется… А что?
И тогда… получилось, как будто я тайком подготовил свою речь и отрепетировал ее. То, что произошло потом, не укладывается у меня в голове. Я говорю, что живу в двух шагах отсюда и не выпить ли нам по бокалу вина у меня дома, мне это было бы приятно.
А она… она, без минутного колебания, откликается такой же, словно бы давно готовой фразой:
– С удовольствием. Если у тебя есть время.
Есть ли у меня время? Раз я приглашаю ее к себе, значит, у меня есть время. Я отвечаю на вопрос, который она мне не задавала, но который я услышал. Говорю, что сейчас живу один, что моя дочь ненадолго уехала с матерью.
– А обычно дочка живет с тобой?
– До сих пор было так…
Тон у нее становится менее решительным, и моя решимость, кажется, тоже убывает.
– Ты… ты не женат?
– Уже почти не женат.
Я сказал слишком много или слишком мало.
Со свойственным мне занудством я пускаюсь в неловкие объяснения. Как раньше в школьных сочинениях, мне не удается раскрыть тему, но я говорю от чистого сердца. Говорю, что у нас с женой не осталось ничего общего, а думаю, но не говорю вслух: «Главное, любви». Говорю, что жена решила со мной развестись и это пришлось очень кстати, потому что быть с ней мне уже нестерпимо. Говорю, что снял обручальное кольцо не для того, чтобы считали холостяком, это символический жест. Говорю, что моя будущая бывшая жена хочет забрать у меня дочку и увезти с собой, далеко, очень далеко.
Я говорю медленно, и идем мы тоже медленно. Я чувствую на себе ее взгляд, и это придает мне сил рассказать о своей слабости. Пусть она знает.
Я говорю, что был тяжело ранен, но сейчас начинаю выздоравливать.
Она улыбается.
Она улыбается! Я говорю ей, что я наполовину конченый человек, а она улыбается!
Открываю дверь квартиры и веду ее в гостиную.
Едва войдя, она замечает фотографию Беатрис – от этого снимка никуда не деться, он стоит так, чтобы отовсюду было видно. Она замечает фотографию Беатрис, которая хочет быть здесь, когда ее нет, и которая хочет, чтобы ее было вдвое больше, когда более чем достаточно и одной.
– Это она? – спрашивает Сара.
– Была она.
Хватаю фотографию и швыряю ее под диван. Слишком поздно, Сара успела разглядеть женщину на снимке. Или ей кажется, что разглядела. Ей кажется, будто она видела мою жену. Но нет, она видела всего лишь облик моей жены, только она этого не знает. И, как другие женщины, увидевшие этот снимок, тут же почувствовала себя невзрачной, ничтожной, этакой серенькой мышкой. Ей еще повезло: некоторые чувствуют себя попросту безобразными, настоящими уродинами. На это и рассчитывает Беатрис. Одна лишь Одиль сумела к этому приноровиться. Но Одиль… Да ладно, бог с ней.
– Она очень красивая, – тихо и задумчиво говорит Сара.
Еще бы ей не задуматься, вполне понятно: разве нормальный мужчина захочет развестись с такой женщиной?
А я думаю: как раз нормальный мужчина и не останется с такой женщиной. Но это так долго и так тяжело объяснять.
Мое молчание ее удивляет:
– Ты считаешь, она некрасивая?
– Теперь – считаю. Нет, конечно, она красива, но только внешне. А внешности я больше не вижу.
– Внешне? – по-прежнему задумчиво повторяет Сара.
Начинаю на себя злиться – вот уж чего не хочется, так это чтобы она увидела во мне любителя все усложнять. Именно теперь – когда я впервые не опасаюсь женщины… Когда мне почудилось, что одна-единственная женщина способна примирить меня со всеми другими (ну, скажем, почти со всеми). Я ведь вот-вот мог вообще стать женоненавистником. У меня ведь в конце концов зародилось подозрение, что каждая женщина – потенциальная Беатрис. И это переросло в болезнь, и даже самые на вид простодушные, самые безобидные, думал я, втайне ведут игру и истинную себя показывают лишь самым близким. Я так часто наблюдал, насколько Беатрис очаровательна в обществе, что каждая очаровательная женщина немедленно подпадала под подозрение (а каждая ворчливая, раздражительная или молчаливая женщина казалась, наоборот, порядочной). А рядом с этой женщиной я выздоравливаю. Я не вижу у нее никакой двойной игры, никакой оборотной стороны медали, она ничего не прячет. И при этом очаровательна…
До чего же трогательно она идет за мной на кухню, смотрит, как я достаю бокалы, присоленные печенюшки, лед… До чего трогательно следит за мной глазами. Стараюсь двигаться помедленнее, ох, с какой радостью я провел бы за приготовлением этих коктейлей всю оставшуюся жизнь! Только ради того, чтобы она была рядом, чтобы она была со мной.
Как мило она бросает на меня внимательный, заинтересованный взгляд… И под этими взглядами я бы тоже охотно провел всю оставшуюся жизнь.
Но вот уже все готово. Ей хочется портвейна, и на этот раз я следую ее примеру: я хочу пить то же самое, что она.
Мы возвращаемся в гостиную, и я начинаю волноваться, видя, что она устраивается в кресле Беатрис. Так дело не пойдет. Совсем не пойдет!
Беру ее за руку и тихонько тяну, чтобы она встала, а когда она встает – показываю другое кресло. Она не протестует.
Только спрашивает: «А там – это ее место?»
Кивок – и тема закрыта. Я благодарен Саре, я ей бесконечно признателен.
Она интересуется Марион, задает кучу вопросов о моей дочке, а после этого странным голосом говорит, что не может иметь детей и начала собирать бумаги для усыновления. Потом, уже спокойнее и суше, добавляет, что одинокому человеку усыновить ребенка сложнее, чем супружеской паре.
Я советую ей выйти замуж, она улыбается. Я настаиваю:
– Ну почему бы не выйти?
Она говорит, что с нее хватит одного раза, и возвращается к Марион.
Она тщательно подбирает слова, похоже, она боится меня задеть. Я странно себя чувствую, я отвык от деликатности. Я подумываю, а не снится ли мне все это.
Ее тревожит наша разлука с Марион:
– Наверное, тебе ужасно тяжело быть так далеко от дочки…
– Да… но не легче, хотя и по-другому, жить со своим ребенком под постоянным надзором. Я жил в тюрьме без решеток. Зато теперь, когда мы станем видеться с Марион, пусть даже неподолгу будем видеться, я буду свободен, спокоен, и мне не придется больше все время контролировать свои слова, поступки и жесты. Конечно, наши встречи с малышкой всегда будут слишком короткие, но все равно так в тысячу раз лучше.
Спасибо Плутарху: без него я никогда бы не пришел к этому выводу. Но пока я на Плутарха и не намекаю, пока я даю Саре понять, что принял решение самостоятельно. Если бы я сказал ей: «Благодаря Плутарху я попытался воззвать к своему разуму, и разум помог мне прийти к такому выводу», она подумала бы: «Господи, какой же он странный…» Хватит и того, что…
Она меня слушает. До чего серьезное лицо, до чего внимательный взгляд… Я смущен. Я не заслуживаю такого интереса. То, о чем я рассказываю, настолько банально. Обычные невзгоды обычной супружеской пары… Она спрашивает, могу ли я рассчитывать на поддержку друзей, ведь если они меня поддержат, мне не будет так одиноко.
Я столбенею.
На поддержку друзей? Каких друзей? Раньше у меня были друзья, просто замечательные друзья. А теперь у меня есть только друзья Беатрис, то есть вообще нет друзей. Мои оказались недостаточно хороши: бывшие однокурсники, жалкие аптекари… ни одного Барана или кого-нибудь в этом духе. В свое время я познакомил Беатрис со своими друзьями, но они не очень-то ей понравились. Мы стали видеться реже. Все реже и реже. Потом совсем перестали видеться. Я каждый год посылаю им поздравительные открытки, они мне отвечают… вот и все, что осталось от нашей дружбы. Ба!.. Ведь я могу стать другом Орельена.
Но я не хочу посвящать в это Сару и сворачиваю разговор, не хочу, чтобы она заскучала.
Странно… Как быстро бежит время, когда мы вместе…
Она встает – и я чувствую себя обездоленным. Надо что-нибудь сказать… Что-нибудь такое, что заставило бы ее вернуться… Что-нибудь такое… Я не знаю, что сказать, я теряюсь… Она сейчас уйдет, а я стою дурак дураком и не могу вымолвить ни слова.
Я говорю – и мне так неловко, будто я пятнадцатилетний мальчишка и хочу пригласить девушку на танец, – говорю, что мне приятно было с ней посидеть, и чудесно было с ней поболтать, и хорошо бы нам снова увидеться… Вот бездарь!
Она отвечает «да» и загадочно улыбается. Что «да»? «Да, мне тоже было бы приятно»? Или «Да, я с тобой согласна»?
И вдруг… Не знаю, может, это оттого, что она так смотрит на меня, так чудно и так чудно, знаю только, что сопротивляться не могу, знаю всей душой и всем телом: я должен обязательно, хотя бы раз в жизни, обнять эту женщину. Хотя бы один раз… если она меня не оттолкнет.
Я боюсь и хочу. Хочу и боюсь. Я подхожу к ней, я уже совсем близко, она не шевелится. Еще ближе, она не уворачивается. Я больше не боюсь. Я обнимаю ее, привлекаю, прижимаю к себе.
Она в моих объятиях, вот и все. Это много.
Я прижимаю ее к себе и молчу, так лучше. Слова в такой момент только все испортили бы. Тело к телу, это ласка, это сила, это потрясающе. Я потрясен.
Мне хочется любить ее – неторопливо, нежно, нескончаемо. Мне хочется любить ее не так, как полагается, а по-своему, так, чтобы хорошо было нам обоим. Как будто наши тела знают то, чего не знаем мы. Я хочу ее, я хочу ее весь целиком, не только эта жалкая, внезапно пробудившаяся часть меня – все мое тело охвачено желанием, мои руки, ноги, спина, вся моя кожа. Я оглушен.
А хочет ли она меня? Или я это придумываю, потому что сам так ее хочу? Нет, зря я надеюсь. Она обнимает меня по-дружески, не так, как если бы любила. Вдруг?.. Может быть… Может быть, она вот так водит руками по моей спине – сначала тихонько, потом все сильнее, – потому что и ей хочется более тесных объятий, хочется соприкоснуться кожей?..
Но разве женщина может хотеть такого типа, как я?
Впрочем, вот она уже и отстраняется, наверное, боится, как бы этот затянувшийся порыв, эта телесная близость, это самозабвение не стали двусмысленными. А мне было так хорошо. Шаг назад и смущенная полуулыбка. Я вижу, она уже раскаивается в том, что позволила себе увлечься. И я казнюсь – из-за того, что не успел ее поцеловать.
Как хочется, чтобы она осталась. Как хочется сказать ей об этом, но – не решаюсь. Не хочу смущать ее еще больше. Обнять – да, стеснять – нет. Я не могу решиться и… и проклинаю себя за то, что не могу решиться.
Предлагаю проводить ее до дома, она прелестно качает головой.
На пороге она оборачивается – как будто что-то у меня забыла, что-то такое, о чем только сейчас вспомнила. Странно смотрит на меня и странно говорит:
– Я начинаю к тебе привязываться… Как ты думаешь, это опасно?
Я слышу эту фразу, она продолжает звучать во мне, таинственная, загадочная фраза. И все-гаки я отвечаю:
– Нет, это не опасно, совсем не опасно…
Полуулыбка… Не знаю, что означает ее полуулыбка. Я знаю, что она уходит. И это все, что я сейчас знаю: Сара уходит, а я остаюсь.
Остаюсь наедине со странной фразой. Я хочу разгадать эту тайну, понять, что скрывается за словами.
Сажусь на пол.
Мне надо сесть на пол, чтобы разобраться в этой фразе. Да, непременно надо сесть на пол. Так что она сказала?
«Я начинаю к тебе привязываться… Как ты думаешь, это опасно?»
Пусть мысли текут свободно. Поток сознания. Будто кран открыли.
Я разучился любить. Я забыл, как это делается. Смогу ли я вспомнить? Может ли такое со мной случиться? Вряд ли. Слишком прекрасно для меня. Я этого не заслуживаю. И я ужасно, ужасно боюсь ее разочаровать.
Как я выгляжу совершенно голый? В последнее время я немного поправился… наверное, от пиццы. Слишком поздно. Десять лет назад я был еще ничего. И потом, я же не сумею… Есть такие жесты, такие движения… ну… они чересчур интимные… Представлять их себе – почти мучительно, настолько это интимно… А я такой неуклюжий…
Хватит об этом думать, вот тоже размечтался, забудь об этом.
Но эта фраза…
Я рассуждаю, сидя на полу. Я жду, когда тайна раскроется. И вдруг меня озаряет! Я понимаю смысл этой фразы, у меня есть перевод, я наконец нашел выход из положения…
Я встаю.
Мне недостает самой малости для полного счастья.







