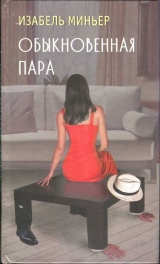
Текст книги "Обыкновенная пара"
Автор книги: Изабель Миньер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
3
Пасем Баранов
Едва супруги Баран вошли в гостиную, я понял, зачем нам так срочно понадобился журнальный столик, – показать гостям. Беранжер Баран сию же минуту его замечает. А как может быть иначе – глаза-то ведь у нее не завязаны…
– Ой, какой у вас столик красивый!
Беатрис улыбается. Она обрадовалась… или успокоилась?
Бараны славятся хорошим вкусом – и большими деньгами.
– Знаете, я влюбилась в него с первого взгляда! – отвечает Беатрис, победоносно глядя на меня.
(Не думаю, что и ко мне у нее была любовь с первого взгляда; впрочем, когда-то, может, и была, но она уже забыла.)
Слава богу, Баранам столик нравится.
Они говорят о мебели, я молчу, меня не интересует эта тема, ну, не очень она меня интересует; меня, кроме лекарств…
Беатрис бросает мне красноречивые взгляды: я должен участвовать в разговоре – одних кивков мало. Я меняю тему, спрашиваю, как их дети. Спасибо-спасибо, маленькие барашки чувствуют себя хорошо.
Заходит Марион – надо поздороваться с гостями, здоровается, прощается, и я с облегчением веду ее спать. До того я боялся, что Беатрис захочет уложить дочку сама, и не был уверен, что смогу поддержать беседу с Баранами.
Наедине с Марион, какая радость… Я бы потянул время, я с удовольствием спел бы ей песенку, но Марион уже засыпает, аккуратно сложив ручки, изящно положив на них голову и закрыв глаза. Поезд тронулся, и мне больше нечего здесь делать. Я остался один на перроне, и я ухожу.
За столом я открываю бутылки, разливаю вино, передаю блюда… и стараюсь прислушиваться к разговору. Я чувствую себя здесь иностранцем. Как будто этот язык для меня неродной и мне доступны лишь отдельные слова. Только-только чтобы выжить.
Я чувствую себя чужим. Между нами невидимая граница.
Так часто бывает в детстве, когда задумываешься, что ты делаешь среди людей, которых и наполовину не понимаешь, и говоришь себе: вот вырасту – и все изменится. Но когда ты давно уже взрослый и по-прежнему не знаешь, что ты здесь делаешь, все по-другому: теперь уже никакой надежды, теперь – будто ты обречен ощущать свою отделенность от других.
Как заставить себя интересоваться тем, что тебя не интересует? Ну, пытаюсь, ну, заставляю себя: давай же, Бенжамен! Я беру себя в руки, применяю формулу Эмиля Куэ[2]2
Эмиль Куэ (1857–1926) – французский психотерапевт, ставший знаменитым благодаря развитому им методу самовнушения («метод Куэ»), при котором пациенты вводятся в гипнотическое состояние и обращаются друг к другу со словами: «Каждый день, с каждым шагом мне становится все лучше и лучше». В 1882–1910 годах работал аптекарем.
[Закрыть] – в общем-то, мы коллеги, он тоже был фармацевтом, – убеждаю себя, что все хорошо, что с каждым шагом все становится лучше и лучше, и наконец удается немного заинтересоваться происходящим.
Они говорят о деньгах: не стоит, мол, придавать им, равно как и вещам, большого значения. Я соглашаюсь, что не стоит, – ерунда это все. Мадам Баран сетует, что для промышленников, фирмачей и бизнесменов главное как раз деньги. Я удивляюсь: разве это не профессиональная среда ее мужа? Да, да, вот именно, она знает, о чем говорит: деньги, одни лишь деньги – рентабельность, экономия, инвестиции, развитие… Только у господина Барана есть морально-этические нормы, он ставит человеческие ценности выше денег, – славный он малый, этот Баран.
– Бенжамен, а в вашей профессиональной среде, наверное, те же проблемы?
– Ну… – начинаю я. Но, повернувшись к мадам Баран, чтобы ответить, вдруг вижу только одно – кудряшки на ее голове. Она завита, как… Это сбивает меня с толку, и я приступаю снова: – Ну… что касается меня, то я служащий, меня не волнуют инвестиции и развитие. А вот если бизнесмен не стремится разбогатеть, он, мне кажется, очень скоро перестанет быть бизнесменом, попросту потеряет свой бизнес.
– Увы, – вздыхает мадам Баран.
Потом вдруг улыбается мне:
– Так когда же, Бенжамен, вы вступите в игру?
– Когда я вступлю – куда? В какую еще игру?
– Не притворяйтесь невинным младенцем! Вы ведь тоже хотите… вложить деньги.
– А-а-а, на бирже играть, что ли? Так я в этом ничего не понимаю.
– Да ну ладно, я о том, что вы хотели купить аптеку. Вам, наверное, не терпится стать хозяином.
И она тоже? Почему у всех только и заботы, чтобы я купил аптеку? Вот стал бы я учителем, как мечтал отец, – никто бы не заставлял меня покупать школу.
– Ну… я не уверен, что готов к этому.
Беатрис сразу же принимает эстафету: говорит, что необходимо изучить рынок, сравнить, продумать финансовое обеспечение… Ее послушать, так нет ни тени сомнения, не век же мне быть служащим, у меня хватит честолюбия, чтобы избежать этой рутины.
Понятно. Я всего лишь продавец лекарств. Фармацевт – это не модно, это не шикарно, это не убивает наповал… Приличный человек не может быть фармацевтом… разве что у него своя лавочка. Ах да, простите, своя аптека.
Беатрис – художественная натура, я – торговец… Должен ли я этого стыдиться?
Я фармацевт, потому что мой папа им не стал. Мой отец был провизором, и все свое детство я слушал, как он ругает идиотов-аптекарей, которые делают то же, что он сам, а получают вдвое или втрое больше, вдвое или втрое – это зависело от степени его гнева.
Все детство я слушал, как честят почем зря фармацевтов – директоров, начальников, а стало быть – тупиц, болванов, кретинов. И мне захотелось стать фармацевтом.
Когда я подал документы на факультет фармацевтики, мой отец-провизор не был к этому готов – он хотел видеть меня учителем или санитаром, такой предлагался выбор. Узнав о моем решении, он грубо меня одернул: тебе никогда не пройти по конкурсу, ты не настолько трудолюбив. Вот те на! Значит, фармацевты уже не лодыри, только и знающие, что слоняться без дела, не сачки!
Я и впрямь не был трудягой, но пересилил свою натуру. Я хотел выдержать конкурс назло отцу. Он позеленел от ярости, узнав, что сын обманул его ожидания, перешел на сторону врага и станет жалким фармацевтом. Я даже подумываю, а не желал ли он моей смерти, пока я учился, ведь случись так – он никогда, никогда не имел бы сына-фармацевта.
Мать же считала, что это хорошая профессия, потому что она хорошо оплачивается и не утомительна, но стоило ей высказать свое мнение вслух – отец произнес целую речь о легендарной и неоспоримой лени фармацевтов.
Когда я получил диплом, отец мгновенно переменил тактику и стал повсюду хвастаться сыном-фармацевтом. Это было тягостно. Он представлял меня людям, всем подряд, знакомым и едва знакомым, – «мой сын-фармацевт!». Лучше бы он говорил «мой сын Бенжамен» и так же при этом мною гордился. Но нет, ему это и в голову не пришло.
А теперь он поддакивает Беатрис: я должен стать хозяином аптеки, это отец-то, который всегда проклинал любое начальство. Он наводит для меня справки, разрабатывает планы финансирования… и считает меня неблагодарным. Мне полагалось бы испытывать признательность: спасибо, папа, огромное спасибо за все, что ты для меня сделал, и бла-бла-бла. Ну и в завершение оскомину набившее: как же мне повезло, что жена меня поддерживает, толкает вперед…
Беатрис расхваливают за каждым семейным обедом. Моя мать возносит ее до небес: Беатрис такая элегантная – ей все идет, – Беатрис пишет такие замечательные рассказы для детей, Беатрис такая живая, такая умная… Беатрис просто святая! В конце концов у меня возникает странное, сбивающее с толку чувство, что скорее она – их дочь, чем я – их сын. Это не ревность, потому что мне не очень хочется быть похожим на Беатрис, нет, совсем другое чувство – странное чувство, от которого становится не по себе.
Когда я был маленьким и получал плохую оценку или делал какую-нибудь глупость – в общем, если я боялся разочаровать родителей, окончательно их разочаровать, я спрашивал у матери, смогут ли они поменять ребенка. Позволяется ли родителям возвращать неудачных детей и брать вместо них других, хороших. Ответ был один, всякий раз один и тот же, но мне необходимо было его услышать: нет, нам нельзя поменять ребенка, мы оставим себе того, который у нас есть.
Так вот, родители меня обманули. Они вдруг взяли да и поменяли ребенка. Если бы я был маленьким, я бы почувствовал себя брошенным, а теперь мне только не по себе. Вот вам и преимущество возраста.
Когда родители напропалую расхваливают Беатрис, нередко сопровождая комплименты сравнениями не в мою пользу, мне становится нехорошо и я тихонько шепчу маленькому мальчику, которым когда-то был: «Да не слушай ты их, это чушь, сами не знают, что говорят, ты же понимаешь!» Ты же понимаешь…
Очаровательная, прекрасная, великолепная Беатрис… Им уже не хватает для Беатрис эпитетов – скоро придется искать синонимы в словарях.
Но один из всех этих более чем лестных отзывов, излюбленный отзыв с годами почти не меняется. «Ох, какая же у нас Беатрис классная!» Вариации незначительны: «Второй такой классной невестки не найти!», или «Уж кто-кто, а она точно классная, наша Беатрис!», или «Да уж, эта женщина – первый класс!» Они словно бы прикипели к этому выражению, в привычку вошло.
Зато у меня с ним не связано ничего приятного. Слово «класс» напоминает мне школу, напоминает об иерархии, которую установили между людьми: есть люди первого класса и все остальные, те, кто не путешествует вместе с первым, – осторожно, не надо всех валить в одну кучу.
Нас с Беатрис уж точно в одну кучу не свалишь: она – божий дар, я – яичница; она – классная, я же не делаю ни малейшего усилия, чтобы таковым стать.
Когда мои родители превозносят Беатрис, как не вспомнить, что вначале они восприняли мой рассказ о ней безо всякого восторга. Я тогда упомянул – мимоходом, в числе прочего, – что она всего несколько лет живет во Франции, а детство и юность провела в Гваделупе.
Это чистая правда: когда-то отец Беатрис, в то время молодой чиновник, прельстился экзотикой и попросил перевода в заморские страны. Получив пост в Бас-Тер, он привез туда жену… и сделал все, чтобы там остаться.
Подросшую Беатрис, в свою очередь, одолела унаследованная от отца жажда странствий, но она захотела учиться в метрополии – и на этот раз экзотика оказалась по ту сторону океана, хотя… хотя в случае Беатрис экзотика состояла еще и в том (или прежде всего в том?), чтобы уехать подальше от матери.
Но я не стал излагать родителям все эти подробности, рассказывая о девушке, которая мне нравится. И они отозвались сдержанно, как и полагается воспитанным людям, – просто посоветовали мне быть осторожнее: у нас, конечно же, «разная культура», и несмотря на то что она очаровательна («да нет, мы в этом не сомневаемся, ни на секунду не усомнились, что ты там себе вообразил?»), все же надо бы погодить. Помню, как я злорадствовал, пока они говорили. А потом они спросили, «типична ли она», и я сказал, что не очень.
А потом я познакомил родителей со своей «антилькой»[3]3
Жительницей Антильских островов.
[Закрыть] – так они ее заочно окрестили, – и каково же было их изумление, когда девушка оказалась белой. Даже не загоревшей. Белой, совершенно белой. Кожа светлее моей. Кроме того, она оказалась красоткой (я их предупреждал, но поскольку они были убеждены, что любовь слепа, то не обратили на это внимания), и не просто красоткой: она была очень красива, элегантна и… и классная во всех отношениях.
С тех пор меня больше не просили погодить. Наоборот. Девушка – само совершенство, мы друг другу нравимся, чего же я жду? «Ты пойми, дурачок, стоит тебе замешкаться – и такую красотку вмиг уведут у тебя из-под носа, у нее наверняка хватает поклонников!» Они считали: если я не потороплюсь «такую красотку» окольцевать, для нее это будет обидой, даже оскорблением. И для них тоже: они привязались к Беатрис, им не терпится, чтобы она вошла в нашу семью.
Мне кажется, я женился, чтобы ни с кем не спорить. Все равно мы собираемся жить вместе, ну и какая тогда разница – носить кольцо или нет?
Беатрис говорила мне, что свадьба для нее – это публичное объяснение в любви, и выходило это у нее очень мило. Еще она говорила, что раз мы не спешим под венец, значит, попросту боимся взвалить на плечи бремя любви; потом, слово за слово, постепенно нагнетая, принималась утверждать, будто мы этой любви стыдимся, а дальше выходило, что мы не любим друг друга по-настоящему, и – окончательный вывод: значит, мы вообще не любим друг друга. «Если бы ты меня любил, ты бы хотел на мне жениться». Тут ее глаза заволакивались слезами, и я чувствовал, что если не поспешу надеть кольцо на ее изящный пальчик, то заставлю ее страдать. А только чудовище может проявлять жестокость, видя слезы на таких прелестных глазках.
Порой я задумывался о том, чем заслужил подобную честь. Вокруг полно было парней куда ярче меня, так почему я? Позже я понял… Я постепенно начал это понимать, когда уже ничего не мог изменить… Ставки были сделаны. А ведь ответ напрашивался сам собой: потому что я серый. И не способен ее затмить. И не только из плоти и крови, но и из теста, из которого можно вылепить, что пожелается.
Меня не пришлось долго упрашивать – я женился. Красавица невестка стала для моих родителей как бы вторым ребенком, хоть и не они ее выбрали. Красота – страшная сила. Красивый всегда кажется умнее, милее и приятнее других. Красивый легко получает привилегии, – что до меня, я бы предпочел их упразднить.
Сказать мне в глаза, что я не заслуживаю такой жены, как Беатрис, мать не решалась, но она так явно это подразумевала, что получалось, наверное, еще хуже. «Тебе повезло, что тебя заметила такая классная женщина!»; «Что только она в тебе нашла?» Как-то вечером я, отбросив всякое стеснение, спросил: «Она слишком хороша для меня, да? Я такой урод? На меня смотреть противно?» Мать возмутилась: вовсе нет, я не понял, я очень даже ничего, и со мной вполне можно появляться на людях, и вовсе я не урод, а симпатичный парень, просто она думала, что у меня будет более обычная жена, – нет, не глупая, не страшная, конечно же нет, но… как бы это сказать… такая, как другие…
Могу ли я сердиться на родителей? Как упрекать их в том, в чем сам грешен? Я такой же, как они, когда-то меня, как и их, привлекало все, что блестит, и я верил обещаниям витрины, не заходя в магазин. Я был как ночная бабочка, которая теряет рассудок, зачарованная светом, – он такой красивый! – и доверчиво летит на огонь, не задумываясь о том, что может сгореть. Кажется, дело пахнет керосином. А может, от первоклассного блюда мне достаются одни объедки? Стоп, я отвлекся от ужина. Вернемся к нашим Баранам.
Вдруг… почему это они все встали? Еще ведь только-только одиннадцать пробило! А-а-а, понял, дошло! Бараны, должно быть, рано ложатся или спешат вернуться в овчарню к своему стаду.
Я тоже встаю. Благодарности, поцелуи, похвалы последней книжке Беатрис (сколько в ней фантазии!), новому журнальному столику (отличный дизайн!), ужину (объедение, экая вы искусная кулинарка!).
Свою точку зрения по поводу «искусной кулинарки» Беатрис мне объяснила: вовсе она не врет, она никогда не врет, она же не говорит: «Это я приготовила», а гости пусть думают что хотят. Ну, промолчала, но совесть-то чиста: промолчать – не солгать.
Я бы предпочел, чтобы она лгала открыто, мне кажется, что так было бы гораздо честнее.
Бараны уходят.
Я остаюсь.
И поддаюсь соблазну, мне не терпится ему поддаться. Едва за гостями закрывается дверь, я, будто огорченный их уходом, слабым голосом блею:
– Бееее…
– Ага, наконец-то проснулся!
– Но не мог же я блеять за столом…
Она пожимает плечами и закатывает глаза – порядок действий строго соблюдается. Похоже, она это отрепетировала. Впрочем, ей часто приходится упражняться.
– Бенжамен, весь вечер меня одолевали сомнения, жив ты еще или как!
Меня тоже. Вот и доказательство, что у нас много общего.
– Беатрис… мне бы не хотелось, чтобы ты столько говорила о покупке аптеки, это несколько преждевременно…
– A-a-a, вот в чем дело! Вот почему ты так выглядел! Прости, Бенжамен, но я говорила об этом только как о планах и не называла никаких сроков.
Хоть на этом спасибо.
Я убираю, ты убираешь, она убирает, мы убираем… Пока я про себя твержу глаголы во всех лицах, она комментирует вечер, и приходится время от времени кивать. Она права: я уже отчасти покойник. В этом есть положительный момент: заканчивая умирать, я просто перейду на другой уровень, еще один шаг – и мир моему праху. Я успею привыкнуть. Чуть больше умереть или чуть меньше – перемены едва ощутимы.
– Бенжамен, сядь, пожалуйста, на минутку.
– Мы что, уже закончили? Я хочу сказать – все убрали?
– Да… Мне надо с тобой поговорить.
– Сегодня? Я знаю, я должен купить аптеку. Давай поговорим об этом в другой раз. Я смертельно устал…
– Да-да, именно об этом я и хотела с тобой поговорить: с тобой неладно, Бенжамен.
– Хочешь, чтобы я сходил к врачу?
– Нет, я имею в виду состояние психики. Ты всегда не в своей тарелке, у тебя отсутствующий вид, ты витаешь в облаках…
Пока она меня описывает, я не витаю в облаках – я тупо смотрю на свои ботинки. Хм, это уже интересно. Она вовсе не думает, что я пустой, наоборот, убеждена, что я полон, полон до краев – тоской, подавленными желаниями, недомолвками, и все это связано исключительно с моим детством. Полон выше крыши, и она считает, что вот-вот сорвусь.
Может быть. А у кого нет скелетов в шкафу? Мне кажется, у каждого в избытке. Только это не наполняет, а опустошает еще больше.
– Бенжамен, это кризис среднего возраста, это же классика для сорокалетних! Но ты должен взять себя в руки.
Я тут же схватил себя за руку, как в прошлый раз в машине.
– Я не шучу, Бенжамен. Тебе надо кое-кого навестить.
– Кого это?
– Психолога. Для твоего же блага, Бенжамен.
А-а-а… А я-то подумал, она просит меня завязать роман с другой женщиной. Я немного разочарован. Но раз уж надо к кому-то пойти, пусть это будет женщина. Тогда, может, она пошлет меня к женщине-психологу?.. Оказывается, нет! Оказывается, я должен пойти к мужчине. К очень хорошему врачу – и опять же, для моего блага. К доктору, которого ей рекомендовали и который добивается у-ди-ви-тель-ных результатов со своими пациентами. И будет очень жаль, если я у него не проконсультируюсь. Кому будет жаль? Она надеется, что этот тип посоветует мне купить аптеку?
Она навела справки, все узнала по телефону… Беатрис протягивает мне бумажку, на которой все записала: фамилию, адрес, телефон, часы приема и гонорар…
– Позвони ему. Бенжамен!
– А если я его разбужу?
– Да не сейчас, конечно! Но не откладывай.
– Посмотрим…
– Раз ты говоришь «посмотрим», значит, не пойдешь. Так скажи по крайней мере честно, Бенжамен… Ты отвечаешь на то, что я предложила, или просто так говоришь? Ты никогда меня не слушаешь.
Ее голос вдруг затих и стал жалобным, я с трудом могу различить только:
– Меня убивает твое безразличие…
Она смахивает слезу таким восхитительным, таким обезоруживающим жестом, что я мгновенно чувствую себя неловким, грубым и черствым.
Я осторожно, стараясь не сломать, беру руку жены и слегка касаюсь ее губами. Как назло, нужные слова никак не идут на ум.
– Я… Я не хотел… Я не хотел тебя обидеть…
Она повторяет свой изысканный жест. Ей удается так грациозно вытирать глаза тыльной стороной ладони, едва касаясь век. Как она это делает?
Слабеньким – вот-вот надломится – голоском она отвечает:
– Ничего, Бенжамен… Я ведь только для твоего же блага… Делай как знаешь… А я… я уже ничем не могу тебе помочь.
Ее голос совсем угасает, а рука вновь пускается в свой изысканный танец.
Ах, если бы стать ее глазами, чтобы она вот так прикасалась – ко мне.
4
Фрейдистский амулет
Приемная врача – как зал ожидания. Я жду.
В песочных часах – минуты моей жизни, это они медленно, но верно утекают, а я сижу и жду.
Разве мы все и всегда не находимся в зале ожидания? Только песочные часы у каждого свои, и они по-разному наполнены. И зал ожидания у каждого свой. Но все ждут и при этом чем-то занимаются.
Что я здесь делаю?
Нельзя ли мне было подождать в другом месте? Сколько песка в моих песочных часах? А Марион?.. Какой ужас! Марион для меня вечная: я всегда буду знать ее живой, – но я смертен. Я смертен для нее. Я бы умер прямо сейчас, лишь бы заполучить уверенность, что умру раньше нее.
Я вздрагиваю.
И понимаю, что меня окликнули. Я дождался, подошла моя очередь. Разве не так реагируют, когда падает последняя песчинка, в самом конце ожидания, – уже?
Я покидаю зал ожидания; у меня в голове, словно песчинка, крутится ироничная мысль: неужели я умер, даже не заметив этого? А тот, за кем я следую, сам Господь Бог? Если бы мне предложили стать Богом, я бы отказался: слишком большая ответственность. Мало того, что…
Итак, я иду за ним. Он закрывает дверь.
– Садитесь, пожалуйста.
Я смотрю на психолога: серый костюм, седые волосы… Он весь серый. Серый психолог.
У него даже глаза серые. Интересно, он подбирает костюм под свою внешность или, наоборот, внешность меняется из-за костюма? Возможно, раз он одевается в серое, его глаза и волосы посерели, чтобы не отличаться от одежды.
Если бы я был писателем, то ввел бы в роман серого психолога и назвал его Гри-гри[4]4
Гри-гри – амулет, фетиш; дословно: серый-серый.
[Закрыть]. В нем бы все выцвело, все посерело. Не только глаза и волосы, но и цвет лица в конце концов стал бы серым – и внутри он бы тоже был серый. Серая душа, как и все слегка поизносившиеся души, – не черная, но запятнанная, потускневшая душа. Прощай, невинность, здравствуй, грусть… Мысли тоже не черные, но омраченные… И так далее… И чтобы утешиться в этой серости, защититься от нее, предотвратить ее распространение, мой Гри-гри имел бы одну вещицу, которую всегда бы носил с собой, – фетиш, амулет. Чересчур примитивная ассоциация идей[5]5
Ассоциацией идей в психологии называется связь психических элементов, в силу которой они вызываются памятью в сознании. Ассоциации идей различаются по смежности (связь в пространстве и времени), по сходству или противоположности, по причинной связи. Ассоциационная психология рассматривает все душевные явления как продукты сочетания представлений, то есть возникшие через «ассоциацию идей». Основал это учение английский философ Дэвид Гартли (1705–1757).
[Закрыть], сказал бы мой читатель, ну и пусть.
Амулет Гри-гри, амулет психолога, псих-амулет – на туалет, привет-привет, от вас секрет, – этот амулет был бы не африканским, африканский противоречил бы здравому смыслу хозяина, он был бы фрейдистским. Он был бы…
– Что привело вас ко мне?
Он меня раздражает. Мысль ушла. Теперь я никогда не узнаю, каким был бы амулет Гри-гри. Не помню, на чем я остановился. Что он сказал?
– Простите?
– Что привело вас ко мне?
– Моя жена…
Он делает вид, будто смотрит по сторонам. Озираясь, поворачивает голову, и мелькает позолоченная цепочка, мелькнула и опять скрылась под складкой на его шее. Его амулет? Печально… Какая бедность фантазии! Если только цепочка не символизирует ассоциацию идей: за каждым звеном идет следующее и так далее. Да, наверняка это фрейдистский амулет.
– Ваша жена? Я ее не вижу.
– Она не пришла. Но это она посоветовала мне сходить к вам на консультацию.
– А сказала зачем?
– Да, она весьма откровенна. Она считает, что я не в порядке и должен взять себя в руки.
– А вы знаете, почему она считает, что вы не в порядке?
– Да. Потому что я не хочу покупать аптеку.
Он улыбается, он удивлен.
– Неужели? Значит, все люди, которые в порядке, покупают аптеки?
– С ее точки зрения, да, что-то в этом роде…
– Вы фармацевт?
– Да…
Я вижу, что он ничего не понимает, и, стараясь быть кратким, объясняю: профессию я свою люблю, покупать же аптеку не хочу, а жена на этом настаивает. Но не мне назло, а мне во благо – считает, что я смогу развернуться, если у меня будет своя аптека.
Он задумывается. Я тоже. Я сказал правду, но, сказав это, понял, что она смехотворна. Если этот серый психолог, из соображений безопасности, отправит меня в желтый дом, станет ли Беатрис меня навещать? А Марион? Едва я о ней подумал, как тут же и выпалил:
– У меня есть дочка. Ее зовут Марион…
– Так… А Марион тоже хочет, чтобы вы купили аптеку?
– Нет. Марион хочет, чтобы я покупал ей мультфильмы и игрушки. Она очень любит играть…
– Так… А вы? Вы сами…
– Я люблю играть с ней, но один я не играю…
– Нет, я хотел спросить: вы тоже, как жена, считаете, что вы не в порядке?
– Я не считаю, что я в порядке, и не считаю, что я не в порядке. Я где-то посередине. Если с чем и непорядок, то у меня…
Умолкаю. Еле удержался, чтобы не сказать: у меня с женой непорядок. Наверное, это и есть ассоциация идей: от одного звена цепочки к другому. «У меня…» Произнеся это, я увидел себя у себя, в прямом смысле этого слова. У себя дома. У меня, у нее дома…
С Беатрис не всегда легко, но ведь и со мной непросто, в конце-то концов. Она не хочет мне плохого, даже если иногда бывает немного резкой. Это я слишком чувствительный, это мне не хватает смелости высказать свои мысли, и это у меня шаг вперед – два шага назад. Я не люблю, когда кричат. Я не люблю, когда строчат. Интересно, психологу это понравилось бы? Стоп, я свернул не туда… Проблемы не со мной, проблема во мне. Сваливать вину на ближнего – значит избегать ответственности. Беатрис с этим согласилась бы: Бенжамен, увиливаешь… Я увиливаю…
– Ну и с чем же у вас не в порядке?
Пристальный серый взгляд. Уж слишком серые у него глаза… Пристальный серый взгляд спрашивает: эй, ты скоро?
Скоро. Прямо сейчас. Раз уж пришел сюда, так скажу, – по крайней мере, ему скажу, должен ведь я это сказать хотя бы раз в жизни. Вот и получится, что пришел не зря.
– Значит, так… Неприятное ощущение… Я чувствую пустоту внутри. Как будто там у меня ничего нет. Боли тоже нет, от пустоты внутри по-настоящему не больно… Просто чувствую, как будто жизнь из меня утекла. Как будто меня проткнули и я стал потихоньку вытекать сам из себя. Раньше я был наполнен – если не целиком, то отчасти. Я не почувствовал, когда это началось, эта утечка, но, видимо, мало-помалу утекал и очнулся, когда был уже пуст. Вроде кровотечения. Если раненому долго не останавливают кровь и он много ее потеряет, то его уже не спасти. Со мной случилось что-то похожее: я потерял себя, упустил из виду. И не знаю, кем теперь стал.
– И все же вы живой человек.
– Не стоит судить по внешности.
Он просит уточнить, когда у меня наступил «момент истины»; он любит такие словечки, по голосу чувствуется.
– Совсем недавно. Иначе я бы заткнул брешь.
– А как это произошло? Толчком для осознания пустоты внутри послужило какое-то событие?
Сказать, что помог журнальный столик? Нет, даже исповедь не бывает беспредельно откровенной. И так я сказал уже слишком много, и кажется, будто теперь у меня отнято последнее, что оставалось. Не то чтобы сокровище, но это было мое.
– Ну, вспомнили?
Он бросает на меня свой серый взгляд. Бросает… На меня снисходит озарение, и я ловлю на лету недостающее звено.
– Было так: я бросаю дочке мяч и вижу, что он вдруг начинает потихоньку сдуваться… Такой большой разноцветный мяч, совсем новый. Сдувался-сдувался и стал как тряпочка. Я объяснил Марион, что мяч был надут воздухом, что он, наверное, прохудился и воздух вышел через дырочку. Сказав это, я подумал: в точности как я сам. Вот и все…
Психолог на меня смотрит. Серьезно смотрит. Серьезный серый взгляд.
– Вы согласны с моей женой? Думаете, это серо? Ох, простите, это серьезно? Я на самом деле не в порядке?
– То, что я думаю, не имеет значения. Главное, что думаете вы… Каждый человек в один прекрасный день задумывается о своей жизни, о смысле своей жизни. Это экзистенциальные вопросы. Некоторые ставят эти вопросы острее, другие не так остро. Вероятно, для вас они стоят остро. Только я не уверен, что вы ищете помощи извне. Пришли не по собственной воле – вас «привела» жена… Но вот если вы придете ко мне снова, то лучше бы – когда сами захотите. По своему решению. Подумайте об этом…
Потом он объяснил, что терапия, которую он применяет, основана на ассоциации идей: одна идея влечет за собой другую, а та, в свою очередь, следующую… Он теребит цепочку на шее, свой фрейдистский амулет, и амулет его вдохновляет: объяснения понятные, без зауми.
– Подумайте об этом спокойно… и самостоятельно. Не позволяйте никому решать за вас.
Лично я обо всем уже подумал. Прощайте, месье Гри-гри.
– Ну и как? – спрашивает жена. – Что он собой представляет?
– Весь серый.
– Бенжамен, с тобой невозможно говорить о серьезных вещах! Как все прошло, хорошо?
– Да.
– Что он тебе сказал?
– Он сказал… Он сказал, что это экзистенциальный кризис. Что я задаю себе вопросы о смысле жизни, и что, по его мнению, это скорее признак психического здоровья. Он считает, что я в полном порядке.
– Бенжамен, ты не показал ему себя в истинном свете. О чем вообще ты ему рассказывал?
– Обо всем… О своей работе, о родителях, о Марион…
– А обо мне?
– Да, да, и о тебе тоже.
– И что же ты ему обо мне сказал?
– Что ты всегда готова… поддержать меня.
– Даже немножко перегибаю палку. Я не могу взвалить на себя все, ты же понимаешь… Вот потому-то ты и должен взять себя в руки. Когда ты снова к нему пойдешь?
– Он считает, что я не нуждаюсь в помощи психолога. Или – в немощи психолога? Что-то я запутался…
Она вздыхает:
– Видишь, какой ты: как только надо приступить к действиям, ты увиливаешь.
– И об этом тоже я ему сказал, честно объяснил: чуть что – я в кусты. Но он так не считает. Он считает, мне так кажется, потому что я не уверен в себе. Это симптом моего экзистенциального кризиса. Но тут не о чем беспокоиться. Просто мне надо поверить в себя, признать свои достоинства. Потому что, видишь ли, мне свойственно видеть в себе одни недостатки. Понимаешь?
Она очень миленько надувает губки. Если бы она занималась любовью так, как надувает губки, я бы хоть сейчас прыгнул в койку.
– Он так сказал? Врешь, Бенжамен!
– Вовсе не вру. И если ты мне не веришь, то как, по-твоему, я поверю в себя? Он ясно сказал: окружающие не должны подвергать сомнению достоинства человека, при экзистенциальном кризисе иначе нельзя. Понимаешь, этот кризис – такая штука, которая делает тебя слабым…
Я читаю в ее взгляде недоверие, вроде бы она колеблется…
И вдруг взрывается. Бум!
– Экзистенциальный кризис! Экзистенциальный кризис! Шел бы ты знаешь куда со своими экзистенциальными кризисами! Этот тип даже не понял, что ты не в порядке!
– Он смотрел на меня другими глазами…
Она успокаивается – так же неожиданно, как и взорвалась. Я попал в яблочко?
– Просто он видел тебя в другой обстановке… и не мог понять… Но в том, что он сказал, есть хотя бы один положительный момент: ты должен поверить в себя, должен окунуться в дело и не должен больше уклоняться от ответственности. Подумай об этом, Бенжамен. А пока, будь добр, сбегай за пиццей.
Я надеваю куртку и уже с порога зову:
– Беатрис!
– Что?
– Еще он сказал, что с точки зрения душевного равновесия сейчас не время покупать аптеку. Я слишком хрупок.







