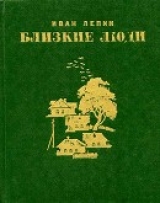
Текст книги "Трое"
Автор книги: Иван Лепин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
ФРОСЯ
Фрося услышала почти обессиленный Дашин голос:
– Тё, пить ужасно хочу.
У церковной ограды, в тени ракит и тополей, на которых возле своих расхристанных гнезд безумолчно каркали вороны, она остановилась. «Я и сама не против перехватить глоток-другой холоднячка, – подумала Фрося, – в горле пересохло». И сняла со спины уже нагревшуюся на солнце котомку, прислонила ее к ограде:
– Ставьте тут.
Вместе с Дашей она направилась в ближайшую хату – через дорогу, а Митька остался сторожить котомки.
Фрося первой ступила на низкое крыльцо, открыла дверь в сенцы.
– Есть тут кто? – спросила она темноту.
Ни звука.
Прошли в сенцы, Фрося с трудом нащупала ручку двери, что вела в хату. Ручка была прибита слишком низко.
В хате, несмотря на солнечный день, стоял полумрак: висела густая пыль, и солнечные лучи, едва пробивавшиеся сквозь нее, казались осязаемыми.
– Здравствуйте вам.
– Здоровы были.
Из полумрака возникла согнутая подковкой старуха, с веником из свежей полыни в руках, – она подметала земляной пол.
Старуха присела на лавку у стола, освободила из-под платка ухо, приготовилась слушать.
– Нам бы попить.
– Что? Попить? Да пейте – жалко, что ль, воды?
Возле печки, на шаткой табуретке, стояло цинковое, давно не чищенное ведро, накрытое квадратной дощечкой. Фрося взяла с дощечки легкую алюминиевую кружку, зачерпнула воды. Выпила два глотка, сполоснула горло и передала кружку Даше.
– Пей.
Даша зачерпнула полную кружку. Вода была теплая, но вкусная, мягче их, карасевской, что вдобавок пахнет еще и железной рудой.
Даша, не отрываясь, выпила целую кружку.
– Спасибо.
Старуха покивала головой.
– На здоровье, деточки. – Заглянула Фросе в лицо: – Далёко идете?
– В белый свет, – ответила Фрося.
– Далёко?
– В Подолянь. Слыхала?
– Слыхала, а как же? Мой покойный дед был оттудова… К своим идете?
– К своим.
– Нынче много народу в те края ходит. – И – шепотом: – Скоро, говорят, наступление начнется. – Старуха облокотилась на стол. – Скорей бы ету немчуру побили. Двух сынов моих, искариоты… – Она подняла к глазам замасленный фартук, вытерла глаза. – Под етим, под Сталинградом…
Фрося поняла, что если они еще хоть минуту побудут здесь, то старуха вконец расстроится, и она потянула Дашу за рукав:
– Идем. – Потом – старухе: – Прощай, бабушка!
– Спаси вас господь… На обратном пути-то заходите, невестку с детьми увидите… Счас они на поле…
Когда они вернулись к своим котомкам, Митька, прислонив ладонь ко лбу, смотрел в небо.
– Что там? – поинтересовалась Фрося.
– Наш и ихний, – не отрывая глаз от неба, ответил он.
Даша, воспользовавшись тем, что Митька смотрел вверх, быстро сняла чулки, державшиеся на тугих резинках, завязала ходаки на голых теперь ногах и успела отыскать в небе два самолета. Самолеты – небольшие серые точки, неизвестно, какой наш, какой немецкий, – в самой вышине то гонялись друг за другом, то, когда один успевал неожиданно резко сделать поворот, сходились.
– Над станцией, – предположила Фрося (это в трех километрах от Карасевки).
– Ближе, – не согласился Митька, – в конце Нижнемалинова.
Вдруг над одним самолетом вспыхнул черный факел.
– Нашего, – выдохнул с горечью Митька.
– Откуда ты знаешь? – не согласилась Даша.
– Оттуда. Разве «мессера» не узнаёшь – тонкий и длинный?
Горящий самолет, переворачиваясь, падал к горизонту. Вот его черный хвост коснулся земли, и наступила – на несколько секунд – зловещая тишина. И только потом донеслось глухое эхо взрыва.
У Фроси сжалось сердце. Вроде бы затишье кругом – с самой зимы. Немцы – там, наши – тут. Но война, оказывается, не прекращается. Ни на день, ни на час. Просто наступила непонятная передышка.
Передышка? Какая же это передышка, раз идут бои, гибнут люди?
А старуха еще про скорое наступление сказала. Значит, нужно ждать больших боев и больших смертей…
Что творится на белом свете!
Но здесь, у церкви, пока что стояла тишина, мирно светило солнце, порхали бабочки. И только вороний грай над деревьями нарушал эту тишину.
Можно было продолжать путь.
МИТЬКА
Фрося сказала Митьке:
– Иди попей, можа, потом негде будет.
Митька же метнулся к своей котомке, выхватил из нее белый сверток, протянул его Даше:
– Передай отцу.
– Что это?
– Подштанники. Передай, я дальше с вами не пойду.
Между ними встала Фрося.
– Иди пей.
– Не хочу.
– Тогда, милый, бери котомку – тронулись. Митька уронил голову.
– Не могу, теть Фрось.
– Отчего? – Фрося подозрительно сузила глубокие черные глаза.
– Да так… Есть причина…
Почти всю дорогу до церкви Митька обдумывал, что бы такое предпринять, дабы вернуться. Может, стеклом ногу порезать? Не таким он отчаянным уродился, не хватит воли. Тогда… «О, попробую натереть докрасна плечи! Скажу – лямки режут, устал и голова кружится, – сиял, радуясь спасительной идее, Митька. – Только чем натереть? Травой какой-нибудь? Репьями? Во! Зелеными репьями! И не больно, и репьи рядом – вон их возле ограды сколько!»
Так Митька и сделал, пока Фрося с Дашей пить ходили. Натер плечи докрасна, одно плечо даже поцарапал маленько.
Теперь-то он вернется домой! Дашу попросит передать отцу подштанники, а сам вернется. Пусть мать хоть как его ругает, но, скажет он… Вместо «но» Митька расстегнет рубаху и покажет красные полосы (перед Карасевкой он плечи еще раз натрет).
Не больно-то хотел Митька видеть отца. В тот раз отец приходил за сапожным инструментом. Командир батальона тогда его отпускал. Узнал о способностях отца и немедленно отправил его за инструментом: у многих бойцов сапоги да ботинки требовали ремонта.
А отец, не долго думая, – к Таиске Чукановой. Пить, видите ли, захотел. Обманывал бы, да похитрее.
Нет, ни капельки не хочет видеть Митька отца!
Но Фрося не отступала от него. Что за настырная женщина!
– Тяжело, милый? Ничего, зато отца повидаешь. Вон у того летчика, что сбили, можа, сродственники есть поблизости, тоже не торопились проведать: еще-де свидимся. Вот и свиделись… Теперь всю жизнь будут проклинать себя: «Ах, нужно было сходить…» Гляди, Митькя, как бы и тебе так не пришлось… – Она вздохнула. – Тебе, милый, с Дашкой должно быть легче: вы точно знаете, что отцы в Подоляни. А я искать еще буду. Можа, и не найду. А иду вот, детей без присмотра оставила, иду…
Осуждала Митьку и Даша. Про себя, правда: «Хорош гусь, нечего сказать! А еще родней приходится, фамилию одинаковую носит, а позорит весь алутинский род. А мне легко, что ли? Прошли всего ничего, а поясница уже болит. Но я не стану ныть, хоть и девчонка. Митька же слабак и трус, каких в роду у нас никогда не водилось! И неужели мне об этом говорить дяде Родиону! Неужели рассказывать, как Митька с полдороги вернулся? Каково же будет ему это слышать? Вон у других, подумает, дети как дети. А мой Митька – обалдуй, он даже передачу на фронт не донес… А в деревне тете Ксюше стыдно будет на люди показываться. Вот это, скажут, вырастила сынка! Ну ладно, скажут, попивал иногда Родион, матючка подпускал, но ведь он при всем при том отец все-таки. По миру семью не пустил, дети голодные-холодные не были».
Митька переминался с ноги на ногу, хмуро глядя на Дашу: ты-то, мол, что еще шепчешь? Переплела бы лучше свои свиные хвостики – растрепались вон.
Фрося, закинув за плечи котомку, выжидала последние секунды.
– Ну? – сурово взглянула она на Митьку.
– Ми-итя, ну пойде-ем… – жалостливо пропела Даша: может, думала, такие уговоры на него подействуют.
И Митька не выдержал. Он рванул пуговицы рубахи и обнажил плечо («Я вам докажу, что я не слабак!»):
– Видите?
Даша испуганно ойкнула, заметив красноту на плече. Митька ободрился: обман, похоже, удался.
– Лямками натер?
– А чем же? Теперь – передашь? – пошел Митька в наступление и снова протянул Даше белый сверток.
Фрося сняла свою котомку, на ее худом лице погасла вспышка гнева.
– Ну, милый, – обратилась она к Митьке, – чего ж ты терпел столько? Можно б было что и подложить…
– Терпел, пока мог.
– Понятно – втянулся. Ладно, – решительно сказала Фрося, – можешь вертаться. Я все Родиону объясню. Толькя послушай, милый, мой совет материнский: наберись терпения и иди с нами. Не столькя твоему отцу передача да подштанники, можа, нужны, сколькя семейное уважение. Ему ить и воевать тогда в сто раз легче будет… А веревки… Мы их обмотаем счас, перестанут тереть… Даш, давай, милая, косынку…
Пока Даша развязывала косынку, Фрося уже сняла свою, черную.
Даша глядела на простоволосую Фросю. Волосы у нее, оказывается, с частой проседью («У матери еще седин нет»); уложенная на затылке недлинная коса похожа на… кукиш; лицо загорелое, а часть лба и шея, спрятанные обычно от солнца, теперь разительно выделялись. Странной и совсем чужой выглядела Фрося без косынки.
И тут Дашу осенило:
– Не надо, тё, косынками! Чулками давайте обвяжем. В них жарко, я и сняла.
Фрося прикинула что-то в уме и согласилась с Дашей.
– Дело. А то головы солнце напекет.
Митька стоял с открытым ртом. Поначалу он обрадовался: и Дашу, и Фросю разжалобил, и они не осудили его за малодушие. Но Фрося… Всю обедню испортила! Додумалась же – лямки обвязывать, теперь вот Дашка со своими чулками объявилась. Выскочка со свиными хвостиками!
Фрося обмотала Дашиными чулками веревки-лямки, приподняла Митькину котомку.
– Давай, милый, помогу… Чтоб потом не рвал волосы на голове – пойдем.
«Выкрутиться не удастся, – невесело подумал Митька, – придется идти. А волосы бы я рвать не стал, ошибаешься, тетя Фрося. Не все ты знаешь…»
Он молча засунул в котомку подштанники – с той стороны, что прилегала к спине.
Даша обрадованно шепнула Митьке:
– Молодец, что не сдрейфил. Мне тоже не легче, а терплю.
Но он не разделял ее радости.
ДАША
Дорогу на Ольховатку, что находилась по пути в Подолянь им показала старуха, у которой Даша и Фрося пили воду. Она как раз вышла на крылечко, когда трое карасевских закинули за спины котомки.
– Спуститесь в лощину, вот сюда, а там направо по большаку. Спаси вас господь.
– Благодарствуйте, бабушка.
И снова они выстроились по ранжиру: Фрося, Даша, Митька. Еще не вышли за деревню, а Даше опять захотелось пить. Но теперь она решила терпеть, сколько сил хватит, не вынуждать остальных делать из-за нее остановки. «Попытаюсь забыться – и пить перехочется», – сказала она сама себе, хотя мысли теперь, наоборот, роились вокруг воды. Трудно все-таки летом. То ли дело было в апреле, когда Даша ходила к отцу в Прилепы вместе с Митькиной матерью, тетей Ксюшей. Нелегкой тогда была дорога, но зато пить не хотелось. Погода стояла сырая, промозглая, еще снег не везде сошел. А только вот эта жарынь, вот это солнце, что слепит, печет голову, не лучше той сырости и промозглости.
Дашина мать, Маруся Макариха, как звали ее в деревне, слыла женщиной оборотистой, хозяйственной, строгой. Все дети у нее всегда были вымыты, чисто одеты, накормлены-напоены. Ни на кого из них она никогда не повышала голоса, а слушались они ее с первого слова. Макара держала в руках, но знала при этом меру – соображала, что мужики не любят, когда жены пилят их бесконечно по мелочам-пустякам, что взорваться однажды могут и тогда пиши пропало. Или драться начнут, или водку глушить.
Маруся поступала со своим Макаром всегда по-хорошему. Если иногда случалось, что приходил он домой навеселе, она не устраивала ему тут же нахлобучку (с пьяным – какой разговор?). Маруся обходительно помогала Макару раздеться, укладывала его на лежанку. Макар побурчит-побурчит – и уснет.
А утром Маруся ненароком скажет: «И не совестно было перед детями?» Макар опускал больную голову, признавался: «Вчерась не совестно, а нынче – да. Прости уж…»
И по-прежнему в доме лад и согласие. И опять Маруся – горой за своего Макара. Пусть попробует кто из баб или мужиков плохо о нем отозваться – она в лепешку расшибется, а докажет, что он у нее самый лучший муж и отец. Спросите, добавит, у детей, они еще врать не умеют.
И вот когда через полтора месяца после второй мобилизации пришло известие, что Макар и Родион находятся за Понырями, в Прилепах, Маруся забеспокоилась:
– Нам бог не простит, если не проведаем мужиков.
Сказала она так Ксении, как о деле решенном. И – чуть не приказным тоном:
– Готовься.
Ксения же кивнула на Марусин живот:
– Куда тебя с пузом понесет?
– Ничего. Я до самых родов всегда работаю, сама знаешь.
Стали готовиться. Только Ксения при каждой встрече отговаривала Марусю:
– Побережи себя и ребенка. Нехай Дашка идет со мной.
Маруся – ни в какую.
– Макар обидится.
– Да разве он не поймет?
Помогла Ксении Варвара, соседка Марусина.
– В ближний свет итить! – накинулась она на Марусю. – Случится что в дороге – кто поможет? А у тебя пятеро их вон, осиротить захотела?
– Да, да, мамка, я лучше пойду! – подхватила Даша, присутствовавшая при разговоре.
И Маруся сдалась. Только стала теперь думать, что бы Макару такое передать, чтобы обрадовать его. Больше всего он любит холодец. Да из чего его сделаешь? Мяса ни купить не у кого, ни занять до осени, когда теленка можно будет зарезать.
И придумала! Не зря говорят: голь на выдумку хитра. Не мяса она заняла, а две бутылки самогона. У той же соседки Варвары. И с этими бутылками – к армейскому интенданту.
– У вас, слышала, вчерась корову для солдат зарезали, продайте шкуру.
Тот вздернул удивленно брови:
– Это как – продайте? Мы найдем, куда шкуру использовать.
– Ради Христа прошу, – не отставала Маруся.
– А если меня за это под трибунал?
– Никто не узнает, не увидит.
– Ох и хитры вы, бабы! Да и на кой ляд мне ваши деньги?
– А у меня не деньги, – прижимала бутылки под полами полусака Маруся.
Интендант догадался.
– Это – вещь. За это – можно…
Дома Маруся осмолила коровью шкуру, вычистила ее и наварила ведерный чугун холодца. В первую очередь налила холодец в две глубокие миски – для Макара и Родиона. Вынесла его сразу же в погреб: там прохладно, там он быстро застынет. Остальное – для себя, для эвакуированной из Подоляни семьи Шуры Петюковой (надо ж такому случиться, что Макар со временем окажется в той самой Подоляни!).
Назавтра с болью в сердце Маруся провожала Дашу: «Мне ведь самой так хочется с Макаром свидеться! Соскучилась по нему уже… И надо ж было забеременеть!..»
Была середина апреля, половодье уже отбушевало, хотя солнце не успело еще растопить весь снег: его в эту зиму и впрямь выпало в рост человека, как никогда. В лесах да посадах, на северных склонах оврагов еще лежали толстые острова серого снега. Но на дорогах он растаял. Дороги почти всюду просохли от весенней грязи.
Даша и Ксения обули лапти. Хотела Даша новые надеть, перед зимой отцом сплетенные, но мать отговорила: «Форсить дома будешь, а в неблизкий путь нужна расхожая обувь, чтобы ноги не давила».
Стоял негустой туман, шли быстро. Холодец несли в узелках – миски были завернуты в старенькие, но хорошо выстиранные платки.
За станцией начинался Малый лес. Когда дорога нырнула в густой орешник, Даша приостановилась, чтобы выломать палку. Надумала она попробовать нести миску на плече, надев узелок на палку, – вдруг легче? И тут заметила в глубине зарослей труп.
«Немец», – без труда определила она: шинель была зеленая.
– Теть Ксюш! – отскочила Даша от трупа.
Ксения испуганно вздохнула: аи зверь какой в кустах?
– Ты чего?
– Н-немец, – дрожала Даша.
– Где?
– Там, – показала Даша в орешник. – Мертвый.
– Фу! А я уж черт-те что подумала. Вытаял, поди…
Чем ближе подходили к передовой, тем чаще попадались им следы февральских боев. В полях виднелись искореженные танки, машины, пушки – немецкие и наши. Но больше было немецких.
В лесу за деревенькой Брусовое они набрели сразу на три трупа – рядом лежали обгоревшие женщина и девочка с мальчиком пяти-шести лет. Видно, ее дети.
Даша, не желая того, остановилась, скрестила на груди руки. Да что же это делается, люди добрые?! Понятно, когда солдаты погибают, – на то война. А тут – мирные жители. И дети еще. Неужели и ей, Даше, и семье ее, и всей Карасевке, и всей стране война уготовит вот такой конец?
Нет, нет и нет! Ей хочется жить. И потому она скажет отцу: «Воюй, папка, за нас храбро, не дай врагу надругаться над нами».
И отец, она уверена, не устрашится самого грозного боя. Он у нее молодец. Даже во время оккупации не испугался немцев. Несмотря на их грозные приказы, связался-таки с подпольщиками (Даша обо всем догадывалась). Подозревала, с какой целью он исчезал иногда из дома на неделю и больше.
Все чаще встречались сожженные хаты. В Прилепах через одну-две хаты торчали печальные трубы печей. А там, где стояли риги, сараи, пуньки, вообще никаких следов не было. Только черные выгоревшие квадраты земли.
Ксения шла и все приговаривала:
– Вот нашей-то деревне повезло: ни одной хаты не тронули. А тут – гля-кося, что наделано. Где ж это люди жить будут?
– А их же всех эвакуировали, – сказала Даша.
– Это я знаю. А где они после войны жить будут? Вот Гитлер, погибели на него нетути, что наделал.
В Прилепы заявились под самый вечер. Долго искали своих. Не знали ни номера полевой почты, ни части, где служили Макар и Родион, а нашли. В одном штабе побывали, в другом, а в третьем Дашу и Ксению обрадовали:
– Алутины? Есть такие. Сейчас позовем.
Их поместили в одну из уцелевших хат. Даше непривычно было видеть отца постриженным наголо. Он не походил на себя, голова его была в каких-то буграх и шишках, со множеством белых шрамов.
– Пап, – осмелилась она спросить, когда отец, сняв шапку, начал есть холодец, – а это у тебя откуда?
– Что?
– Шрамы.
– Это в молодости. Сошлись мы однажды деревня на деревню.
Родион и Ксения сидели напротив за голым деревянным столом. Родион не с холодца начал, а с вареных яиц. Не спеша очистил одно – жене, теперь себе чистил.
– Ксень, а этого не прихватила? – подмигнул Родион жене.
– А как жа, – повеселела Ксения: она долго ждала, когда Родион спросит.
– Ну и баба у меня! Подожди-ка, Макар, есть, мы сейчас по стопочке.
И тут в хату заглянул командир роты лейтенант Киселев. Молодой, но строгий, с Урала сам. До училища, говорит, мастером на пушечном заводе работал.
– Устроились? – спросил Киселев с порога Ксению, которая на всякий случай прятала бутылку в сумку: кто знает, что у этого лейтенанта на уме.
– Устроились, сынок, спасибо.
Родион и Макар при появлении лейтенанта встали и теперь гадали: войдет он или не войдет?
«Можа, стесняется?» – предположил Родион.
– Заходи, Сашк! – дружески пригласил Родион (он считал, что имеет небольшое право на подобное панибратство после того, как на днях починил лейтенанту сапог).
Но Киселев неподкупно блеснул глазами:
– Я тебе дам «Сашк»! Смотри у меня!
И резко закрыл дверь с обратной стороны – чуть не погасла от волны воздуха висевшая над столом коптилка из гильзы.
Мужики – они еще не были обмундированы – налили в кружки. Чокнулись.
– Побудем живы.
Выпила чуток и Ксения. Даша отказалась: она не выносила запаха бурачихи.
Вошли еще пять-шесть солдат – с подсумками, с винтовками. Коротко переговариваясь, стелили на пол, на приступок принесенную из сенец солому.
Родион пригласил их к столу:
– По капельке, ребята. Жена вот… принесла…
Угостившись, солдаты улеглись и вскоре запохрапывали.
Макар постелил себе, Даше и Родиону с Ксенией возле стенки, поближе к печи. Но спать они пока не легли. Родион с женой вышел покурить на улицу, Макар вернулся за стол, принялся расспрашивать Дашу про мать, про детей, про новости деревенские.
– Как дошли?
– Хорошо. Только мертвые попадались.
– Их сейчас, после снега, много, – согласился отец. – Ноги не промочила?
«Сознаться или не сознаться? – пронеслось в голове у Даши. – Нет, – решила, – сознаюсь, а то, чего доброго, обратно не дойду».
– Один лапоть протерся. На пятке. Макар махнул рукой:
– Снимай.
Даша развязала прохудившийся лапоть.
– И другой снимай. В печку просушиться положу.
Он достал из подсумка складной ножичек, с которым никогда не расставался (из Западной Белоруссии в тридцать девятом привез). В подсумке же обнаружился моточек тонких веревок – на всякий случай насучил из попавшегося однажды на глаза снопика конопли.
– Ты, Даш, ложись, отдохни, а я подлатаю.
Даша и впрямь в дороге устала, ноги гудели, подламывались в коленях, и она не заставила себя долго упрашивать.
В хате на лавке лежали чьи-то фуфайки, и одной из них Макар укрыл дочь.
– Ты, Даш, передай матери, что скоро нас обмундируют… Будем как все… И, возможно, нас на новое место перебросят. Так что сюда уже не приходи.
Даша хотела сказать: «Хорошо, папка, хорошо. Я обязательно передам все матери», – но только подумала, так и провалилась в беспамятный сон – с улыбкой на губах.








