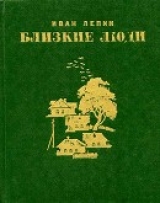
Текст книги "Трое"
Автор книги: Иван Лепин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
ДАША
И вот они идут: Фрося Тубольцева, Даша, Митька.
Когда миновали погост, увидели большую деревню Нижнемалиново. Там живет Дашина родня – тетя Зина. У тети Зины трое ребят, а вот мужа нет. Муж, дядя Андрей, лежит на погосте. В армию его не взяли: хромой был. А когда немцы осенью сорок первого пришли, то дядю Андрея по доносу расстреляли. Как коммуниста.
«Давно я тетю Зину не проведывала, – упрекнула себя Даша, – совсем обленилась. Тут всего-то – шесть километров…»
Да, от Карасевки до Нижнемалинова было шесть километров – Даша это хорошо знала. Она заканчивала пятый класс в здешней средней школе. В шестом только два месяца проучилась, а затем нагрянули немцы, и занятия прекратились. «Не будь войны, – посетовала Даша, – я бы уже семилетку кончила».
Они повернули не в сторону школы, а налево, в сторону деревни Верхнемалиново. Дорогу сюда карасевские тоже неплохо знают: в этой деревне находится церковь. Здесь они все крещены, венчаны, сюда по большим праздникам (особенно на пасху) многие бабушки, несмотря на яростные запреты школьных учителей, бывало, приводили своих внучек и внуков, соблазняя их всякими сладостями и батюшкиными просвирками.
Дорога пошла на крутой бугор, поросший лопухами, беленой, полынью, чернобыльником и прочим чертополохом.
Жужжали шмели, пищали в буйнотравье птенчики, беззвучно летали серебристые стрекозы.
Даше захотелось пить. Мечтательно подумала: «Вот бы сейчас у тети Зины оказаться – она бы кваском из погреба угостила… У церкви попрошу тетю Фросю остановиться», – решила она.
И тут Даша увидела, что навстречу ей с бугра спускается… отец. Она рванулась вперед, закричала, протягивая руки:
– Па-а-ап!
Фрося, ничего не понимая, вздрогнула от неожиданного крика.
А Митька крутил по сторонам нечесаной головой: что случилось?
Пока они гадали, Даша подскочила к мужчине в военной форме, ковылявшему по другой стороне дороги. Подскочила – и залилась краской от стыда: надо же так обознаться! А похож здорово: такой же коренастый, круглолицый, а на лбу – такая же гармошка морщин…
Сообразив, что оплошала, Даша отпрянула от военного (тот ничего и не понял), закрыла лицо ладонями, чтобы не заметили ни Фрося, ни Митька, как живым огнем горят ее щеки.
– Что с тобой? – спросила Фрося, хотя догадывалась, что произошло.
– Обозналась.
– Не терпится отца увидеть?
– Не терпится, – призналась Даша.
– Оно так-то, – неопределенно сказала Фрося. – Но нынче уж свидимся.
Митька же ехидно прыснул в кулак. До сочувствия в таких случаях он еще не дорос.
Наконец поднялись на бугор. Отсюда виден был белый купол церкви, вознесшийся над зарослями ракит и тополей.
Даша была любимицей отца. Нет, он не обходил вниманием двух ее младших братьев и двух сестер, поровну и конфетами наделял по возвращении из райцентра, где случалось иногда бывать, и на ноге качал всех по очереди, естественно, кроме повзрослевших уже Даши и Сережки, и на подводе всех разом катал, если выпадало свободное время. Но Дашу он любил особо. Уж больно старательной хозяйкой она была – материной помощницей. С детворой ли скажут ей побыть, печь ли растопить, грядки ли полить – безотказно выполняла всю работу Даша. Ну как такую дочь-послушницу не любить, не носить на руках?!
И училась Даша к тому же прилично, учителя про нее ни разу худого слова не сказали.
Вот за это и удостаивал ее особой чести отец, Макар Алутин. Первую конфету – Даше, вожжи лошадью править – Даше, правой в детской ссоре признать – кого? – Дашу.
– Эх, невеста у меня растет – сто миллионов золотом! – похвалялся, подвыпив, Макар.
– Да она у тебя затворница, – подзуживали мужики.
– Она? У меня? – И, вернувшись домой, вежливо выпроваживал Дашу на вечеринку. «Покажи им, – приговаривал, имея в виду деревню и тех самых мужиков, – какая ты затворница! Только гордой будь! Глазки ребятам строй, но близко не подпущай! Поняла?»
И Даша, вне себя от счастья, готовая расцеловать отца, неслась на вечеринку. Но скромно сидела там, приютившись в уголке (если вечеринка проходила у кого-нибудь в хате), танцевала только «круговые» танцы, ребят и впрямь близко не подпускала. Когда возвращалась домой – ближе к полночи, – открывал ей дверь отец.
– Не запозднилась? – спрашивал он.
– Что ты! Еще и одиннадцати нету.
Любила и Даша отца.
На эту войну он уходил в июле сорок первого. Проводить себя он разрешил только до околицы. Малышню в лобики поцеловал, а Дашу – в обе щечки. «Милый мой папочка, – почти нашептывали ее губы, – неужели ты не вернешься? Неужели тебя могут убить лютые враги? Я не верю, чтобы такого замечательного человека убили». К ее глазам подступили слезы, и если бы она произнесла вслух хоть слово, то они хлынули бы ручьем. Она бы разрыдалась на виду у деревни – в этот день провожали многих мужиков и взрослых ребят.
И, может, верой дочери был жив Макар. Уцелел при бомбежках и в кровопролитных боях под Черниговом, при неудачном выходе из окружения, в плену, наконец. Лагерь, куда он, кстати, попал вместе с Егором Тубольцевым, находился под Конотопом. В первые месяцы войны были случаи, когда немецкие охранники еще не столь рьяно выполняли строгие предписания в отношении русских пленных. Жадные до наживы, они порой за взятку отпускали некоторых красноармейцев.
Посчастливилось и Макару с Егором. Одна сметливая местная женщина выкупила их у конвоира за… серебряное кольцо и пол-литра водки. Принарядилась она в тот день, сняла с пальца обручальное кольцо («Может, и мой Яков к немцам попал, может, и для него кто добра не пожалеет?») и отправилась за город, где, многорядно обнесенный колючей проволокой, находился лагерь для военнопленных.
Притворно, заигрывающе улыбаясь, с опаской, однако же, подошла женщина к охраннику, облизывающему бесцветные усики.
– Пан, я хату строю, хаус по-вашему, мне бы пару солдат на помощь. – И показывает два пальца.
– Цвай?
– Цвай, пан, цвай. А это за услугу, – подала кольцо и из-под цветастого фартука – бутылку. На лице ее улыбка, а в глазах – печаль смертная.
Охранник взял кольцо, положил его на ладонь, полюбовался. Бутылку, весело подмигнув женщине, спрятал в карман.
– Гут, гут… Эй, – поманил он двух пленных, проходивших мимо ворот, – геен зи…
Так оказались Макар с Егором на свободе. Привела спасительница – а звали ее Анной – их в дом к себе, накормила чем могла, остаться предлагала на два-три дня, но мужики в один голос заявили:
– Превеликое спасибо тебе, Аннушка, за доброту твою, но оставаться тут опасно.
И в этот же вечер двинулись в путь, в Курскую область, на родину.
Через неделю они были в Карасевке.
Даша первая увидела отца, когда он подходил к хате. Правда, сначала в заросшем рыжей бородой человеке, одетом в старую фуфайку, из которой торчали клочья ваты, она отца не признала. Но вот он приблизился к окнам, и Даше бросились в глаза родные бороздки морщин на лбу. И она закричала на всю хату.
– Папка идет!
Мать с испуга вздрогнула, не веря дочери.
– Чего орешь?
– Папка идет!
Отец не успел дверь отворить, а Даша уже висела у него на шее.
Была теперь Даша самым счастливым человеком на земле. Снова дома отец! Вон у соседей, у Серегиных, в первый же месяц войны не стало отца. Во многих семьях и знать не знают, где воюют их кормильцы, да и живы ли вообще. А у них, у Алутиных, папка дома. Вот сейчас сидит он на конике, под иконами; Не успел отдохнуть с дороги, а уже взялся плести ей, Даше, лапти. Для повседневной носки. По праздникам Даша обувает бурки с галошами.
– Немцев в деревне много? – спросил сухо Макар.
Даша вмиг подобралась.
– У нас их нет. А в Болотном стоят. И на станции тоже. У нас староста правит.
Прошел день, второй, третий…
Радовалась Даша, наблюдая, как ловко орудует свайкой отец. И неведомо ей было, что в голове у отца, у Макара Алутина, роились в то время далеко не веселые мысли. Вот он сидит в тепле, под своей крышей, плетет дочери лапти, другую небольшую работу делает – ее зимой в деревне не ахти много, – спит на мягкой лежанке, а его бывшие товарищи-бойцы, те, кому не посчастливилось выбраться из плена, где они сейчас томятся? Десять дней пробыл Макар в лагере, насмотрелся на немецкие порядки. За людей не считали фашисты русских пленных. Убивали их ни за что. Собаками травили…
По спине у Макара пробегали мурашки.
Как быть? На второй день после возвращения он обговаривал с Егором всякие планы. Сошлись на одном: надо пробраться к своим, за линию фронта. Но как? Фронт сейчас, слышно, возле самой Москвы, за пятьсот километров. Пока дойдешь – сто раз могут схватить.
Может, податься к партизанам? А где они, партизаны? Лесов поблизости нет – не считать же отдельные рощицы лесом. Вот в Западной Белоруссии леса – это да (там Макар в тридцать девятом году воевал). И день, и два можно брести, нет лесам конца и края.
А что, если подпольщиков поискать? Работают ведь они где-то, вредят врагу. Не может быть, чтобы райкомы не оставляли на местах подпольщиков. «Вон когда мы отступали по Украине, – вспоминал Макар, – то догадывались, что в тылу обязательно оставались надежные, преданные Советской власти люди. Должны и у нас такие быть».
Только как найти этих людей? Где отыскать связного?
Были коммунисты в округе – теперь нет. Одни на фронте, других немцы казнили. В том числе и родственника Макара, хромого Андрея из Нижнемалинова. Вот и делай что хочешь…
Не было в душе покоя. Исподволь, незаметно разъедала ее ржавчина вины перед теми, кто воевал сейчас, несмотря на лютые морозы и сумасшедшие снега.
В январе сорок второго объявился Родион, двоюродный брат Макара. Вышел из окружения. Его рота была окружена и почти полностью уничтожена.
Родион – человек рассудительный, дальновидный. При всяких сложностях Макар неизменно с ним советовался. И ни разу совет Родиона не был пустым, зряшным.
Макар явился к нему со своими сомнениями. Все изложил, о чем думал днем и ночью, яро куря злющий табак-самосад.
– Что, братка, будем делать?
Родион не торопился с ответом, долго обмозговывал дело, перебинтовывая свои обмороженные ноги. Затем сказал:
– Вы уже маленькя отдохнули, дайте и мне отдохнуть. Что-нибудь, можа, придумаю.
Через неделю примерно опять затеял Макар разговор о наболевшем.
– Надо действовать. Меня вон анадысь в комендатуру вызывали. Знаешь, что предлагают? Итить в старосты. Во! Это я, вчерашний колхозный бригадир, – староста! Конечное дело, я отказался, а меня начали припугивать. Надо, братка, уходить…
– Все нужно взвесить, – осторожничал Родион. – Как бы второпях дров не наломать. Немцев, слышно, бьют под Москвой. Значит, скоро наши вернутся. К ним и присоединимся… Иного ничего в голову не приходит.
К удивлению Макара, комендатура его больше не тревожила: нашелся в старосты доброволец, шестидесятилетний старик Дородных из Болотного. Как узнал об этом Макар – перекрестился:
– Пронесла нелегкая… Завтра же начну искать связь с подпольщиками…
Ждали в деревнях возвращения Красной Армии сначала к весне, потом – к лету. А осенью поползли слухи про Сталинград, где, дескать, идут страшные бои. Все чаще поговаривали, что стеной наши стоят у Сталинграда, насмерть. Вроде бы клич у наших бойцов появился: за Волгой для Красной Армии земли нет…
Лишь зимой сорок третьего года пришло желанное освобождение. И двадцать первого февраля, это Даша точно помнила, второй раз вместе с матерью проводила она своего отца на долгую войну. До самого райцентра, до Понырей, шли жены и старшие дети за мобилизованными. Шла и Даша. Многие бабы голосили, чуть ли не предвещая гибель своим мужикам: «Ох да навсегда разлучает нас поганый враг-злодей. Да на кого ж вы, мужики наши, оставляете детей-сиротинушек?»
Даша бежала рядом с колонной, в которой шел отец, слезы душили ее, но она невероятным усилием сдерживала их, как и тогда, в июле сорок первого, и даже успокаивала мать: «Не плачь. Ты думаешь, легче отцу от твоих слез? Вернется он. Вот увидишь – вернется».
Макар поворачивал голову в сторону жены и дочери, будто слыша Дашины слова, подмигивал: все, мол, обойдется, живы будем – не помрем. И давал знак рукой: возвращайтесь, дескать, уморились уже.
По другую сторону колонны шла тетка Ксюша. Митька тоже был с ней, но на каком-то километре Даша заметила, что он повернул обратно. Нет, она не осуждала его – число провожавших постепенно уменьшалось, Просто удивилась: неужели Митька устал? Она, девчонка, и то выносливее оказалась.
Было жарко от ходьбы по сыпучему снегу. Его в том году выпало много. Всю зиму немцы выгоняли трудоспособное население на расчистку дорог. Особенно перед отступлением усердствовали. Злые были, как черти. С утра до темноты заставляли работать. Боялись ненароком застрять. Только все равно застревали. Даша сама это видела. Она накануне их бегства ночевала в Нижнемалинове у тети Зины, а когда утром явилась в школу, где собирали работающих (карасевские поблизости расчищали дорогу), то от сторожа узнала, что с немецкой властью покончено.
– Правда?
– Какой мне, дочка, смысл брехать на старости лет?
И Даша пулей выскочила на улицу.
– Ура-а!.. – подбросила она вверх лопату.
По дороге домой, у поворота в деревню Становое, Даша и увидела отступающих. Немцы ехали на санях и машинах. Одна машина – с белыми буквами «OST» на борту – застряла в кювете, вытащить ее, должно, не было никакой возможности, да и торопиться надо было, и фашисты, подхватив свои вещички, подожгли грузовик. Многие везли награбленные вещи на салазках, отобранных у крестьян, или просто тащили тугие узлы на спинах.
«Улепетываете, собаки! – радовалась, блестя глазами, Даша. – Ничего, далеко не уйдете. Настигнут вас русские пули! Обязательно настигнут!..»
Даше сейчас казалось, что вот эта колонна карасевских, болотнинских, михеевских мужиков и будет преследовать тех немцев, что отступали в сторону Станового. И отец ее мстить будет! Многих постреляет, а сам жить останется!
МИТЬКА
Митька шел и думал о своем.
Вот о чем.
За что ему выпало сегодня наказание: и ранний подъем, и эта бесконечная дорога по жаре? Котомка становилась все тяжелее и тяжелее – перед Подолянью, может, пуд будет весить. И он обязан ее тащить. А в котомке – передача и подштанники. Отцу. Тому самому, которого прошлой весной, в мае, когда отец приходил домой за сапожным инструментом, Митька хотел убить. Да, да, самым настоящим образом убить. Молотком или топором, который лежит в сенцах за дверью.
И причина тому была, на Митькин взгляд, веская.
Во время семейных ссор мать не раз попрекала отца Таиской Чукановой. Жила у них в деревне такая соломенная вдова. Ютилась она в маленькой – в два окошка – хатенке, что стояла не на самой улице, как все хаты, а на огороде, за садом. Хатенка эта досталась Таиске Чукановой по наследству от одинокой старухи. Таиска перешла к ней жить после того, как была выгнана мужем за откровенную неверность. Это еще до войны было.
Подрастал Митька и начинал кое-что понимать в семейных отношениях. И не только в семейных, а в человеческих вообще. Начинал кое в чем разбираться. Например, он уяснил, что будет великим грехом, если молодушка родит раньше девяти месяцев после свадьбы, если кто-то рожает без мужа, если муж тайно, крадучись, как мартовский кот, убегает на полночи неизвестно куда от своей жены и семьи.
И чем глубже осмысливал Митька все это, тем чаще задавал себе вопрос: «А нужен ли нам отец вообще? Он у нас ведь тоже похож на мартовского кота».
Жалея мать, Митька говорил ей иногда в лицо: «Как ты можешь терпеть его, такого? Давай прогоним – и никаких!»
Ксения скрещивала руки на отвисшем животе, спокойно отвечала: «Куда ж мы, дурачок, его прогоним? Какой-никакой, а отец он. Не из дома, а в дом несет. А что люди болтают… Можа, и зря болтают… Нихто ведь не захватывал отца у этой Таиски».
И крохотный лучик надежды на то, что разговоры про отца – напраслина, потихоньку растапливал лед в Митькиной душе. До следующего концерта отца, когда он, подвыпивший, заявился под утро домой и начинал выступать: «Вы, так-растак, моего ногтя не стоите! Вы на руках должны меня носить!.. Ксень, целуй мне сапоги, а то выгоню из дома!»
Но трезвел – и становился человеком. Умельцем: и портным, и сапожником, и плотником.
Терпеливая Ксения все прощала ему – ради семьи же.
А в мае Митька хотел отца убить.
Как вышло?
Однажды под вечер мать усходилась сажать огурцы. Принесла ведро воды на грядку, семена. Хватилась – а граблей дома нет. Железных, которыми грядки скородят. Митька на глаза попался.
– Мить, где наши грабли?
– Какие? Железные? А их тетка Варвара вчерась взяла.
– Сбегай, сынок, принеси.
Принести грабли – работа пустячная, не огород копать. Тем более, что тетка Варвара от них через три хаты жила.
И Митька, изобразив из себя необъезженного жеребчика, вскачь понесся к тетке Варваре. Застал ее сидящей на крыльце.
– Тё, вам грабли уже не нужны?
Тетка Варвара всплеснула руками.
– Грабли? Вот напасть! Их у меня утром Таиска взяла. Погоди тут, я к ней схожу.
У Митьки никакой охоты не было стоять и ожидать. И он сказал:
– Ладно, я сам сбегаю.
И поскакал к Таиске.
Промчавшись через пустой сад, Митька оказался у дверей хатенки Таиски Чукановой. Он с ходу повернул щеколду и смело вошел в сенцы, открыл скрипучую дверь в хату.
И опешил. За столом сидел военный, как две капли похожий на… его отца. Только был он без чуба (впрочем, мать, навестившая отца в Прилепах, говорила, что отец подстрижен под нуль). И в форме этот был (а мать рассказывала, что отец и другие мужики пока в своей одежде). Впрочем, могли уже и обмундировать: месяц прошел, как мать наведывалась к отцу.
Митька стоял на пороге и не мог произнести ни слова – от удивления.
А военный, утерев рот тыльной стороной ладони, возьми да усмехнись:
– Что, Митька, не узнаешь?
Отцов голос! Отец перед ним, значит! Только почему он не домой пришел, а к этой блудливой Таиске?
Кровь ударила в лице Митьке – кровь обиды и гнева. Выходит, верно говорили на деревне про отцовы похождения! Значит, справедливо мать упрекала его, хотя порой, чтоб оградить детей от нехороших слухов, и спохватывалась: «Можа, люди зря болтают…»
Митька рванулся из хаты. Отец мгновенно выскочил из-за стола и кинулся за сыном. В темных сенцах Митька не сразу нащупал щеколду, и тут отец схватил его за плечи.
– Стой!
Митька сжался, как зверек.
– Пусти!
Отец, часто дыша, расслабил пальцы. Прижал дверь ногой, чтобы Митька не сбежал.
– Слушай меня, – заговорил прерывисто отец. От него пахло самогонкой. – Слушай меня. Я тут оказался случайно. Шел огородами, ну и… зашел попить. Попил и присел на минутку. А тут и ты явился. – Родион немножко успокоился. – Слушай, сын. Ты зачем прибежал? Выследил меня? Да? – Митька молчал: «Так я и поверил: в двух шагах от дома пить захотел». – Вот что, сын, – уже ласково говорил отец, – ты молодец, что выследил, в разведчики годишься. Только – как мужик мужику: что видел здесь меня – молчок. Почему – потом объясню. И зажигалку дам – понял? Если смолчишь.
Митька попробовал открыть дверь – не получилось. Отец не отпускал ногу.
Митька вдруг заплакал. От беспомощности ли, а может, все от той же обиды.
– Примись, – попытался он оттолкнуть отца.
– Митька, – изменил отец ласковый голос на строгий, – ты меня не видел, понял? Иначе пеняй на себя.
И сам помог сыну открыть дверь.
Митька выскочил как ошпаренный и кинулся не к дому, а за огороды, к речушке, что опоясывала полукругом Карасевку. Бежал по вскопанным огородам, утопая по щиколотку в земле. Глаза застилали слезы, и он их размазывал по щекам грязными кулаками.
Потом он бежал по колхозному полю между огородами и речушкой. Поле было вспахано недавно, разрыхлено плохо, и Митька спотыкался о комья.
К речке он добрался обессиленным. Выбрал на берегу сухое местечко, сел, положил руки на колени.
Уже опускались тяжелые сумерки, становилось зябко.
Что делать? Может, нырнуть в эту холодную воду, медленно текущую в двух шагах? Отомстить отцу за измену. Он догадается, что это из-за него, из-за отца, утопился Митька. Пусть же совесть мучит его всю жизнь!
Боязно топиться, страшно: вода черная и холодная. Да и чего ради Митька умирать будет? Он, что ли, семью предал? Отец предал, отец должен и отвечать. И Митька совершит правый суд над ним! Сейчас он вернется домой и убьет отца. Да, да, убьет! Возьмет топор или молоток – что под руки попадется – и, ни слова не говоря, замахнется. Он смелый, хоть и драться не любит. И свою смелость он докажет сегодня. Сейчас…
Что – отвечать придется? Ответит – не испугается. Только ведь и оправдать могут, если он все про отца расскажет. И, в первую очередь, про то, как он застал его у Таиски.
Митька встал, высморкался и с суровым лицом побрел домой.
Пока он брел, злость помаленьку проходила. К тому же становилось жалко мать. Вдруг за убийство не оправдают, а посадят его, Митьку, в тюрьму? Как тогда она с четырьмя детьми справится? Мать хоть и ворчит на него иногда: никакой помощи-де от тебя не вижу, – а соседкам, Митьке это известно, нахваливала его: ворчун малый, вредный, да исполнительный. Но любит, чтобы его попросили. Усмехнулся: «Тут мать права, выкобениваться я мастер».
Ладно, отца он оставит в живых. И даже не разболтает про то, как сегодня прихватил его у Таиски Чукановой. Но отношение к отцу он теперь изменит – это уж как пить дать.
Домой вернулся он затемно. В хате бледно светились окна – над столом горела коптилка. Перед тем как открыть дверь, Митька остановился на несколько секунд у окна. И увидел: на конике сидит улыбающийся отец, он что-то рассказывает веселое или забавное, и вся семья с наслаждением слушает эти россказни. Только его, Митьки, нет.
Споткнувшись в сенях о лежавший под дверью топор, он медленно ввалился в хату.








