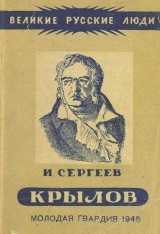
Текст книги "Иван Андреевич Крылов"
Автор книги: Иван Сергеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)

Лубок времен Отечественной войны с басней Крылова «Волк на псарне».
В 1814 году Иван Андреевич опубликовал более двадцати басен. Такого урожайного года в его практике еще не было. Он гордился своим народом. За каких-нибудь пятьдесят лет Россия показала миру, что значит русский народ. В 1760 году германская столица увидела под своими стенами русскую армию, и немцы, с которых была сбита спесь, пресмыкаясь и унижаясь, вынесли победителям ключи от Берлина. В 1799 году суворовские орлы взлетели на Альпы, и русские знамена зашумели над Европой. А ныне русские солдаты, освободители Европы, шагали по мостовым Парижа. И немецкий фельдмаршал Гнейзенау писал: «Если бы не превосходный дух русской нации, если бы не ее ненависть против чуждого угнетения... то цивилизованный мир погиб бы, подпав под деспотизм неистового тирана».
* * *
Крылов знал, что слава России еще впереди. Он видел, что труд его нужен родине и народу. Это примиряло его с одиночеством, с тяжелой ролью мудреца, хотя он уже почти привык к своей новой жизни. По-прежнему он часто бывал у Олениных. Трогательная дружба с Елизаветой Марковной продолжалась Она нежно называла его «Крылышко». Как-то в приливе сыновних чувств Иван Андреевич сказал ей: «Елизавета Марковна, когда наступит мой час, я приду умереть к вам, сюда, к вашим ногам». Она была единственным человеком, с которым Крылов мог иногда по делиться своими радостями и печалями.
Здесь же, у Олениных, он часто встречался с талантливым поэтом Гнедичем, также работавшим в Публичной библиотеке. Оба они были холостяками. Оба прошли трудное начало жизни. И «Дума» Гнедича перекликается по мысли с автобиографическими строками псалма, написанного Крыловым. Гнедич писал:
Печален мой жребий, удел мой жесток!
Ничей не ласкаем рукою,
От детства я рос одинок, сиротою;
В путь жизни пошел одинок...
И сейчас они жили одиноко, скрытно, будто тая про себя что-то, ведомое только им. Но характеры их были совершенно противоположны.
Гнедич был театрален, неестествен, напыщен, любил одеваться изысканно, говорить отточенными фразами, скандируя слова по-актерски. Образ жизни его был размерен по часам. Каждый свой жест он рассчитывал; казалось, он не живет, а играет какую-то странную роль вылощенного и выутюженного аристократа. Но таков он был на самом деле.
А Крылов, с его небрежной манерой одеваться, ходить развалисто, жить беспечно, превращая ночь в день, и днем засыпать на службе сном праведника, с его любовью хорошо покушать, всласть посмеяться, был совсем иным. Казалось, что он – это сама естественность, простота, душа нараспашку.
Свыше двадцати лет Гнедич переводил «Илиаду» Гомера. Это была цель его жизни: дать русскому народу гениальное творение древней Греции. И он с блеском решил эту титаническую задачу.
Крылова и Гнедича сближала общность идей и единое понимание первейшей задачи писателя: «пробудить, вдохнуть, воспламенить страсти благородные, чувства высокие, любовь к вере и отечеству, к истине и добродетели», как говорил Гнедич. Он высказывал открыто мысли, которые Крылов таил в себе.
Летом 1814 года Александр I – «победитель Наполеона»» – возвращался из Франции в Россию. Поэты готовили ему достойную встречу. Старик Державин написал торжественную кантату и хвалебную оду в стиле своих старых од. Пышными стихотворениями отметили возвращение царя Жуковский, Карамзин, Востоков, и даже молодой Пушкин (он тогда учился в лицее) написал оду «На возвращение государя императора из Парижа».
Иван Андреевич знал, что в победе над французами Александр I менее всего был повинен, но понимал, что ему все равно придется как-то откликнуться на «знаменательное» событие. И до того еще, как поэты начали славословить Александра, Крылов написал маленькую басенку «Чиж и Еж».
Этой басенкой он отмежевывался от хора славословцев, пользуясь для этого совершенно новым приемом: из признанного соловья поэзии он превратился в маленького чижа, который не пел, а только чирикал про себя.
Не для того, чтобы похвал ему хотелось,
И не за что; так как-то пелось!
Когда лучезарный Феб, бог солнца, вернулся на Землю, то его встретил хор громких соловьев. А чиж умолк; у него не было такого голоса, чтобы достойно величать Феба, а петь слабым голосом он, конечно, не смел. И басня заканчивалась тонкой насмешкой:
Слово «Александр» было набрано крупными буквами. И все же это не было прославлением царя, а, наоборот, отказом от его прославления. И эта басня была написана так тонко, что никто не мог обвинить Ивана Андреевича в чем-либо предосудительном. Он не унижал ни себя, ни своей поэзии.
В том же году «во уважение отличных дарований в российской словесности» помощник библиотекаря, титулярный советник И. А. Крылов был пожалован в коллежские асессоры.
Этот чин был вершиной успеха покойного Андрея Прохоровича на его жизненном пути. Время от времени Иван Андреевич вспоминал об отце, сидя в Публичной библиотеке в окружении десятков тысяч книг. Бедный капитан Крылов, должно быть, и во сне не мечтал увидеть такое богатство. Но чаще Ивану Андреевичу приходилось вспоминать Не отца, а брата.
Братец скромно и неприметно проходил по земле, отдавал родине свои скромные силы. Таких людей, как Левушка, – миллионы. Это – пчелы, вечные труженики, без которых не мог бы существовать мир.
И в утешение им Крылов пишет басню «Орел и Пчела».
Но сколь и тот почтен, кто, в низости сокрытый,
За все труды, за весь потерянный покой,
Ни славою, ни почестьми не льстится,
И мыслью оживлен одной,
Что к пользе общей он трудится.
И когда орел удивляется, зачем пчела бьется целый век, если ей суждено умереть в безвестности, пчела отвечает ему смиренно:
А я, родясь труды для общей пользы несть,
Не отличать ищу свои работы,
Но утешаюсь тем, на наши смотря соты,
Что в них и моего хоть капля меду есть.
Слава Крылова росла. В 1815 году вышли «Басни Ивана Крылова в трех частях»; третья часть книги была составлена из новых басен. В следующем году были изданы четвертая и пятая части. Тут уже почти не было переводов; большинство басен было оригинальными. Книги раскупались мгновенно. Честолюбивые мечты молодости, когда Иван Андреевич стремился к славе, исполнились. Он сравнивал славу с тенью: «Он к ней, она вперед; он шагу прибавлять, она туда ж; он, наконец, бежать. Но чем он прытче, тем и тень скорей бежала...» А стоило ему обернуться к славе спиной – и что же? «Тень за ним уж гнаться стала»[43]43
Басня «Тень и Человек».
[Закрыть].

Титульный лист третьей книги басен.
Честолюбие, которого он не скрывал, уживалось и нем с величайшей скромностью. Его спросили: чем он объясняет такую огромную популярность своих книг и почему он предпочел басню другим родам поэзии? Крылов шутливо ответил, что он нарочито избрал такой выгодный жанр, как басня. «Этот род понятен каждому; его читают и слуги и дети. – И с лукавой улыбкой добавил: – Ну, и скоро рвут». Вот этим, мол, и объяснялась постоянная потребность в новых книжках.
Он смущался от похвал, краснел и терялся. И только близкие друзья слышали от него, как однажды Иван Андреевич был искренне тронут своей известностью: он шел летом по глухой улице, где дома по-провинциальному были отгорожены от улицы маленькими заборчиками; за ними зеленели чахлые садики.
В одном из таких садиков играли дети под присмотром какой-то женщины, очевидно матери. Пройдя мимо, он случайно оглянулся и увидел, что мать поочередно брала на руки ребят и показывала им его, Крылова.
Откровенничал Иван Андреевич не часто и позволял себе рассказывать о таких случаях только Гнедичу или Елизавете Марковне Олениной.
Крылов был тогда самым популярным человеком в Петербурге. Залучить Ивана Андреевича в гости было большой честью для хозяев, так как он обычно отговаривался недосугом. Его заманивали всячески, соблазняя роскошными кулебяками и молочными поросятами под хреном и в сметане.
Биографы согласно свидетельствуют, что умеренность в пище не относилась к числу его добродетелей. Однажды за обедом во дворце сосед Крылова по столу, поэт Нелединский[44]44
Ю. А. Нелединский-Мелецкий (1752—1828), автор популярных любовных песен.
[Закрыть], шепнул Ивану Андреевичу: «Ты ешь за десятерых. Откажись хоть от одного блюда. Разве ты не замечаешь, что государыня поминутно на тебя взглядывает, желая попотчевать?» – «Ну, а вдруг не попотчует», отвечал Крылов серьезно и продолжал щедро себя угощать.
На вечерах и встречах с друзьями Крылова упрашивали прочесть новую басню, зная, что у него всегда есть в запасе «сюрприз». Иван Андреевич редко соглашался, но уж если читал, то это было настоящим литературным событием, и «впечатление, производимое его хорошенькими творениями, было неимоверное; часто не находилось места в зале; гости толпились около поэта, становились на стулья, столы, и окна, чтобы не проронить ни слова»[45]45
Портретная и биографическая галлерея 1841 тетр. 2.
[Закрыть].
Особенным успехом пользовались его басни «Осел», «Крестьяне и Река», «Лиса-строитель». В первой басне Иван Андреевич раскрывал загадку – почему глупость Осла вошла в пословицу. В основе загадки лежала очаровательная сказочка о том, как «стал осел скотиной превеликой». А вся басня говорила о глупых сановниках с низкой душой и ослиным нравом.
Басней «Крестьяне и Река» Крылов вскрывал поголовное взяточничество – подлинную язву российской действительности. Мелких взяточников баснописец сравнивал с речками и ручейками, которые своими разливами причиняли крестьянам большие беды. Крестьяне решили просить управы у реки, в которую впадали все эти ручейки и речки, а придя к реке, увидали, «что половину их добра по ней несет». Выходило так, что и жаловаться было некому:
«На что и время тратить нам!
На младших не найдешь себе управы там,
Где делятся они со старшим пополам».
Это была истина уже не «вполоткрыта», а почти нараспашку. И такой же голой правдой выглядела история о том, как лев, строя курятник, чтобы обезопасить себя от воров, поручил постройку великой мастерице лисе. Курятник был построен на диво, а куры все же пропадали, так как хитрая лиса-злодейка
...свела строенье так,
Чтобы не ворвался в него никто никак,
Да только для себя оставила лазейку.
Так Крылов своими баснями помогал народу, открывая ему глаза на социальные язвы и указывая, где именно, в каком закоулке прячется враг.
В 1816 году Иван Андреевич стал библиотекарем, занял место умершего Сопикова и освободившуюся сопиковскую квартиру в доме на Невском проспекте, напротив Гостиного двора. В том же доме, этажом выше, жил Гнедич.
Друзья вместе ходили по утрам в должность, вместе обедали в Английском клубе. Иван Андреевич не любил возиться с хозяйством, дома у него было пусто, одиноко, не прибрано, б трех парадных комнатах холостяцкой квартиры пахло тоской, и когда он в дождливые вечера брал в руки скрипку, в углах пустых комнат глухо, как из бочки, звучало ответное эхо.
У него была дорогая итальянская скрипка, о какой он мог только мечтать тридцать лет назад. Но играл он редко, хотя не раз задумывал всерьез заняться музыкой, покупал ноты, нотную бумагу, сочинял. Музыка была отдыхом. Его игру слушала только ленивая Фенюша, которую он подобрал с маленьким ребенком на петербургской улице. Фенюша никогда не служила в прислугах, старалась пореже бывать в комнатах Ивана Андреевича и приходила туда только топить печи да подать чай или кофе доброму барину. Иван Андреевич давно уже забыл о нужде. Он служил, получал деньги за басни и пенсию в 1 500 рублей ассигнациями в год, которую назначил ему Александр.
Попрежнему он продолжал помогать Левушке, который писал братцу-тятеньке, что присланные им 100, 150, 200 или 300 рублей вызволили его из очередного бедствия. «Один мундир, да и тот с плеч слезает, а рубашки хотя и три, но и те в дырьях», жаловался Левушка и пенял на слабость членов и болезнь глаз – и здоровьем братец пошел в папеньку! Теперь он, кстати, был произведен в капитаны, «успел под туркою быть в пяти сражениях», участвовал в походе в Пруссию, был и в гвардии, и в армии, и в гарнизоне. Скромная пчела делала свое дело.
Иван Андреевич жалел братца. Левушка жил в Виннице, служа в инвалидной команде. Все у него не ладилось – и служба, и здоровье, и хозяйство. Крылов помог осуществить заветную мечту брата – обзавестись собственным хутором. Но год спустя пришло письмо: «Пожалей обо мне: хутор мой сгорел сего генваря 15-го, в 7 часов вечера». Иван Андреевич выручил Левушку. Тот снова отстроился, купил корову, кур, гусей, завел огород. Но птицы дохли, корова пала, огород засох. Даже часы, которые Иван Андреевич привез в подарок из Риги, Левушка не мог сберечь. «Твои золотые часы с эмалию... под городом Пултуском, когда вел пленных французов до г. Минска, один французский поручик украл их у меня», печалился Левушка. Пришлось покупать другие – серебряные.
Это была трогательная братская любовь. Между братьями шла оживленная переписка. Иван Андреевич заботился о Левушке, как о ребенке. Он хотел перевести брата в Петербург, чтобы быть к нему поближе, но тот боялся холода «больше, чем яда». Лев Андреевич удивлялся щедрости своего брата, который никогда и ни в чем ему не отказывал: «Ты подлинно говоришь, как великодушный человек, что нас только двое и после нас наследников не останется, – писал Левушка, – но только не все так думают, а одни высокие благороднейшие души».

Крылов в 1816 году.
С портрета художника Кипренского.
А об Иване Андреевиче не заботился никто, кроме Елизаветы Марковны Олениной. Но се милые заботы были хотя и искренними, но все же чужими. «Крылышко» принужден был сам устраивать свою жизнь, свой быт. Он покупал ненужные громоздкие вещи, дорогие картины в тяжелых золотых рамах, и все же в петербургской его клетке было скучно, просторно и пыльно. Иван Андреевич махнул рукой на домашний уют. Он приходил домой поздно ночью, проводя вечера то в театре, то в концерте, то у друзей. С тех пор, как Жуковский переселился из Москвы в Петербург, в его доме по субботам собирались Вяземский, Оленин, Батюшков, Гнедич, молодой Пушкин. Жуковский входил тогда в славу, но среди всех гостей Иван Андреевич был самым знаменитым. Однако держался он очень скромно, как обыкновенный, ничем не примечательный человек. Как-то раз он начал рыться на письменном столе в кабинете хозяина. Его спросили, что Ивану Андреевичу надобно, что он ищет. «Да дело несложное, – отвечал Иван Андреевич. – Надобно закурить трубку. У себя дома я рву для этого первый попавшийся под руку лист, и вся недолга. А здесь, – подчеркнул он, – здесь нельзя так. Ведь тут за каждый листок исписанной бумаги, если разорвешь его, отвечай перед потомством».
Это не было рисовкой. Свои черновики Крылов уничтожал безжалостно. А по черновикам его, которых сохранилось немного, можно судить о гигантском труде, вложенном в басни великим мастером и художником слова Крыловым.
Немало лишней работы выпадало на его долю и по вине цензуры. Цензоры заставляли переделывать басни так, что их замысел подчас искажался. Ярким примером может служить басня «Рыбья пляска».

Рукопись Крылова. Начало басни «Рыбья пляска» и последние строки, переделанные Крыловым по требованию цензуры.
Староста рыбьего народа, сидя на бережку, жарил на сковородке рыбку. В это время явился грозный царь Лев. Он справился, как живется его народу, и староста сказал, что тут им не житье, а рай, и вот старшины жителей воды пришли приветствовать царя.
...«Да отчего же», Лев спросил, «скажи ты мне,
Они хвостами так и головами машут?»
«О, мудрый царь!» Мужик ответствовал: «оне
От радости, тебя увидя, пляшут».
Тут старосту лизнув Лев милостиво в грудь,
Еще изволя раз на пляску их взглянуть,
Отправился в дальнейший путь.
Эта сказочка намекала на истинное происшествие с Александром I. Цензура поэтому нажала на баснописца. Ивану Андреевичу «приказано было переделать эдак», вспоминала дочь Оленина, и Крылов, чтобы спасти басню, переделал ее целиком, с начала до конца, а конец выглядел уже «эдак»:
...«Да отчего же, – Лев спросил:– скажи ты мне,
Хвостами так они и головами машут?»
«О, мудрый Лев! – Лиса ответствует: – оне
На радости, тебя увидя, пляшут».
Не могши боле Лев тут явной лжи стерпеть,
Чтоб не без музыки плясать народу,
Секретаря и воеводу
В своих когтях заставил петь.
В «эдакой» редакции царь стал милостивым, проницательным, справедливым. Крамольного мужика заменила лиса. И только этот текст, под заголовком «Рыбьи пляски», был разрешен цензурой[46]46
Подлинный текст басни стал известен широкому читателю только в 1935 году.
[Закрыть].
Борясь с цензурой и всячески увертываясь от ее опеки, Крылов все же умело свел с нею счеты, опубликовав невинную басенку о кошке и соловье. Цензура спохватилась поздно. Басня уже была напечатана.
В ней Крылов рассказывал о злой кошке, интересовавшейся соловьиным пением. Поймав соловья, она требовала песен, желая убедиться в таланте прославленного певца, но бедняга едва дышал и только попискивал от страха. Кошка разочаровалась в соловье. Он в пении, по ее мнению, был вовсе не искусен:
«Все без начала, без конца,
Посмотрим, на зубах каков-то будешь вкусен!»
И съела бедного певца —
До крошки.
Сказать ли на ушко, яснее, мысль мою?
Худые песни Соловью
В когтях у Кошки.
«ЛЕНИВАЯ МУЗА»
Так дарование без пользы свету вянет,
Слабея всякий день,
Когда им овладеет лень...
Крылов, «Пруд и река».
Басня о кошке и соловье была опубликована вслед за появлением в печати «Рыбьих плясок» в 1824 году, после нескольких лет полного молчания.
В 1819 году Иван Андреевич издал книгу басен в шести частях. В ней был помещен перл басенной поэзии – «Овцы и Собаки»:
В каком-то стаде у Овец,
Чтоб Волки не могли их более тревожить,
Положено число Собак умножить.
Что ж? Развелось их столько, наконец,
Что Овцы от Волков, то правда, уцелели.
Но и Собакам надо ж есть:
Сперва с Овечек сняли шерсть,
А там, по жеребью, с них шкурки полетели,
А там осталося всего Овец пять-шесть,
И тех Собаки съели.
Прошел слух, что Крылов больше не будет писать, что он расстался с поэзией. Слухам не верили, Иван Андреевич уклончиво ссылался на государственную службу, на слабую память, на преклонные годы. Но и Крылову тоже не очень верили. Тем более, что выглядел он превосходно, часто бывал у друзей, на званых вечерах, в концертах и в театре, где с успехом шли его опера и комедии. Но иногда Крылов будто проваливался, и даже друг его Гнедич терялся в догадках. Иван Андреевич почти всерьез говорил ему, что на него нашла блажь и что он играет в карты.
Все близкие друзья знали, что Ивана Андреевича всегда можно было найти на пожаре, где бы и когда бы этот пожар ни случился. Старая детская любовь к большому огню переросла со временем в привычку. Для нее не были препятствием ни дождь, ни усталость, ни буря, ни пурга. Увидев сигнальные шары, поднимающиеся на пожарной каланче, услышав набат или громыханье пожарных колесниц, сопровождаемое воплями медной трубы, Крылов бросал все дела и спешил на место происшествия. Он был способен вскочить среди ночи с постели, мгновенно одеться и отправиться на край города. Биографы Крылова утверждают, что он не пропустил ни одного крупного петербургского пожара.
Искать Крылова на пожарах было все же неудобно, а на людях он почти не появлялся, если не считать службы, – ее он посещал аккуратно. Оленины скучали по Иване Андреевиче, приглашали его к себе, однако и к ним он выбирался редко, жалуясь на старческие немощи.
По вечерам и в свободные дни он занимался новым увлечением – просиживал долгие часы над греческим евангелием. Это была единственная у него книга на греческом языке. Примерно с год назад у Олениных зашел разговор о том, что учиться языкам в преклонном возрасте невозможно. Особенно труден, говорил Гнедич, язык греческий. Крылов оспаривал это, утверждая, что всякому языку можно выучиться в любом возрасте. Гнедич, обиженный за греческий – он-то изучал его всю жизнь, – сказал, что доказательство лучше спорных утверждений. «Попробуйте. Докажите».– «Ну и что же, – легкодумно засмеялся Иван Андреевич, – давайте биться об заклад». Побились об заклад и забыли об этом.
Ивану Андреевичу перевалило за пятьдесят, но он решил доказать свою правоту и начал изучать язык без учебников, по двум евангелиям – греческому и русскому.
Спустя два года он уже свободно читал и переводил. Накупив книг греческих классиков, Иван Андреевич сложил их у себя под кроватью и перед сном обязательно прочитывал несколько страниц.
Эзопа он уже читал свободно, а в Геродота влюбился и хотел перевести его книгу. Несколько вечеров подряд Иван Андреевич занимался «Одиссеей». Русского перевода «Одиссеи» еще не было, и он для пробы перевел из нее вступительную песню.
Однажды за обедом у Олениных, где был также Гнедич, Крылов напомнил о старом их споре. Все рассмеялись. О споре давно уж все забыли. Но Иван Андреевич всерьез предложил назначить ему экзамен, чтобы выяснить наконец, прав он или неправ.
Устроили экзамен. Вначале его вели шутя, не желая позорить крыловские седины, потом увлеклись и спрашивали Ивана Андреевича с пристрастием. Успех был полный. Гнедич признал себя побежденным, но говорил всё же, что спор не в счет, так как Крылов существо не обыкновенное, а гениальное.
Журналы и издатели продолжали выпрашивать у Ивана Андреевича новые басни. Увы, он ничем не мог порадовать читателей. Пришлось согласиться, что муза его действительно замолкла. И это походило на правду; автор был уже немолод, за славой ему нечего было гоняться, он был государственным чиновником, его жаловали чинами и орденами, удвоили пенсию. Крылов уже был надворным советником. Писатель мог жить спокойно и пожинать лавры.
Иван Андреевич, однако, вовсе не собирался успокаиваться – ведь он сказал еще далеко не все, что хотел сказать. В тиши своего неуютного холостяцкого дома он готовил новую книгу басен, среди которых была басня «Пестрые Овцы». Ей Крылов придавал особое значение. Взыскательному художнику снова казалось, что талант его слабеет, а полагаться только на дарование и на вдохновение – это пустое дело.
Без упорного труда, настойчивости, терпения ничего доброго не может быть создано. И он по многу раз переделывал свои произведения, рвал лист за листом, и снова перо его летало по бумаге.
Правда, сейчас уже никакие Каченовские не смели критиковать крыловские басни. Но тем строже относился Иван Андреевич к своей работе, памятуя, что он работает не для денег или славы, а для народа.
Крылов любовно следил за подымающейся русской литературой. Стихи молодого Пушкина, с которым он встречался у Жуковского, радовали Ивана Андреевича. Выход «Руслана и Людмилы» был для него праздником. Поэму бранили литераторы старой школы. Критики нападали на нее со всех сторон. Одна статья вывела Крылова из себя. Он вмешался в полемику, уязвив автора статьи острой эпиграммой:
Напрасно говорят, что критика легка.
Я критику читал «Руслана и Людмилы»:
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно как тяжка!
С болью в душе наблюдал он, как на его глазах пропадали талантливые люди: царская Россия давила и угнетала их, они голодали, бедствовали, спивались, исчезали для искусства и для общества. Так пропал без применения гигантский талант знаменитого русского механика Кулибина; на памяти Крылова погиб талантливейший архитектор Баженов, затравленный бездарными и капризными самодурами-сановниками. Иван Андреевич был свидетелем гибели превосходного графика Скородумова, который кончил образование в Англии и, несмотря на лестные и выгоднейшие предложения лондонских издателей, решил вернуться на родину. Родина встретила художника неприветливо. Он не знал, к чему приложить свои руки, затосковал, спился и погиб.
Но еще горше было Ивану Андреевичу видеть, как большие таланты разменивались на мелочи, на поденки, на погоню за дешевой славой. Обычно он никогда не хвалил, не ругал, не замалчивал поэта, музыканта или художника, а давал им дельные и умные советы трудиться не покладая рук, учиться каждый день, совершенствоваться каждый час. «Дарование слабеет, когда вы его не совершенствуете, – говаривал он. – Искусство – это не вдохновение, а упорный труд».

Крылов гуляет по Невскому проспекту.
С современного рисунка
Крылов встретился как-то у князя Шаховского с молодым чиновником Григорьевым. Григорьев декламировал стихи, и гости восторгались его мастерским чтением. Похвалы сыпались на юношу. Один только Иван Андреевич молчал и, когда восторги стихли, спросил:
– А что, умница, ты учишься у кого-нибудь?
– Никак нет-с, – отвечал тот.
– Ну, так и подлинно бы, князь, – сказал Крылов, обращаясь к Шаховскому, – поскорее бы им заняться, а то, пожалуй, еще и с толку собьют... С этим талантом надобно поступать осторожно... – И тут же Иван Андреевич посоветовал юноше не разбрасывать своего таланта по гостиным, забыть об аплодисментах и, главное, учиться, работать, потому что без труда любой талант рассеется прахом.
А спустя несколько лет Крылов увидел на сцене превосходного артиста и узнал в нем молодого чиновника Григорьева. Это был известный в свое время русский актер, выступавший на сцене под псевдонимом Брянский.
После «греческой истории» Крылов стал чаще появляться на людях. Летом Иван Андреевич обычно выезжал к Олениным на дачу, под Петербургом. Приютино, как называлась оленинская дача, было чудесным уголком, где Иван Андреевич, отдыхая, играл с детьми Елизаветы Марковны, – они любили дедушку без памяти, – писал веселые стишки и пародии на басни, смешные надгробные надписи – эпитафии и шуточные двустишия, вроде: «Ест Федька с водкой редьку, ест водка с редькой Федьку».
Время от времени Крылов бывал у талантливого молодого писателя А. Перовского[47]47
Талантливый автор рассказов, печатавшийся под псевдонимом Погорельский (род. 1787 г., ум. 1836 г.),
[Закрыть]. Зашла как-то речь о привычке ужинать – полезно это или вредно? Одни уверяли, что они отучились от ужинов и чувствуют себя прекрасно, другие собирались бросить эту привычку. Иван Андреевич, оторвавшись на мгновенье от приятного занятия – он накладывал на тарелку кушанье, – проговорил:
– А я, как мне кажется, ужинать перестану в тот день, с которого не буду обедать.
Он был уже немолод, и у него сложились привычки, от которых ему и не хотелось отказываться: за письменным столом он не мог работать, а полулежал с листком бумаги и карандашом на излюбленном своем диване. Да и письменного стола у него не было. Он привык курить сигары, хотя братец Левушка присылал в подарок пачки душистого турецкого табака. На окружающую обстановку Иван Андреевич не обращал никакого внимания, что вполне устраивало его Фенюшу. Он любил свежий вольный воздух и потому в большой комнате, где стоял широкий диван, всегда была открыта форточка. Какой-то любопытный голубь—их много кружилось над сытным Гостиным двором – залетел однажды в комнату к Ивану Андреевичу, поклевал хлебные крошки, рассыпанные на подоконнике – здесь Крылов обычно пил свой утренний чай, – и привлек новых товарищей. Крылатые гости не обращали на хозяина никакого внимания. Он не проявлял воинственных намерений, а с радостью слушал воркованье и несложные ссоры своих гостей. Потом для их удобства на подоконниках рассыпали корм и поставили блюдца с водой.
Крылов стал привыкать к медлительной жизни. Писать письма он не любил, исключением был только брат. С ним велась аккуратная переписка[48]48
Сохранились только письма Л. А. Крылова: ни одного письма Ивана Андреевича к брату до нас не дошло.
[Закрыть]. Левушка жаловался на ленивую и сонную музу Ивана Андреевича, потому что давно уже не видел новых его басен. Он безмерно гордился знаменитым своим братом.
А слава Ивана Андреевича давно уже перешагнула границы родины. Его переводили во Франции, в Италии, в Германии, в Англии, в скандинавских странах, о нем писали как об истинном представителе России. Левушка с восторгом читал парижскую книгу басен Крылова, присланную ему братом. Перевод его не удовлетворил, но слова французского переводчика о том, что всякая просвещенная страна считала бы для себя честью иметь такого писателя своим соотечественником, наполняли сердце Левушки горделивой радостью. «Этого, я думаю, еще никогда никто в России не слыхал», писал он Ивану Андреевичу.
Мнение Крылова-младшего о баснях своего брата, которое он высказал в одном из своих писем, было, конечно, не только его личным мнением, а выражало взгляд огромного большинства читателей. «Басни г. Измайлова, – писал Левушка, – в сравнении с твоими, как небо от земли; ни той плавности в слоге, ни красоты нет, а особливо простоты, с какою ты имеешь секрет писать, ибо твои басни грамотный мужик и солдат с такою же приятностью может читать... Читал и сочинения г. Жуковского, но он, как мне кажется, пишет только для ученых и более занимается вздором, а потому слава его весьма ограничена. А также г. Гнедич, человек высокоумный, и щеголяет на поприще славы между немногими. Но как ты, любезный тятенька, пишешь—это для всех: для малого и для старого, для ученого и простого, и все тебя прославляют...»[49]49
Письмо Л. А. Крылова от 9 июня 1823 года.
[Закрыть]
Крыловские басни были известны действительно всем. Их знали и грамотные и неграмотные. Ни Державин, ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Гоголь не пользовались при жизни такой славой, как Крылов. И самому Ивану Андреевичу пришлось случайно убедиться в своей популярности.
Как-то зашел он в магазин полакомиться устрицами, до которых был большой охотник. В магазине он встретился с крупным сановником; расплачиваясь за свою покупку, сановник выяснил, что у него нехватает с собою денег, и, не сомневаясь в том, что хозяин магазина его знает, спросил: может ли тот поверить ему на слово? Купец извинился, что не имеет чести его знать, и, обращаясь к Крылову, сказал: «Вот ежели бы за вас поручился Иван Андреевич, то я с удовольствием...» – «А откуда ты меня знаешь? – удивленно спросил Крылов. – Ведь я у тебя впервые». – «Помилуйте, Иван Андреевич, – улыбнулся купец, – да вас, я думаю, всякий мальчишка на каждой улице знает».
Это очень польстило Крылову. Он был доволен собою, купцом, сановником, миром и растранжирил в магазине все деньги, что с ним были. Возвращаясь домой, он вспомнил, что хотел купить нотной бумаги, и зашел в гостинодворскую лавочку напротив своей квартиры. «А за деньгами пришлите ко мне на дом, – не-брежно сказал он, протягивая руку за свертком, – моя квартира в двух шагах отсюда. Вы ведь знаете меня – я Крылов». – «Помилуйте, сударь, как можно знать всех людей на свете, – проговорил лавочник и убрал с прилавка бумагу. – Много тут живет народу».
Крылов расхохотался. То был достойный урок его гордости. Он с удовольствием рассказывал об этом и Гнедичу, и Плетневу, и своим товарищам в библиотеке. Как истинный мудрец, он во всем мог видеть смешную сторону.
Когда Ивану Андреевичу минуло пятьдесят три года, у него начались приливы крови. Он никогда не болел, не признавал докторов и редкие головные боли лечил своеобразным лекарством – чтением глупых романов. И «средство» обычно помогало. Однажды ночью он проснулся, как от удара. Руки не двигались. Сердце замирало. Это и был первый удар – следствие одинокой, недвижной жизни при богатырском здоровье Ивана Андреевича.








