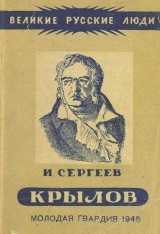
Текст книги "Иван Андреевич Крылов"
Автор книги: Иван Сергеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Да и существовал ли когда-нибудь оригинал этого перевода? Но обратите внимание, как подписан этот «перевод». «Нави Волырк». Выверните странную фамилию наизнанку, прочтите ее наоборот, и вам станет понятна затаенная мысль писателя.
И все же Крылов тревожит правительство. Хотя за издателями и следят, но лучше, если печатать журнальные листы будут не на отлете, а под недреманным оком. Издание переносится в недра Академии наук, и «в помощь» редакторам прикрепляют И. И. Мартынова, будущего директора департамента народного просвещения.
Крылов отстранился от журналистики. Последнее произведение его коротенькая ода «На случай фейерверка» – написано им по поводу салюта, данного в Петербурге 15 сентября 1792 года в честь окончания войны с Турцией.
По форме ода слаба – этот жанр был вообще чужд Крылову. В оде он восхвалял Россию, русский народ – великих и бесстрашных россов. Имя Екатерины было пристегнуто кое-как, – без него ведь нельзя было обойтись,
Крылову трудно было уложить свои мысли и страсти, свою злость и негодование в рифмованные строчки. В прозе же он уже чувствовал себя не подмастерьем, а подлинным мастером, хозяином, у которого слово стояло весомо, точно и направленно.
Но именно проза могла погубить Крылова. Для него было ясно: Крылова-прозаика уберут с дороги, Крылова-поэта будут терпеть, ибо он пока никаких опасностей как поэт не представляет. И он сам решил отложить в сторону свое разящее оружие – сатирическую прозу.
Накануне этого решения он был вызван во дворец: Екатерина II возымела желание побеседовать с литератором. Позже вызвали Клушина. Екатерина разговаривала с ним, как и с Крыловым, наедине.
О чем был разговор – история не сохранила документов. Можно судить о нем только по его следствиям.
Много лет спустя реакционный журналист Булгарин, сюсюкая, вспоминал: «Великая приняла ласково молодого писателя, поощрила к дальнейшим занятиям литературой»[22]22
«Северная пчела», 1845 г.
[Закрыть].
В результате «поощрения» Крылов понял, что принятое им решение правильно.
Клушин сдался. Императрица посоветовала ему продолжать образование, предложила послать его за границу в Геттингенский университет, приказала выдать способному молодому человеку 1 500 рублей. В последнюю книжку «Меркурия» он передал Мартынову льстивую, пресмыкательскую оду Екатерине.
Крылов не продавался. И, повидимому, опасаясь, как бы его не упрятали под замок, решил сам отправиться в добровольную ссылку.
Это решение было принято им с горечью. Он оглядел прожитую жизнь, полную унижении, обид и горя. Одно поражение следовало за другим. Он крепился, не падал духом. Но обстоятельства были сильнее его. Когда-то ему казалось, что желанием можно достигнуть всего. И вот теперь он подводил короткий итог – полное крушение всех надежд.
Он никогда не поддавался слабости. Слезами горю не поможешь. В последний раз они катились по его щекам в день смерти любимой маменьки. Но сейчас он не мог удержаться и плакал, как ребенок. Он оплакивал себя, рухнувшие свои надежды и свои мечты, которые остались только мечтами.
Так, на двадцать шестом году жизни—довольно обычный срок для передового русского писателя тех времен – умолк голос молодого сатирика, и с литературной арены сошел посредственный поэт и замечательный прозаик, зачинатель реализма, Крылов Иван Андреевич.
2
ГОДЫ СКИТАНИЙ
О, странное судеб веленье,
Чудесный счастья оборот.
Невинный страждет в утесненьи,
Злодей безбедственно живет.
В. Попугаев, «Судьба», 1801 год.
Крылов исчез.
Быть может, он продолжал существовать даже в самом Петербурге. Но это был уже не блестящий писатель, журналист, участник литературных салонов, друг художников и музыкантов. Это был добровольный изгнанник, расставшийся с мечтами молодости.
И с этой полосой его жизни перекликаются скорбные строки восемьдесят седьмого псалма, переложенного Крыловым в стихи:
Тесним от ближних, обесславлен,
Друзьями презрен и оставлен,
Средь кровных чуждым я живу...
Он не представлял себе, сколько лет продлится добровольная его ссылка, не знал, где ее проведет. Кто-то из его друзей предложил ему пойти в армию. Он согласился. Его записали подпоручиком. Старые мечты о славе пришли к нему снова: «Кричу нередко сгоряча, и шлем и латы надеваю, в сраженьях мыслию летаю... и армии рублю сплеча...» Но это было не всерьез. Ведь в армии человек всегда на виду, а ему нужно было уйти с глаз, скрыться, создать какую-то иную жизнь. Мир широк, и в нем ему найдется место. Он переждет ненастье. Ведь не может же оно длиться вечно! После долгой ночи приходит солнце, и после суровой зимы всегда наступает весна.
Крылов был оптимистом. Он с улыбкой вспомнил недавний свой совет читателям «Почты духов»:
«Дабы получить успех в изучении мудрости, надлежит лучше быть зрителем, а не действующим лицом в тех комедиях, которые играются на земле...»
В конце концов, почему ему самому не воспользоваться этим советом?
В нем заговорил драматург. Предположим, что именно так он и поступит. Он будет жить, смотреть на мир, учиться. Нужно выучиться жить. Ведь это самая сложная в мире наука. И опыт показал, что в ней он совсем не силен.
Крылов не учел только одного: драматург – всегда актер, иначе нельзя быть хорошим драматургом. И неприметно для себя он стал играть роль «зрителя».
Это была школа жизни. Тысячи чужих судеб проходили перед его глазами. Он переезжал с места на место: Москва, Ярославль, Нижний-Новгород, Петербург, Москва, Тула, Тамбов, Саратов, Киев, Москва. Он ездил со случайными попутчиками, друзьями, товарищами, которые рады были залучить к себе в гости интересного собеседника. Он старался выдержать характер и не прикасался к перу, хотя оно тянуло его к себе, как магнит.
Время летело. Иван Андреевич старался не замечать этого, чтобы не огорчаться. Года через полтора после начала добровольной своей ссылки он попал в Москву. Древний русский город был дорог и близок Крылову. Здесь он чувствовал себя в стане русских. Правда, и в Москве «чужебесие» давало себя знать, но рядом с московской стариной, щами, пирогами, кулебяками и расстегаями, рядом с малиновым звоном «сорока сороков», тройками и родным московским говором оно казалось смешным и непрочным, как пудра на париках.
Он сдружился с семьей помещиков Бенкендорфов.
В их доме собирались художники. Иван Андреевич вспомнил недавнюю старину – ведь и он когда-то рисовал. Е. И. Бенкендорф попросила его сделать ей рисунок на память. Он долго отнекивался. Потом выбрал сюжет – Екатерину. Тонким пером рисовал он портрет, пожалуй, самого ненавистного ему человека. Портрету не везло: то его заливали чернила, случайно опрокинутые Крыловым, то по небрежности засовывали куда-то в старый бумажный хлам. Наконец рисунок был готов и отправлен вместе со стихами, в которых светские комплименты оригиналу портрета заканчивались невинными строчками:
Пусть видят недостатки в нем,
Но, критику оставя строгу,
Пусть вспомнят то, что часто к богу
Мы с свечкой денежной идем.
Роль копеечной свечки в данном случае играл портрет царицы.
Перо уже было в руке Крылова. Он по инерции продолжал писать. Как раз в это время Карамзин и Дмитриев решили открыть «сцену для русских стихотворцев, где бы они могли без стыда показываться публике». Этой сценой должен был явиться новый альманах «Аониды»[23]23
Аониды – музы, богини искусств
[Закрыть]. Карамзин хотел собрать в своем альманахе все талантливое, чем была богата Россия, и литературных друзей и врагов. Крылов, конечно, не мог остаться в стороне.
Памятуя свой зарок, Иван Андреевич передал в альманах безобидные стихи: вольное переложение одного из псалмов – «Оду к богу» и «Вечер» – последнюю дань любви к Анюте.
Оба стихотворения были подписаны не полным именем автора, а тремя буквами – «И. К—в». Изменятся обстоятельства, тогда снова появится и «Крылов».
И обстоятельства внезапно изменились: умерла Екатерина II, и на престол русских царей взошел Павел I.
Ненавидевший до бешенства свою мать, искалеченный воспитанием, подозрительный, злобный и временами сумасшедший, способный на дикие выходки, Павел I в первые месяцы своего царствования упоенно уничтожал все, что было дорого Екатерине. Со злорадством он расправлялся с многочисленным сонмом ее фаворитов и утеснял их всячески. Он вернул свободу Радищеву и Новикову, отменил екатерининские порядки при дворце. Многие воспрянули духом. Казалось, пришла наконец пора перемены.
Это, однако, была ложная надежда.
Ею, впрочем, обольстился и Крылов. Он вернулся в Петербург, где продолжала еще работать типография под старой маркой «Крылов с товарищи» Товарищей, правда, уже не было. Иван Андреевич, умудренный опытом, решил не ввязываться в каверзное издательское дело. Он прожил в Петербурге недолго, почти ежедневно встречаясь с братом. Левушку от– у числили из гвардии. Он пришелся не ко двору. Товарищи потешались над ним, называли его «сивым старцем». Отчислили его так же, как когда-то Андрея Прохоровича, – за бедность, за неспособность содержать себя, как подобает гвардейскому офицеру. Но Левушка был рад, что уходит из гвардии, от каждодневной опасности встретиться с царем и навлечь на себя беспричинный гнев. Он уже мечтал о том счастливом времени, когда приедет в Орловский мушкетерский полк, куда Левушка получил назначение.
Иван Андреевич с жалостью глядел на братца. Нет, это было удивительно! До чего же он походил на отца.
Быть может, Левушка был прав. Подальше от столицы, подальше от греха. О самодурстве императора уже начинали ходить легенды. Крылов никогда не видел Павла I и однажды вечером столкнулся с ним на Дворцовой площади. Разговор был дик и короток; очевидно, Павел принял Ивана Андреевича за кого-то другого и справился о его здоровье. Крылов поблагодарил. Павел просил заходить к нему не стесняясь. Позже он узнал, что Крылова обижала Екатерина. Значит, он ей был враг, а ему, следовательно, друг. Крылов решил воспользоваться приглашением. Он пришел во дворец. Его приняла императрица Мария Федоровна. Павел уже вряд ли о нем помнил. Он был забывчив, и его одолевали заботы: преклонявшийся перед прусскими порядками, он торопился их насаждать в армии, во дворце, в учреждениях. Недавнее французское засилье сменялось немецким.
Боясь восстаний, Павел запретил читать крамольные книги и говорить о революции во Франции. Частные типографии закрывались, ввоз иностранных книг прекратился. Спустя несколько месяцев дышать в России стало труднее, чем при Екатерине.
Крылов исчез снова. Он побывал в Саратовской губернии у князя Голицына, гостил в Киевской губернии у князя Лопухина, появлялся не надолго в Москве в домах местной знати – богача поэта Карина, графа Татищева, Яковлева (отца Герцена).
В те времена провинциальные помещики изнывали от скуки в своих поместьях и всегда были рады нежданным гостям. Из одной губернии в другую ездили помещики гостить к родственникам, приятелям, друзьям. Крылов продолжал кочевую, бездомную жизнь. Он старался нигде не засиживаться долго, чтобы не попасть в разряд приживальщиков, – это был особый тип людей того времени, несчастных, неудачливых, прогоревших Дворян; они подолгу жили у своих милостивцев-благодетелей и приживались к их семьям, как приживаются кошки или собаки.
Крылов гостил у своих петербургских и московских знакомых месяц, два, три и уезжал дальше, провожаемый возгласами огорченных хозяев, терявших обаятельного собеседника, выдумщика, остроумца, и искренними слезами помещичьей дворни, с которой Иван Андреевич находил близкий, родной язык, как равный с равными.
Для всех этих помещиков и вельмож Крылов был писателем, человеком разнообразных талантов. И время от времени он публиковал небольшие невинные статейки или переводы с иностранных языков. К французскому и итальянскому теперь прибавился немецкий; Иван Андреевич учил его походя.
Пожалуй, самой большой работой в эти годы скитаний был перевод либретто итальянской оперы «Сонный порошок, или похищенная крестьянка».
Он подписывался сейчас либо одной, либо двумя буквами, или же, когда ему надо было подчеркнуть особый смысл, он выворачивал сбою фамилию наизнанку. Только под невинным «Сонным порошком» стоит подпись: «Подпоручик И. Крылов».
Как некогда, в юности, он испытывал себя в различных литературных жанрах, так теперь Иван Андреевич хотел испытать различные жизни: он уже был чиновником, драматургом, писателем, художником, издателем, математиком, мудрым созерцателем жизни.
Из бесконечной вереницы людей Иван Андреевич пытался выбрать себе друга и товарища. Но найти друга нелегко было в такое смутное время, как царствование Павла. Крылов сблизился только с князем Голицыным. Это была не дружба, а только взаимная приязнь умных людей. Голицын тогда считался опальным. Но судьба сановника переменчива: она зависит от настроения царя. Внезапно опала была снята, и Голицын получил приказ немедля выехать к армии в Литву. Павел I вручал ему командование войсками. Крылов, не задумываясь, принял предложение князя отправиться вместе с ним на запад, з незнакомые края. Он уехал в роли личного секретаря командующего русскими войсками. Это было естественно: ведь Крылов числился подпоручиком.
Служба его длилась недолго. Очередная немилость Павла вынудила князя Голицына удалиться в Киевскую губернию, в его поместье Казацкое. Вместе с опальным вельможей отправился в изгнание и Крылов.
Он понимал, что ему придется пробыть здесь довольно долго. Связь с опальным аристократом поставила Крылова под надзор полиции. Разъезды надо было прекратить – они могли вызвать ненужные подозрения. Опасаясь измены, возмущения, бунтов, Павел I наводнил своими шпионами не только столицы, но и провинцию.
Особенно ненавистны Павлу стали литераторы. Литература, театры, газеты замерли. Крылов обязан был вести себя тише воды, ниже травы. Возвращались знакомые ему дни ненастья.
КАНУН НОВОЙ ЖИЗНИ
В ненастное время пернатые певцы скрываются в густоте леса.
Ф. Вигель, «Записки», т. I.
Этот эпиграф из записок Вигеля имеет прямое продолжение:
«Деревню и дом князя Голицына избрал тогда убежищем один весьма мохнатый певец, известный чудесными дарованиями. Я назвал его певцом мохнатым, потому что в поступи его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжестве, та же смышленость, затейливость и ловкость... Многие догадаются, что я хочу говорить о Крылове.
Он находился у нас в качестве приятного собеседника и весьма умного человека, а о сочинениях его никто, даже он сам, никогда не говорил. Мне это доселе непонятно... я не подозревал, что каждый день вижу человека, коего творения... читаются всеми просвещенными людьми в России.
...В этом необыкновенном человеке были положены зародыши всех талантов, всех искусств. Природа сказала ему: выбирай любое, и он начал пользоваться ее богатыми дарами, сделался поэт, хороший музыкант, математик... Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостоил своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел...»
Вигель, генеральский сын, воспитывавшийся в доме Голицыных, желчный, завистливый и двуличный, оставивший после себя знаменитые записки, так нарисовал образ Крылова. С этой характеристикой согласились многие биографы великого баснописца, но она далеко не точна.
Свои записки он писал сорок лет спустя. Лишь отдельные черточки портрета Ивана Андреевича, написанного Вигелем, имеют сходство с оригиналом. Как и подавляющее большинство современников, он не понял Крылова и при всем остром и язвительном уме своем повторил басню о баснописце.
Вынужденный застрять в Казацком, Иван Андреевич, не желая чувствовать себя тунеядцем, предложил Голицыну заниматься с его детьми русским языком. Так Иван Андреевич узнал еще одну жизнь – жизнь домашнего учителя.
Педагогом Иван Андреевич оказался редкостным. «И в этом деле показал он себя мастером, – пишет Вигель. – ...Он не довольствовался одним русским языком, а к наставлениям своим примешивал много нравственных поучений и объяснений разных предметов из других наук... и я должен признаться, что если имею сколько-нибудь ума, то много в то время около него набрался».
Занимаясь с детьми, Крылов вспоминал свое детство. Он стремился быть тем идеальным учителем, о котором так мечтал в доме Львовых, – богатым знаниями и щедрым на них. Он вел уроки шутя, вызывая оживленные споры. Учитель пробуждал любознательность, любил, когда ему задавали дельные вопросы, и ясно, толково, сжато отвечал на них. Казалось, педагогика была истинным его призванием.
Здесь же в Казацком открылся в нем новый талант, проблески которого намечались еще в Твери, когда сынок магистратского председателя бегал с уличными мальчишками. Может быть, толчком к открытию этого таланта послужило известие из Петербурга о том, что на театре была наконец дана опера «Американцы», написанная Крыловым двенадцать лет назад. Забытую оперу продвинул на сцену Клушин. Он был сейчас цензором российской труппы. Иван Андреевич вспомнил о театре и о своей неудачной карьере драматурга и написал для любительского театра Голицыных шутотрагедию – «Трумф, или Подщипа». Комическая пьеса была злой и остроумной пародией на «классические» трагедии. В «трагедии» Крылова действуют глупый царь Вакула, гоняющий кубарь в царском совете; трус и дурак князь Слюняй, жених царевны Подщипы, проводящий все дни на голубятне; выжившие из ума, глухие, немые и слепые вельможи и наглый болван-солдафон немецкий принц Трумф, захвативший царство царя Вакулы.
Современники вкладывали в эту веселую, искрящуюся остроумием шутотрагедию иной смысл: они видели злую сатиру на онемечившийся двор Павла I, на немецкие порядки, заведенные в армии, против которых •боролся Суворов, на засилье немцев-временщиков – их ненавидела вся Россия. Кстати, и последняя опала князя Голицына была вызвана его столкновениями с немецкими ставленниками Павла I.
В лице Трумфа Крылов дал характерный образ немца, наглого и самоуверенного, когда он чувствует свою безнаказанность, и трусливого, когда ему «сшибают прыть».
Замечателен в пьесе красочный язык действующих лиц: Подщипы с ее ложным пафосом классических трагедий высокого стиля и рядом с ним неожиданно комическая шепелявая речь льстивого Слюняя, простецкая, мужиковатая – царя Вакулы, искалеченный немецким произношением русский язык самого Трумфа.
Прямой сатиры на царствование Павла I в «Подщипе», разумеется, не было. К шутотрагедии невозможно было придраться, да и Крылов вряд ли стал бы из-за пустяков рисковать свободой, если не жизнью: шпионы Павла I, несомненно, жили и в Казацком.
Тем не менее многие десятилетия пьеса находилась под негласным запретом. Ее переписывали, играли на любительских сценах, часто цитировали. О ней помянул Пушкин в юношеской своей поэме «Городок». Учащихся исключали за чтение «Трумфа» из школы. Впервые пьесу издали за границей через шестьдесят лет после того, как она была написана. А в России она была напечатана только в восьмидесятых годах прошлого столетия.
На первом представлении шутотрагедии в Казацком Иван Андреевич исполнял роль Трумфа. Актерский талант его поразил и покорил зрителей. Это был превосходный, первоклассный артист. Ему бешено аплодировали не только как автору, но и как исполнителю.
Но у него, помимо актерского, оказался и блестящий режиссерский талант; его уменье вести репетиции и создавать сценическую обстановку современники называли «искусством неподражаемым».
Работа над «Трумфом» встряхнула Ивана Андреевича. Он начал писать маленькую комедию «Пирог» и часто уходил в глушь сада с карандашом в руках и тетрадкой. Время от времени приходили письма от «сивого старца» – Левушки; он благодарил за очередную присылку денег и подробно рапортовал «любезному тятеньке» о своей немудреной жизни. Это были почтительные письма послушного сына к отцу.
Жизнь у Голицына закончилась внезапно. Императора Павла задушили подушкой: его все ненавидели – и народ и вельможи. Гвардия присягнула «нежному» его сыну Александру I, принимавшему участие в заговоре против отца. Дрожавшая от ужаса перед диким деспотизмом сумасшедшего самодержца, Россия встрепенулась. Снова повеяло весной. Опальные сановники и вельможи потянулись в Петербург, ко двору. Срочно укатил туда и князь Голицын. О нем, обиженном Павлом человеке, вспомнили немедленно.
Иван Андреевич не торопился в столицу. Но ему уже опротивело мыкаться по чужим углам. Голицын искренне его любил, привязался к нему. Назначенный на высокий пост военного губернатора Лифляндии, Эстляндии и Курляндии, он пригласил Крылова на работу в Ригу. Иван Андреевич считал, что для него почетнее служить в Риге не по протекции Голицына, а по назначению из Петербурга, – ведь у него как-никак был чин провинциального секретаря.
Он приехал в Петербург и не узнал столицы. Она оживала будто после тяжкой болезни. Всюду говорили о реформах, о разительных переменах, об ангельской доброте молодого императора, поговаривали даже о конституции, которую якобы царь вот-вот собирался даровать народу. Уже было известно, что Радищев работает в комиссии по составлению законов, что по приказу Александра спешно изучались «все конституции», дабы выработать наконец, как говорил сам царь, «определение столь знаменитых прав человека».
Иван Андреевич с интересом следил за волнением общества, не изменяя своего решения быть только зрителем. Его время – он это чувствовал – еще не пришло. Продавать себя, как Клушин, он не собирался. Клушин был легким человеком. Получив от Екатерины полторы тысячи, он поехал за границу, но в Ревеле застрял, женился на баронессе с немецкой фамилией, – при Павле это было модно. Заручившись свидетельствами, он доказал, что Екатерина его обижала и утесняла, и в награду за перенесенные несчастья был назначен цензором на театре, – это событие он тут же отметил подхалимской одой Павлу. Связи помогли Клушину удержаться и при Александре. По старой дружбе он мог теперь оказать Ивану Андреевичу содействие. Но Крылов вежливо отклонил предложение, удивляюсь услужливости и покладистости Клушина. Тот прочел последнее свое произведение – оду на пожалование Андреевской ленты графу Кутайсову,
Крылов посоветовал автору из уважения к самому себе не печатать эту оду и высказал несколько резких истин насчет цели, с какою эта ода была сочинена. Клушин обиделся. Они расстались навсегда.
Петербург с его болтовней о конституции, с одами графу Кутайсову стал противен Ивану Андреевичу. Он напомнил о себе вдовствующей императрице Марии Федоровне, высказал скромное желание служить под начальством князя Голицына, и скрипучая канцелярская машина завертелась с удивительной быстротой: провинциальный секретарь Иван Крылов по указу правительствующего сената был немедля определен секретарем эстляндского, лифляндского и курляндского губернатора. В начале зимы 1801 года он выехал в Ригу.








