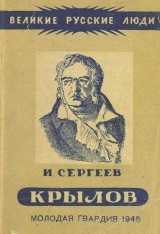
Текст книги "Иван Андреевич Крылов"
Автор книги: Иван Сергеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 11 страниц)
ВЕСНА
После редкого счастья найти подругу, которая вполне подходила бы к нам, наименее несчастное состояние жизни – это, без сомнения, жизнь в одиночестве. Всякий, кому пришлось много выстрадать от людей, ищет уединения...
Сен Пьер, «Поль и Виргиния».
Его уже называли Иван Андреевич.
Остроумный, жизнерадостный и неистощимый на выдумку, он был желанным гостем во многих петербургский домах. Его любили молодые художники за безуко-ризненный вкус, любовь к изящному, уменье не только покритиковать работу, но и помочь дельным советом. Сам он рисовал порядочно и особенно любил гравюры– тонкие, четкие пейзажи и портреты. У него не было терпенья водиться с резцом, стальной иглой и медными досками, и он рисовал пером. Его работы пером, сделанные под гравюру, вводили художников в заблуждение.
Музыканты изумлялись его мастерской игре на скрипке. Он не любил выступать в одиночку, смущался и краснел. Но он готов был часами играть трио и квартеты в компании лучших столичных виртуозов. И музыку он ценил так же тонко и вдумчиво, как живопись.
У него была тайная страсть, но ею он ни с кем не делился, потому что над ним бы смеялись: он мог часами просиживать над сложными математическими задачами, геометрическими построениями. Математика прельщала Ивана Андреевича своей закономерностью, стройностью и непреложностью выводов. Если бы он весь отдался математике, то и в ней, пожалуй, стал бы не последним. Но отвлеченная наука, далекая от тревог и радостей жизни, не могла полностью поглотить кипучую его энергию. Он обращался к математическим формулам и функциям в дни неудач и неприятностей. Неудачи не покидали его, и потому он знал математику блестяще.
Но ни музыка, ни живопись, ни математика, ни литература, ни театр – ничто не удовлетворяло Крылова. Петербург стал его раздражать, одиночество угнетало. С легкой завистью глядел он на семейных товарищей. Иногда он стремился не туда, где было шумно и весело, а в городскую глушь, на окраины столицы. Он заболевал типичной петербургской болезнью – хандрой. Только пожары выводили его из этого тоскливого состояния. Он не пропускал ни одного крупного пожара и о каждом из них мог рассказывать с мельчайшими подробностями.
Один из светских знакомых предложил ему «проездиться на лоно природы», в Орловскую губернию. Иван Андреевич согласился не раздумывая. Поездка должна была рассеять его хандру.
Через две недели он уже забыл шумный город: вставал с зарей и засиживался допоздна в старинном помещичьем парке, глядя на звезды.
Он отдыхал в тишине Брянских лесов. Город казался ему «мрачным гробом, укрытым седой пылью... где языки одни речисты, где все добро на языке, где дружба – почерк на песке, где клятва – сокол в высоте, где нрав и сердце так же чисты (не в гнев то буди городских), как чист и легок воздух их...» Сейчас он любил деревню и ненавидел город, где
...роскошь, золотом блестя,
Зовет гостей в свои палаты
И ставит им столы богаты,
Изнеженным их вкусам льстя;
Но в хрусталях своих бесценных
Она не вина раздает:
В них пенится кровавый пот
Народов, ею разоренных...
Петербургского гостя – поэта, музыканта, художника – гостеприимно встречали хлебосольные провинциалы. Здесь же он познакомился с молодым писателем-безбожником А. Клушиным. Клушин был родом из Твери; нашлись общие знакомые; оказалось, что они уже встречались прежде, но Крылов был моложе на шесть лет, а в детском возрасте эхо различие огромно. Клушин собирался уезжать в Петербург, мечтал работать в журналах, бороться с косностью, пропагандировать французских просветителей. Так в орловской глуши Иван Андреевич нежданно обрел друга.
Чаще всего ему приходилось бывать в семье Константиновых, дальних родственников Ломоносова. Он сдружился с младшей дочерью Константиновых – Анютой, или Анной Алексеевной, как почтительно называл поэт пятнадцатилетнюю девочку, проводил с нею долгие часы, рассказывал о жемчужных туманах и призрачных белых ночах Петербурга, писал стихи в ее альбом, сочинял веселые сказки, рисовал забавные картинки. Месяца через полтора Иван Андреевич понял, что жить без Анюты не сможет.
Он готов был бросить книги, театр, Петербург. Со всем пылом молодости отдался Крылов первому своему чувству. Девушка с нежностью относилась к большому, нескладному другу.
Через друзей Крылов попытался узнать, как отнеслись бы родители к его сватовству. Он ожидал, что его желания могут отодвинуться на какой-то срок, потому что Анна Алексеевна была еще молода. Он согласился бы ждать год, два, три. Но гостеприимные Константиновы были тщеславны, они гордились родством с Ломоносовым, в их роду были генералы, сановники. Нет, Анюта была не чета сыну какого-то безродного офицера, безвестному поэту и мелкому чиновнику.
Тогда Иван Андреевич решил объясниться с Анютой, хотя знал, что без воли родителей она и шагу не сделает, но ему надо было знать, есть ли у нее в сердце какое-то чувство к нему. Да, она уважала его, он был ей дорог, приятен... но выйти замуж, стать его женой? Ей-богу, об этом она никогда не думала.
Так Крылов узнал наконец то, чего не мог понять в детстве – горечь неразделенной любви.
В печально-веселых стихах «К другу моему» Крылов писал об этих днях его первой и последней любви:
...Нередко милым быть желая,
Я перед зеркалом верчусь
И, женский вкус к ужимкам зная,
Ужимкам ловким их учусь;
Лицом различны строю маски,
Кривляю носик, губки, глазки
И, испужавшись сам себя,
Ворчу, что вялая природа
Не доработала меня,
И так пустила, как урода.
Досада сильная берет,
Почто я выпущен на свет
С такою грубой головою —
Забывшись, рок я поношу,
И головы другой прошу,
Не зная, чем и той я стою,
Которую теперь ношу.
Иван Андреевич сознавал, что если бы он был богат, то ему простили бы все его невольные грехи. Но богатства могло притти, если бы он вел себя по-иному, то есть если бы он забыл о том, что есть на свете честь, долг, дружба, если бы он пошел в услужение к тем, кого ненавидел. И спустя несколько лет он писал в послании к другу своему Клушину:
Чинов я пышных не искал;
И счастья в том не полагал,
Чтоб в низком важничать народе —
В прихожих ползать не ходил.
Мне чин один лишь лестен был,
Который я ношу в природе —
Чин человека...
Он перестал бывать у Константиновых. Тишина Брянских лесов стала ему тягостна. Время от времени он посылал Анюте стихи, наивные, неумелые. Но в этих стихах сквозь неловкие строчки проглядывает настоящее, глубокое чувство. Перед отъездом он написал прощальную песню с печальным рефреном (припевом):
А ты, мой друг, кто знает,
Ты вспомнишь ли меня?.
и никогда больше не встречался со своей Анютой.
Он возвращался домой в Петербург со смутным чувством тревоги, не зная, что его ждет и что он там будет делать.
Петербург был все тем же, только разговоры о Французской революции приобрели иной тон и окраску. Дворянство было напугано событиями во Франции.
В Петербург приехали очевидцы парижских «ужасов», и рассказы о том, как чернь вешала на фонарях аристократов, бросали дворян в дрожь. Правда, фонарей в Петербурге было тогда, пожалуй, меньше, чем дворян, но это, принимая во внимание находчивость и сметку русского народа, было слабым утешением.
Екатерина видела, что дворянство теснее сплачивается вокруг нее, однако она не доверяла этому временному успокоению. Императрица, которой нельзя было отказать ни в уме, ни в проницательности, решила изменить тактику защиты трона. Аресты и высылки вызывали, озлобление и слишком уж бурно волновали умы. А ведь во многих случаях можно было обойтись и без таких суровых мер, если во-время принять иные.
И время от времени императрица вызывала к себе «для дружеской беседы» смутьянов и инакомыслящих.
О них аккуратно доносили шпионы. Фальшивая ласка Екатерины многих вводила в заблуждение. Кое-кого из упрямых приходилось попугать, а вслед за тем улестить. Средств для этого было много: орденок, чин, деньги, мелкие поблажки – это льстило людям, меняло их, приводило к смирению. И самое главное – внешне все было тихо, благопристойно, как. в просвещенной стране.

Большой театр в Петербурге (рисунок с гравюры XVIII века).
Журналисты и писатели у императрицы числились на особом счету. За ними был строгий присмотр. Крылов знал об этом. Врагов, обиженных его острым пером, насчитывалось немало. Но ему все-таки не терпелось свести старые счеты с Соймоновым. Он ждал только удобного случая. И этот случай нашел новый друг – Клушин.
Он рассказал Крылову обычную для всех времен театральную историю: знатному барину понравилась хорошенькая артистка, и он добивался ее любви.
Этим знатным барином был всесильный граф Безбородко, артисткой – Лизанька Уранова, невеста молодого актера Сандунова. Уранова настойчиво отвергала лестные предложения графа стать его любовницей. Возмущенные «наглостью» актерки, театральные начальники Соймонов и Храповицкий решили помочь графу, убрав с дороги Сандунова. Они перевели его в труппу Московского театра, а Лизаньку оставили в Петербурге. Жених был в отчаянии.
Крылов вмешался в эту историю. Не прямо и не явно, а как бы со стороны. Теперь он был умнее.
На ближайшем спектакле, который посетила Екатерина, Сандунов, выступавший в последний раз перед отъездом в Москву в пьесе Дмитревского, прочел не известное дотоле стихотворение о бедном актере, у которого развратный вельможа пытается отнять невесту. Но есть на свете императрица и правда, и они не допустят торжества порока.
Стихи написали Клушин и Крылов. Замять скандал было немыслимо. Екатерина вызвала к себе в ложу Лизаньку Уранову. Девушка бросилась в ноги императрице, умоляя о заступничестве. Царица поступила, как добрая фея, – она обожала такие превращения. Все окончилось апофеозом – торжественной свадьбой Сандуновых. Соймонова и Храповицкого пришлось убрать.
Крылов торжествовал. Ему удалось устроить чужое счастье.
ЗРЕЛОСТЬ
...Быть может, что когда-нибудь
Мой дух опять остепенится;
Моя простынет жарка грудь—
И сердце будет тише биться,
И страсти мне дадут покой.
Зло так, как благо,—здесь не вечно:
Я успокоюся, конечно;
Но где?—под гробовой доской!
Крылов, «К другу моему».
Зимой 1791 года в компании с Дмитревским, Клушиным и Плавильщиковым Крылов открыл типографию на паях и при ней книжную лавку. Акт, составленный по сему случаю, носит пышное название «Законы, на которых основано заведение типографии и книжной лавки». Из этих «законов» явствует, что каждый пайщик должен был внести по 1 000 рублей и что каждый член компании – все они были писателями – обязывался свои сочинения «печатать не инде где, как в сей типографии, заплатя ту же самую плату, какая обыкновенно во всех типографиях берется с посторонних».
Сохранилась до наших дней и приходная книга крыловской компании. Из пожелтевших за полтораста лет записей видно, что Дмитревский и Плавильщиков своевременно внесли первый взнос по 250 рублей, Крылов – только 50 рублей, а через две недели поступил взнос от Клушина в размере 25 рублей. Через месяц Крылов внес еще 200 рублей, и значительно позже вложил 40 рублей Клушин. В сравнении с Дмитревским и Плавильщиковым они были бедняками. но типография все же называлась «Крылова с товарищи». По мысли организаторов она должна была продолжать дело Новикова.
С февраля 1792 года товарищи приступили к изданию нового журнала «Зритель». За год до этого начал выходить под редакцией Карамзина «Московский журнал». Москва, гордившаяся Новиковым с его «типографической компанией», и на этот раз перегнала новую столицу. К слову сказать, именно Новиков «открыл» Карамзина и помог ему войти в литературу.
«Зритель» уделял большое внимание театру. Но основная линия журнала была та же, что и «Почты духов». В программном обращении к читателю Крылов писал:
«Право писателя представлять порок во всей его гнусности, дабы всяк получил к нему отвращение, а добродетель во всей ее красоте, дабы пленить ею читателя...»
Памятуя свой опыт с Княжниным и то, что трудно описывать пороки, чтобы не раздались негодующие крики обиженных, издатель предупреждал, что он, «не дерзая нимало касаться личности», будет, как живописец, рисовать человека по всем правилам естества, и обещал «ничьего прямо лица» не изображать.
Первый номер «Зрителя» вышел не в начале года, а в феврале. Причиной этому были материальные и технические затруднения, но Крылов остроумно объяснил это вынужденное обстоятельство: «Ныне высокос, февраль именинник – вот причина, для чего и «Зритель» начинается с февраля!»
Если в «Почте духов» Крылов проявил недюжинным талант сатирика, то на страницах «Зрителя» читатель встретился уже с более зрелым и еще более язвительным и едким писателем.
Умное и острое перо Крылова современники сравнивали с бичом, которым сочинитель «преследовал самые раздражительные сословия». Стихи его были уже гораздо лучше первых стихотворных опытов, но их все же нельзя было поставить рядом с прозой. Совершенно очевидно, что поэзия давалась ему с трудом, хотя, по словам современника, он упорно на нее покушался.
В искрящейся остроумием статье «Мысли философа по моде или способ казаться разумным, не имея ни капли разума», Крылов писал:
«С самого начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человек, что ты дворянин и, следственно, что ты родился только поедать тот хлеб, который посеют твои крестьяны, – словом, вообрази, что ты счастливый трутень, у коево не обгрызают крыльев, и что деды твои только для тово думали, чтобы доставить твоей голове право ничего не думать».
В этом же письме давались дельные советы молодому человеку, вступающему в свет:
«Умен говорить не думая... ты должен остерегаться, чтоб не сказать чево умного... Старайся, чтоб в словах твоих ни связи, ни смысла не было, чтоб разговор твой переменял в минуту по пяти предметов, чтоб брань, похвала, смех, сожаление, простои рассказ, – все бы это, смешанное почти вместе, пролегало мимо ушей, которые тебя слушают, и, наконец, чтоб ты, как барабан, оставлял по себе один приятный шум в ушах, не оставляя никакова смыслу. Молодой человек с такими дарованиями нужен в модном обществе, как литавр в оркестре, который один ничево не значит, но где должно сделать шум, там без нево обойтись неможно».
Особенным успехом пользовалась его «Похвальная речь в память моему дедушке...»
«Сколько ни бредят филозофы, что... все мы дети одного Адама, но благородной человек должен стыдиться такой филозофии, и если уж необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, го мы лучше согласимся признать нашим праотцем осла, нежели быть равного с ним происхождения», писал Крылов, продолжая развивать мысли Новикова в «Живописце» и «Трутне».
«Пусть кричат ученые, что вельможа и нищий имеют подобное тело, душу, страсти, слабости и добродетели. Если это правда, то это не вина благородных, но вина природы, что она производит их на свет так же, как и подлейших простолюдимов... это знак ее лености и нераченья... Если бы эта природа была существо, то бы ей очень было стыдно, что... не выдумала она ничево, чем бы отличился наш брат от мужика, и не прибавила нам ни одново пальца в знак нашево преимущества перед крестьянином».
Сатирик высмеивал беспутного крепостника-помещика, грабящего народ и проживающего в неделю то, «что две тысячи подвластных ему простолюдимов вырабатывают в год». Эта речь, представлявшая «порок во всей его гнусности», как будто бы не касалась личностей, что и было обещано Крыловым, но тысячи помещиков увидели в мастерском описании бездельника и тунеядца свой собственный портрет.
Крылов писал, что дедушка «имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои, часто бывало, когда приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за ево столом голодной смертью; глядя на всякова из них, заключали мы, что на сто верст вокруг ево деревень нет ни корки хлеба, ни чахотной курицы. Но какое приятное удивление! Садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях. Искуснейшие из нас не постигали, что еще он мог содрать с своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные свои пиры».
Не меньшим остроумием и резкостью отличалась «Речь, говоренная повесою в собрании дураков», в которой Крылов под личиною повесы выступил от имени обиженных сатириком дураков-аристократов, обещая «переломать сильною рукою перья наших неприятелей». Эти слова прозвучали пророчески: над Крыловым нависли тучи. Но за короткое время молодой сатирик успел опубликовать два замечательных произведения: петербургскую сказку «Ночи» и восточную повесть «Каиб» – одно из сильнейших в остроумнейших произведений русской сатирической литературы.
В «Почте духов» Крылов осмеивал придворные нравы и екатерининских временщиков-фаворитов в лице римлянина Фурбиния[16]16
Письмо XXXIV от гнома Вестодава к волшебнику Маликульмульку.
[Закрыть]. В «Каибе» сатира окутана дымкой восточной сказки, пышными цветными одеждами аллегорий, но под визирями и эмирами легко угадывались вельможи и сановники, и ни для кого не могло быть тайной, что под именем Калифата Крылов рисует Россию.
В «Ночах» автор, беседуя с богиней, явившейся к нему в образе древней старушки, выслушивает ее советы писать так, «чтобы всякой улыбался, читая твои описания, иные бы краснели, но чтобы на тебя не сердился никто».
Автор понимал, что это превосходный, но, увы, неисполнимый совет, ибо «сатира есть камень, который невозможно бросить... в многолюдную толпу дураков... чтобы в кого не попасть».
И «Ночи» и «Каиб» были увесистыми камнями, которыми сатирик больно ушиб не только придворных аристократов, крепостников, одописцев, но, и своих литературных врагов. С ними Крылов сводил не личные счеты. Он выступал от имени народа, требуя от писателей правдивости, ясности, простоты, то есть того, что впоследствии получило имя реализма.
Крылов, по существу, был одним из первых, если не первым основоположником реализма в русской литературе, несмотря на то, что он писал аллегорические произведения, то есть выводил своих героев под иными личинами. У него был ясный ум, здравый смысл, свободное мышление, не отягощенное классовыми предрассудками. Он издевался над писателями и философами, проповедывавшими возврат к древней гармонии сословий и утверждавшими, что была некогда райская жизнь и какой-то мифический золотой век. Не раз в своих произведениях он разоблачал эту дикую легенду:
Как встарь живал наш праотец Адам?
Под деревом в шалашике убогом
С праматерью не пекся он о многом...
Когда к нему ночь темна приходила,
Свечами он не заменял светила...
Когда из туч осенний дождь ливал,
Под кожами зуб об зуб он стучал
И, щуряся на пасмурность природы,
Пережидал конца дурной погоды,
Иль в ближний лес, за легким тростником,
Ходил нагой и, верно, босиком...
И все-таки золотят этот век...
Когда, как скот, так пасся человек.
Поверь же мне, поверь, мои друг любезный,
Что наш – златой, а тот был век железный.
(Послание, о пользе страстей)
И в письме XXVII от сильфа Выспрепара Крылов писал о золотом веке, который, может быть, и наступил бы в каком-либо государстве, если бы там удалось найти двести честных судей.
Эти сказки о золотом века, о рае в шалаше, идиллические рассказы о счастливой жизни пастухов и пастушек, лживые басни о равенстве царя и подданного пришли на русскую землю с Запада вместе с конфетно-слащавыми картинками, изображавшими жизнь счастливых пейзан (крестьян) под пышными купами лесов и рощ. На определенном этапе русской истории, после упорного и тупого сопротивления бояр новшествам, которые вводил Петр I, началось запойное подражание Западу. Уже Новиков, а позже Фонвизин в своих произведениях нападали на модное французское воспитание, перенесенное на чуждую российскую почву. Многие аристократы считали неприличным одеваться по-русски, говорить по-русски и даже думать по-русски. С раннего возраста их дети попадали в руки иностранных гувернеров, и те прививали им .дурные привычки к роскоши, мотовству, расточительности. Плоды труда многомиллионной массы крепостных оседали в кассах модных лавок, откуда гувернеры и воспитатели, приводившие своих питомцев в магазины, получали проценты. Повальное увлечение иностранщиной, «чужебесие» тревожили даже Екатерину II, иностранку по происхождению. Эту тревогу настойчиво вселял в сознание царицы в то время уважаемый ею Новиков. Он прилагал все усилия, чтобы заставить ее воздействовать на аристократов, ослепленных внешним блеском западной культуры и забывающих чувство национального достоинства. Под мягким, но настойчивым влиянием Новикова Екатерина, мнившая себя писательницей и называвшая себя скромной ученицей французского философа-вольнодумца Вольтера, принялась за сочинение наивных комедий. Написанные скверным русским языком, который вежливо исправлял редактор и издатель Новиков, эти комедии осмеивали увлечение иностранными образцами. Новиков в своих журналах, Фонвизин в комедиях шли будто бы по тропе, проложенной писателем-венценосцем, хотя их мысли о национальном достоинстве и патриотизме были шире и глубже поверхностных идей Екатерины II. Крылов продолжал эту защиту национальных интересов.
Он восставал и против модных лавок, выкачивавших за границу огромные средства, и против иностранного воспитания, калечившего русских детей, и против увлечения писателей западными литературными модами, которые пересаживались на русскую почву так же, как был пересажен талантливым Карамзиным «сентиментализм».
Слезливый, выспренний и далекий от настоящей жизни стиль сентименталистов был органически чужд Крылову. Борьба за стиль, борьба с Карамзиным и его приверженцами, подвизавшимися главным образом в «Московском журнале», началась с первых же номеров «Зрителя».
В те годы Карамзин входил в славу. Только что была напечатана его повесть «Бедная Лиза»; читательницы плакали над ее страницами. Карамзину подражали молодые авторы. Вслед за «Бедной Лизой» появилась «Бедная Маша»[17]17
А. Измайлов.
[Закрыть], «Обольщенная Генриетта»[18]18
Н. Свечинский.
[Закрыть], «Несчастная Маргарита»[19]19
Без имени автора.
[Закрыть], «История бедной Марии»[20]20
П. Брусилов.
[Закрыть] и другие подобные же произведения.
Еще до выхода в свет «Бедной Лизы» Крылов, борясь с Карамзиным и его последователями, выдвинул, как полемическое орудие, сатиру-пародию. Эта пародия нашла себе место в «Каибе» – в описании путешествия калифа по своей стране.
Великий калиф Каиб с раннего детства мечтал поглядеть на жизнь своих подданных. Особенно интересовали его сельские жители. «Давно уже... желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях, давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал он в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: «Если бы я не был калифом, то хотел бы быть пастушком».
После долгих поисков «счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком, он увидел рассеянное по полю стадо и стал искать «ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастия передние знатных. И действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усомнился, человек ли это; но, по босым ногам и по бороде, скоро в том уверился. Вид его был столь же глуп, сколь прибор его беден.
«Скажи, мой друг», спрашивал его калиф: «где здесь счастливый пастух этова стада?»
– Это я, – отвечало творение и в то же время размачивало в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать.
«Ты пастух!» вскричал с удивлением Каиб: «О, ты должен прекрасно играть на свирели!»
– Может быть, но голодный не охотник я до песен.
«По крайней мере, у тебя есть пастушка: любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?»
– Она поехала в город с возом дров и с последнею курицей, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою...
«Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям... – сказал калиф. – Поэты обходятся с людьми, как живописец с холстиною. Но такую гадкую холстину, – продолжал он, смотря на пастуха, – такую негодную холстину разрисовать так пышно!.. Это, право, безбожно. О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных музульман». – И калиф пошел далее».
В небольшом этом отрывке, пародирующем слащавые описания сельской жизни карамзинистами, Крылов высмеивал и стиль модной школы и ее нежизненность. Однако издевательский «Каиб» был неприятен не только представителям сентиментализма. В основном восточная повесть Крылова рассказывала о бедственном положении «музульман» (читай, крестьян и иных низших сословий на Руси) под властью эмиров и визирей, действовавших от имени калифа (читай, вельмож и прочих сановников, ставленников Екатерины II).
«Каиб» разоблачал произвол и деспотизм неограниченного монарха.
Этого было достаточно, чтобы за Крыловым установили усиленный надзор. Екатерине донесли, что зловредный автор написал новое произведение «Мои горячки», а друг его Клушки сочинил какую-то поэму «Горлицы», в которой якобы одобрительно отозвался о Французской революции.
Обыск в типографии и книжной лавке «Крылова с товарищи» был учинен «со всею прилежностью», как доносил петербургский губернатор Коновницын графу П. Зубову весной 1792 года, «но вредных сочинений не нашлось». Допросили актеров-компаньонов Дмитревского и Плавильщикова. Те под присягой свидетельствовали, что ничего запретного их типография не печатала. Отставной провинциальный секретарь Крылов объяснял, что «Мои горячки» писаны им года два назад без всякого умысла, по одной склонности к сочинениям, но сочинения этого он еще не кончил, никогда его не печатал и прямого намерения к тому не имел. Частному приставу удалось получить несколько разрозненных глав крамольного сочинения. Поэмы Клушина «Горлицы» не оказалось. Клушин убеждал пристава, что о горлицах он писал также «без всякого намерения, что и Плавильщиков подтвердил при господине обер-полицеймейстере».
Авторы вывертывались, как могли. Но Екатерина, очевидно, не собиралась чинить им больших неприятностей. Полицейский доклад заканчивался знаменательными словами: «Дальнейшее исследование до Высочайшего благоусмотрения остановил, дабы не последовало и малейшей обиды или притеснения, как о том мне предписать изволили».
Екатерина продолжала свою хитрую политику, полагая, что Крылова и Клушина удастся «прибрать к рукам» и обезвредить.
Перепуганные Дмитревский и Плавильщиков отстранились от неспокойного издательского дела. Они не хотели ссориться с правительством. Время было слишком тревожное. Частные типографии закрывались.
В типографию «Крылова с товарищи» время от времени наведывались полицейские чины. Один из них спустя много лет рассказывал журналисту Гречу о том, как он хитро прикрыл свою разведку «желанием узнать, как вообще печатаются книги».
Екатерина выяснила, что Крылов ни с какой организацией не связан, а это было самое главное.
С точки зрения царицы это был мелкий, смутьян, и только. Его можно было приструнить, пригрозить ему, но не применять особых репрессий.
Положение в стране стало серьезный. Это чувствовалось всеми. Реакционное дворянство било тревогу. Отстраненного от издательских дел Новикова – в последние годы он издавал газету «Московские ведомости» – посадили в Шлиссельбургскую крепость. Книги, изданные «типографической компанией», сжигались полицией. И журнал «Зритель» превратился в опасное предприятие, хотя он и не пользовался успехом у публики. Журнал дышал на ладан. Дохода от издания не было. Материальные дела издателей расстроились. Типография почти не приносила прибыли. Книжная лавка также не оправдала надежд.
В конце года у Крылова снова были неприятности с полицией. Карамзин в письме к своему другу баснописцу Дмитриеву спрашивал: «Мне сказывали, что издателей «Зрителя» брали под караул: правда ли это? и за что?»
Сейчас трудно определить, за что, так как рукопись повести Крылова исчезла. Екатерина потребовала немедленно представить ей «Женщину в цепях», как называлось новое произведение Ивана Андреевича. Испачканные наборщиками, в свинцовых пятнах, листы были отправлены во дворец. «Рукопись не воротилась назад, да так и пропала», вспоминал Крылов спустя полвека.
Но никого из издателей не брали под караул. Им разрешили продолжать издательскую деятельность. «Зритель», однако, закрылся. Вместо него начал выходить «Санкт-Петербургский Меркурий».
Это был уже благонамеренный и благовоспитанный журнал. Сатира исчезла. В списке сотрудников появились фамилии дворянских писателей-аристократов – Горчакова, Карабанова, Мартынова, В. Пушкина[21]21
В. Л. Пушкин – дядя великого поэта, известный в свое время стихотворец.
[Закрыть]. Яркие, острые вещи не печатались.
Для Крылова такая бездейственная жизнь – напрасная трата времени. И он пишет «Похвальную речь науке убивать время» – произведение, по внешнему виду совершенно невинное:
«...Какой великий предмет для благородного человека! Убивать то, что всё убивает! Преодолевать то, чему ничто противустоять не может!»
«...Первой способ убивать время есть тот, чтобы ничего не делать или спать, но, к несчастию, человек не может быть столь совершен, чтобы проспать шестьдесят лет, не растворяя глаз и не сходя с постели». И далее он, как заправский оратор, перечисляет аристократические способы убийства времени, призывая к тому, чтобы люди ничего не читали, ни о чем не думали, ничем не тревожились.
Блестящая концовка речи стоит того, чтобы ее привести целиком:
«Соединим же нашу ревность, милостивые государи! Год уже наступил... время наваливается на наши руки – но ободритесь, – остерегайтесь мыслить, остерегайтесь делать, и год сей будет служить нам оселком, над которым наука убивать время покажет новые опыты, достойные нашего просвещения».
Со времени издания «Санкт-Петербургского Меркурия» Крылов ведет тонкую игру – пишет как бы всерьез вещи, над которыми вчера еще издевался бы. Недавно в «Каибе» он поносил выспренний стиль карамзинистов, а сейчас публикует (правда, не свои, а «переводные с италианского») такие произведения, будто он задался целью подражать Карамзину: «...Приходит служительница в разодранном рубище, лицо ее покрыто смертной бледностию, русые власы, растрепавшись, лежали в беспорядке на раменах ее... Сия вернейшая раба упадает подле юноши... юноши невинного и, добродетельного» и т. д.
Что это? Крылов? Перевод с итальянского? Крылов идет на поклон к сентименталистам, выворачивается, изменяет своим идеалам? Нет, это издевка, пародия.








