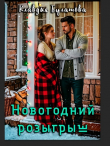Текст книги "Оккупация"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 32 страниц)
Аудиторию он не видел, на нас не смотрел, будто мы для него менее интересны, чем белый потолок, на котором одиноко висела трёхламповая металлическая люстра.
Во второй половине часа профессор глубокомысленно замолчал и достал из своего старого чёрного портфеля апельсин. Не спеша очистил его и стал есть. Ходил возле кафедры и – ел. Эта сцена меня изумила. Я не знал, не думал, что преподаватель во время занятия может что-нибудь есть. Это казалось невероятным. Но Деборин ел. И при этом на нас не обращал никакого внимания. Я решил, что так может поступать профессор. Его авторитет велик, и слушатели так благодарны ему, что никто и не подумает осуждать. А он, съев половину апельсина и положив вторую на лист бумаги, снова взошёл на кафедру и продолжил рассказ. При этом он сообщал много фамилий, приводил крылатые высказывания учёных и даже читал стихи…
Я писал и писал.
Вечером обложился книгами и читал. Но читать я мог лишь тогда, когда в комнате не было Ильина. Когда же он появлялся, я снова превращался в слушателя. На этот раз в роли лектора был майор Ильин. Но если профессор говорил спокойно, то мой сосед и говорил неспокойно, и вёл себя так, будто его кусали клопы или блохи. Едва присев у тумбочки, он вдруг вскидывался и кричал:
– Кто ему позволяет жрать у нас на глазах апельсины? Разъелся, как боров! У меня дети малые не знают запаха фруктов, сам я по два дня не ем ничего – денег не хватает, а он – жрёт!..
Однако тут же успокаивался, продолжал:
– Профессор он что надо, талант! Его вся Москва знает, но будь же ты человеком! В зале фронтовики сидят, герой подводник, разведчик легендарный Сидоров, бывший член военного совета Ленинградского фронта Кузнецов – он генерал-лейтенант, а этому нахалу и сам чёрт не брат!..
И через минуту:
– А, кстати, Кузнецова я что-то сегодня не видел. Кожаное пальто в раздевалке висит, а его нет. Странно это. Уж не заболел ли?
Я сказал, что вчера утром его на озере видел и пальто кожаное по его просьбе принёс.
Просматривая конспекты, заметил:
– Деборин фамилий много даёт, я всё записал, а два других преподавателя фамилий почти не называют.
Ильин вдруг подскочил, словно его шилом кольнули:
– Религия! Тут, брат, религия и больше ничего. Вам, конечно, и невдомёк, что фамилии-то даны еврейские, все еврейские! Деборин никого другого не назовёт; ему не нужен киргиз, испанец, русский, он вам назовёт только еврея! Религия! В том она и заключается – его религия.
Он разволновался, хватал с тумбочки то мои тетради, то книги, а то подходил к окну и принимался кулаком тереть стекло. Повернулся ко мне, сверкнул ошалелыми глазами:
– А если бы вас, русских, осталось шесть миллионов, а по всему миру двадцать или тридцать, и все бы вы перемешались со всякими шанси-манси и персами-иранцами, – вы бы что ль не то бы делали, что и он, Деборин? Вы бы на каждом углу не кричали о русских? Не талдычили бы всем и каждому о своих талантах? – религия! Она сидит в печёнках у Деборина. Он говорит только о евреях, думает только о евреях, он устремляет на тебя свой взгляд – и ты в нём читаешь: ну, а ты, братец?.. как ты об нас полагаешь? Любишь ли ты еврея?.. Вот и сегодня на лекции: он натолкал в твою голову тридцать сынов Израиля, а ты этого и не заметил. Говорят же, они умные! А что, скажи, разве он не умный, наш профессор Деборин?..
Я листал свои конспекты и находил много фамилий, но среди них почти не встречал еврейских. Возразил Ильину:
– Философ Сенека?.. А вот писатели: Лион Фейхтвангер, братья Томас и Генрих Манны?.. Вот наши писатели – Константин Симонов, Михаил Светлов, Ярослав Смеляков?..
– Евреи! Все они евреи! Ну, если не полные, так частично – полтинники, четвертинки… Смеляков, к примеру, – полукровка. Ещё раз тебе говорю: Деборин чужого не назовёт, он как машина – так устроен: знает и помнит только своих!..
Потом, много лет спустя, учась в Литературном институте, я узнал и Симонова, и Светлова – да, это были типичные евреи, видел и Смелякова: тёмный, большой, сутулый, он мало походил на еврея, но в стихах его почти не слышалась боль о нашем, русском. Он только на смертном одре продиктовал посетившим его друзьям огневой стих, который потом был у всех на устах:
Владыки и те исчезают
Мгновенно и наверняка,
Если они посягают
На русскую суть языка!
Но это много лет спустя. Тогда же я смотрел на Ильина как на сумасшедшего; его откровения были для меня так неожиданны и так невероятны, что я, кажется, ничего из них не запомнил и посчитал их сущим бредом. И хорошо, что Ильин, выпалив странную тираду, вдруг, словно спохватившись, замолчал, сник и лёг спать. Я ещё два-три часа занимался, а потом и сам завалился в постель.
Занятий было много, и я решил соблюдать три условия: внимательно слушать лектора, тщательно записывать всё интересное и важное, и на два часа сократил сон. Вечером после прогулки съедал бутерброд с чаем и принимался за чтение литературы. Если Ильин меня слишком отвлекал, уходил в комнату отдыха и там читал. Все слушатели на факультете журналистики были старше меня, в прошлом занимали важные посты и казались мне очень умными. Все лекторы без исключения мне нравились.
После всего, что происходило со мной во Львове, после оглушительных откровений Ильина я к каждому лектору внимательно присматривался, искал в нём черты еврея. Их страсть к делу и не к делу приплетать фамилии своих сородичей была поразительной и не знала исключений. Их национальность только по одному этому можно было определять безошибочно. Русский профессор назовёт пять-шесть фамилий, ну, от силы десять, и эти фамилии не обязательно евреи, и даже чаще всего люди разных национальностей, но как только зачнёт перечислять фамилии лектор-еврей, тут процентов на девяносто будут его соплеменники. И тут я признаюсь, что лекции со множеством фамилий были для меня предпочтительнее; я каждое новое имя воспринимал с интересом, точно это была встреча с незнакомым человеком. Лекции профессоров-евреев, а их у нас было процентов восемьдесят, проходили быстрее. Еврей не имел обыкновения углубляться в тему, нередко он и вообще только касался предмета своей лекции, а всё остальное время посвящал рассказам весёлых историй, сыпал анекдотами, и очень часто еврейскими и армянскими, на ходу придумывал хохмы, и хотя они были не очень остроумными, но голову нашу не утруждали, и большинство слушателей к таким лекторам относились снисходительно. Однако во время перерывов ворчали, а некоторые в голос возмущались: какого чёрта мы терпим этого балагура? Надо доложить в учебную часть. Но в учебную часть никто не докладывал, и балагуры, привыкшие, видимо, всю жизнь скользить по верхам, продолжали балагурить.
Серьёзно мешал мне майор Ильин. Всюду, где только можно, он заводил со мной длинные разговоры и прожужжал мне уши. На занятиях не появлялся генерал Кузнецов, и разговоры о нём возникали всё чаще. Вначале кто-то сказал, что он прямо с озера уехал в Москву: там у него живёт дочь, но потом другой вестун сообщил, что генерал уехал в Ленинград. Однако эту весть тут же отвергли. Как же это генерал, бывший секретарь Ленинградского обкома, поехал в свой город в фуфайке? И лишь через несколько дней пополз слушок: генерала взяли? Прямо с озера. Не дали зайти в общежитие и взять вещи.
Эта новость ударила меня как обухом. Я много слышал, как у нас берут, но чтобы такого человека и прямо с озера?..
На перемене меня за рукав потянул в сторону Ильин.
– Ты никому не проболтался?..
– О чём?
– Ну, о том, что пальто у него взял?
– Нет, никому не говорил, но что же тут особенного? Человек попросил, и я взял пальто.
– Т-с-с… – зашипел Ильин. – Не будь идиотом! Да тебя, как только узнают, живо заметут.
– Да за что? – возмутился я. – Что же я такого сделал?..
Ильин больно сдавил мне руку, потащил в сторону.
– Молчи, говорю, как рыба! Не то загремишь… туда, где Макар телят не пас. Это я тебе говорю – бывший работник СМЕРШа.
При слове СМЕРШ я поёжился; дважды я встречался с этой публикой на фронте и каждый раз висел на волоске от ареста: командир полка выручал. Тут меня никто не выручит, слова Ильина показались мне не шуткой. Я молчал.
– Никогда! – заклинал Ильин. – Никому! И ни слова! Об этом знаю я один, но я тебя не выдам. Слышишь? Не выдам!..
Я чувствовал себя на крючке, за который кто-то тащил, а мне было нестерпимо больно. Он меня не выдаст! А если случится размолвка или его бешеная крыса укусит… Тогда и я… туда же, где и Кузнецов?..
На лекции не слушал профессора, ничего не записывал, а думал: «За что его?.. Что же он сделал?..»
Я уже знал, что людей в то время брали ни за что, и мне Кузнецова до боли было жалко.
В день получки Ильин попросил у меня денег:
– Дай четвертную взаймы. Послезавтра отдам.
– Вы же получили зарплату.
– Получил, но мне нужно. Сказал же отдам!
Я дал ему деньги, хотя двадцать пять рублей основательно подрывали мой бюджет. Больше половины зарплаты я отсылал Надежде, остальные экономно расходовал на еду. Долг он не вернул ни через два дня, ни через три, а неделю спустя попросил десятку.
– Да откуда же у меня деньги? Я, как и вы, получаю зарплату.
– Ладно, жлоб несчастный! Давай любую половину.
– Что, половину?
– Ну, пятёрку! Так у меня случилось: все деньги выветрились. Я же отдам тебе!
Подумал, что из-за такого пустяка может обидеться и… чего доброго…
Мысль эта поразила: он же будет шантажировать! Всю жизнь, до конца дней пугать этим пальто!..
Лежал на кровати и думал: что делать? Капкан, в который я попал, отравил мне все дни, я не знал, как его сбросить, как обрести прежнюю свободу и радость жизни. И – придумал!
Пошли мы с майором в соседнюю деревню искать квартиры. Майор предлагал мне снять по соседству дома, познакомить жён и жить одной дружной колонией. Я согласился, и в воскресенье мы по лесной тропинке двинулись в сторону деревни Лысково, которая была от нас в двух километрах. Стоял тёплый апрельский день, солнце на небе радостно сияло, и у меня на сердце было хорошее настроение. Я был уверен, что план мой тотчас сработает, и я освобожусь от угрозы, с которой нависал надо мной майор Ильин. Спокойно и будто бы между прочим заговорил:
– Теперь только вспомнил, что генерал-то, отдавая мне пальто, называл вашу фамилию. Так и сказал:
– Там в двадцать первой комнате живёт майор Ильин – ему и отдайте пальто. Ну, а если майора не будет, оставьте пальто в гардеробе.
Майор остановился, выпучил глаза. Шея его вытянулась, нос заострился:
– Ты что буровишь? Я знать его не знаю, этого генерала!
– Ну, теперь-то, конечно, зачем его знать. А тогда он мне так и сказал: «Там… живёт майор Ильин – ему и отдайте пальто». Я ведь не глухой, так он именно и сказал.
– Чего же ты молчал, а только сейчас эту лажу вешаешь мне на уши?
– Считал неважным всё это. Ну, подумаешь, пальто принести с озера! Это вы вокруг такого пустяка нагородили страхов, – ну, я и вспомнил. А вообще-то, плюньте вы на всё и забудьте. Я же не собираюсь кричать об этом на всех перекрёстках. Ну, а если уж кто спросит… да и тогда не стану разводить турусы… Дело-то выеденного яйца не стоит.
И двинулся к деревне, которая уж показалась на поляне. Но и шага не успел ступить, как Ильин схватил меня за плечо. Повернулся к нему, а он раскрыл рот и точно рыба, выброшенная на берег, дышит толчками и язык мне показывает. Испугался я, оттолкнул его.
– Что с вами, товарищ майор?
– Иван! Ты никому не говорил об том? Признавайся, не то худо будет. Нам обоим худо. Слышишь?
– Да что же тут худого? Оставьте меня, пожалуйста! Ничего я худого не делал, и бояться мне нечего.
– Иван, не дури! Не трави мне душу! Кондрашка меня хватит, если игру свою продолжать будешь. Кузнецова я и знать не знал, и ничего он тебе не говорил. Но придумал ты лихо, молодец. Сработал как матёрый разведчик. Умница! Я сдаюсь на милость победителя. Но только ты меня послушай: если кто об этой шуточке твоей узнает – крышка нам! И тебе, и мне. Ты уж поверь старому волку, я в СМЕРШе работал. Там такие сидят! – Ой-ёй!.. Им только попади на зуб. Лубянские подвалы, допросы, пытки… Знаю я. Слышишь, Иван?
– Слышу, слышу. Я ведь не дурак, как ты обо мне думаешь. Всё я понимаю. И вот тебе моя рука: молчать буду как рыба. До конца жизни. А что до тебя, так и спрашивать не стану; знаю, что ты-то уж не проговоришься. Ну и ладно. Пошли в деревню, а об этом больше ни слова. Иначе кусаться буду.
Ильин пожал мне руку и кинулся на шею. Крепко обнимал и говорил со слезами:
– Умница ты, Иван! С тобой-то я бы пошёл в разведку.
Квартиры мы нашли скоро, в деревне Лысково, из которой война повыбила мужиков, места в домах оказалось много, а хозяйки все нуждались, и им две-три сотни рублей в месяц не мешали. Мы с Ильиным поселились почти по соседству, и в тот же день перенесли в деревню свои пожитки, и с нами ещё пришёл майор Нехорошев, бывший редактор какой-то военной газеты. День стоял тёплый, ясный – по-настоящему майский. Я взял толстую книгу и пошёл на берег крохотного озерца, смотревшего на мир радостно и призывно. Однако читать мне не пришлось: откуда-то выкатилась ватага ребят с футболом, и я, в недавнем прошлом заядлый футболист, ввязался с ними в игру. Ребята пчелиным роем носились за мячом, и я решил организовать игру по правилам. Создал команды, разметил поле, ворота, и игра пошла много интереснее, привлекая зевак из малышни и даже взрослых. Я демонстрировал приёмы, о которых ребята могли только мечтать: движением ботинка останавливал летящий с большой высоты мяч, с любого положения бил головой, одинаково сильно и метко посылал мяч в ворота или на пас как с левой ноги, так и с правой. У ребят сразу же завоевал авторитет, и с того дня играл с ними по вечерам, а в выходные дни мы шли в другие деревни, участвовали там в турнирах. Мои увлечения футболом заметили и в академии; меня включили в академическую команду, с которой мы выступали на Всесоюзной олимпиаде: не скажу, что проявил себя лучшим игроком, но не был и среди худших. Кажется, звенигородская команда выбила нас из круга, и на том закончилась моя футбольная карьера.
В начале мая накануне Дня Победы приехала с дочкой Надежда. Квартира ей понравилась, а годовалая Светлана, научившаяся к тому времени ходить, на целый год обосновалась во дворе, где была белая в чёрных пятнах собака, важно шагавший петух и несколько сереньких крикливых курочек.
Потянулись дни изнурительных занятий. У нас поселилась мама Надежды Анна Яковлевна; она по очереди жила у своих трёх дочерей, навещала сына Александра, но ни у кого подолгу не задерживалась. Скоро поняла, что жить она может только у младшей дочери, к нам и приехала.
Со времени отъезда из Львова, где я писал в разные газеты, журналы и зарабатывал гонорары, вологодский период жизни, а затем и московский снова схватили меня за горло и стали душить хроническим недостатком средств к существованию. Здесь же, в деревне Лысково, я уж в который раз оказался перед лицом если не голода, то жизни полуголодной, унизительной. Наша малышка, увидев яблоко или конфету, тянула ручонки, плакала, – Надежда бежала на базар, который был в соседней большой деревне, покупала дочке фрукты и конфеты. Мне было неловко перед женой и тёщей: я капитан, учусь в академии, а денег на необходимое не имею. Пытался писать рассказы, посылал в журналы – их не печатали. Однажды Надежда сказала, что поедет в Москву и найдёт себе работу, но эту идею я решительно отклонил. У нашей хозяйки в Москве работал сын, семнадцатилетний парень, – так он вставал в четыре часа утра, наскоро завтракал и бежал на электричку. Затем в Москве ещё проделывал длинный путь до завода… И так каждый день. Мог ли я обречь жену на такие мучения? Искали другой выход, но какой?
Как-то Надежда сказала:
– С Антониной поедем в Сухуми. Там у Греты Самойловны живёт родственник, он даст нам сухофрукты.
Я возразил:
– Во-первых, на какие шиши вы купите билеты, а во-вторых, вам понадобятся деньги и на сухофрукты.
– Да, это так. Но билеты в оба конца нам оплачивает Грета Самойловна, она же даст часть денег и на сухофрукты. Кое-что, конечно, и мы добавим.
Грета Самойловна – супруга Ильина, такая же таинственная женщина, как и её муж. Выдавала себя за цыганку, но одни называли её армянкой, другие еврейкой, я же о национальности не задумывался, меня она привлекала своей загадочностью и какой-то колдовской силой. Являлась она к нам всегда неожиданно, передвигалась бесшумно, как летучая мышь, а при встрече со мной отворачивала взгляд чёрных и раскосых, матово мерцающих глаз. Она будто чего-то скрывала, чего-то стеснялась, и я заметил, что при встрече со мной или Нехорошевым смуглые её щёки покрывались слабым румянцем девичьей стыдливости. Она была моложе мужа лет на пятнадцать, хранила первородную стройность, и хотя я не был знатоком женской природы, но не смог не заметить, что посторонние мужчины её интересовали. Ильины не имели детей, жили вдвоём, денег у них, конечно, было больше, чем у нас. И я разрешил Надежде поехать на Кавказ.
Скоро они вернулись, привезли много сухофруктов, рассчитались с Ильиными – им досталась большая часть товара, но и мы были довольны гешефтом. Надежда не только варила нам так необходимый компот, но и часть фруктов продала, а на вырученные деньги, к великой радости Светланы, купила дюжину маленьких гусят. Они с утра до вечера плавали и ныряли в озере, берег которого подступал к крыльцу нашего дома.
Занимался я много; читать приходилось Маркса, Энгельса, Гегеля, Фейербаха, Канта, Сенеку… С жадностью я поглощал речи Цицерона, героические поэмы Гомера, стихи Вергилия, Овидия, романы эпохи рыцарской литературы, толстые книги по истории Европы и России. Я уже знал, что учиться буду полтора года, а за это время надо усвоить весь курс академии и сдать государственные экзамены. Судьба посылала мне шанс, и я должен был его использовать.
Во время лекций старался записать каждое слово, – я как спортсмен развивал скорость письма и стал писать так быстро, что лекции в полном объёме перекочёвывали в мои толстые тетради. Ко мне часто подходили лекторы, смотрели записи и удивлялись моему упорству, и я замечал, как они сочувственно ко мне относятся, поощряют мою старательность, а на зачётах, если я что-нибудь забывал, спешили прийти мне на помощь.
Кипела своя жизнь и в деревне. Тут женщины, наученные войной, старались вскопать как можно больше земли и посадить на ней картофель, капусту, морковь, свёклу и всяких других овощей. До восхода солнца вставала и Надежда со своей мамой. И работали на отведённой им земле до позднего вечера. В эти дни даже футбольные игры прекратились: ребята помогали родителям. Иные даже сеяли пшеницу, рожь, ячмень, овёс – для себя и для кур. Но особенно много сажали картошки. И уже скоро я понял, какую власть над человеком имеет земля: она его кормит, даёт силы и здоровье, помогает воспроизводить потомство, иными словами: земля – всё! Недаром говорят: «земля-кормилица», «за землю и волю», «власть земли» и так далее. На столе у нас появились редиска, лук репчатый, укроп, петрушка, а потом и разные ягоды – земляника, черёмуха, ирга… Дом наполнился ароматом таких приятных и всепроникающих запахов, которые я бы назвал духом силы и самой жизни. А уж потом в глубоких глиняных чашках задымилась и молодая картошка. Голод отступил – для меня, моей семьи и для многих миллионов людей. Земля, глубоко вдохнувшая мирный воздух, ставила людей на ноги. По деревне радостно звенели детские голоса. Наша Светлана все дни пропадала на улице, с пронзительным криком и визгом носилась в стайке ребятни по единственной улице деревни.
На футбольной площадке закипали новые баталии. Ребята посматривали в сторону моего дома, ждали своего тренера и капитана. И я, отложив Маркса, выходил к ним поразмяться.
Жизнь в деревне всё больше сближала меня с Ильиным. Эпизод с пальто мы давно позабыли. Тропинкой, бегущей краем поля, а затем между деревьями от Лысково до наших курсов, мы обыкновенно неспешно шагали утром на занятия и после обеда возвращались домой. Ильин говорил, а я слушал. Это, пожалуй, единственный случай в моей жизни, когда мне нравилась эта игра в одни ворота; то есть мой спутник говорил, а я слушал. Ильин, родившийся в Москве и всю жизнь в ней проживший, да к тому же работавший, как он говорил, «в трубе», знал всех и всё. По крайней мере, мне так казалось. И он не только знал человека по фамилии, он мог рассказать о его характере, друзьях, родных, и даже о таких сторонах деятельности, которые для многих, даже для близких людей, были тайной. А сверх того, Ильин был философом, историком, психологом, педагогом – всем понемногу, и в благодарность за внимание к его рассказам, или уж по склонностям своего характера, попутно приоткрывал мотивы поступков людей, объяснял общественные процессы и обстоятельства, побуждавшие поступать так, а не иначе. Он был добр от природы, в нём генетически гнездился ангел сочувствия и всепрощения; он никого не осуждал, и даже поступки, которые я не мог извинять, он готов был отнести к стечению обстоятельств. Я в таких случаях восклицал: «Ну, знаете! Этак-то можно простить кого угодно!» Ильин широко разводил руки, замечал: «Как хотите, но это уж так».
Как-то я рассказал, что меня вызвали в «Красную звезду», оттуда-то я и попал на курсы. Ильин заметил:
– «Красная звезда»? Странно, что тебя туда вызвали. Там кадрами ведает подполковник Шапиро, он таких парней, как ты, в редакцию не берёт.
Я с гордостью отпарировал:
– Меня вызывал не Шапиро, а сам генерал, главный редактор.
Но и на это Ильин проговорил спокойно:
– Редактор может вызвать, но возьмёт на работу только Шапиро.
Тон Ильина не предполагал возражений, и я молчал, но такая безапелляционность мне не нравилась. Я надеялся, что после учёбы заявлюсь в редакцию и буду в ней работать, наконец, этого же хотел сам главный редактор, а тут – Шапиро.
Спорить я не стал и хорошо сделал, потому что Ильин был расположен к философствованию, и я неожиданно услышал вопрос:
– А как бы ты поступал, если бы русские не составляли и одного процента от населения страны? Не то ли бы ты делал, что и Шапиро?
– Я не знаю, что делает Шапиро, – искренне признался я.
– Шапиро! – воскликнул человек из «трубы». – Он только то и делает, что выгодно ему и людям его племени; на всякую должность он пристраивает своего человечка, а уж в газету-то… Ты, верно, и не догадываешься, что своей главной целью евреи считают захват печати. Их мудрец барон Монтефиори ещё двести или триста лет назад поучал: «О чем вы говорите? Пока мы не будем держать в своих руках прессу всего мира, всё, что вы делаете, будет напрасно. Мы должны быть господами газет всего мира или иметь на них влияние, чтобы иметь возможность ослеплять и затуманивать народы».
– Но как же они станут господами всех газет, если их так мало?
– На газеты хватит, и на радио тоже, – я то уж знаю, кто там работает! – а теперь вот телевизор в каждый дом приходит. И туда они налетели, да так густо, что яблоку упасть негде. Так что ты, Иван, мечту о «Красной звезде», если она у тебя ещё теплится, брось. Если уж там Шапиро, то тебе легче в игольное ушко пролезть, чем туда попасть. Налаживай лыжи на Вологду и сиди до тех пор, пока и туда не пришёл Шапиро.
– Там у нас уж есть такой… Браиловский его фамилия. В редакцию к нам просится.
– Ну, вот, значит, и там тебе не работать. Браиловский, он что твой кукушонок: всех из гнезда повыбросит. Я-то уж знаю.
Ильин вдруг одушевлялся:
– Но что же ты хотел? Где тут уж особенно такая несправедливость? Ты так это воспринимаешь, будто в первый раз слышишь об этом. А что ж на фронте разве не было таких разговоров? Разве не о том же нам писали в своих листовках немцы? Да листовки эти дождём сыпались нам на голову! Но и немцы, идиоты, ничего не понимают! Ну, скажи, – я снова тебя спрашиваю, – ты разве не так ли бы поступал, как Шапиро, если бы русских в России остался один процент к общему населению?..
Я молчал; я действительно затруднялся ответить. Никогда мне не приходила такая ужасная мысль, что мой народ мог бы оказаться в ничтожном меньшинстве. Наверное, я бы не был таким счастливым, как сейчас, не чувствовал бы себя хозяином в стране, городе, деревне, – а это ужасно! – и уж совсем плохо, если твой народ, оставшийся в меньшинстве, был бы ещё и неуважаемым, в нём бы находили дурные свойства, мешающие жить всем другим людям. Но вот как бы я в этом случае себя повёл – я не знал.
Муторно становилось на душе после таких разговоров, но умом я понимал, что Ильин говорил правду, и был ему благодарен за то, что он открывал мне глаза на темы, о которых не говорили с кафедры. А Ильин рассказывал и рассказывал, нагнетал в мою душу всё больше тумана и тревожных мыслей. И как-то так у него выходило, что, живописуя власть и засилье евреев, он их тут же оправдывал, призывал меня не судить строго. И ещё выходило, что евреи – наш крест, и крест всех народов. «На Западе давно смирились с засильем евреев, покорно отдали им власть. Гитлер восстал против них – и ты знаешь, что из этого вышло», – заключал Ильин какую-нибудь длинную свою тираду. А однажды рассказал забавный случай, происшедший в Париже. Туда приехал в эмиграцию отец писателя Куприна. Он был полковником царской армии, известным в России человеком, и к нему на вокзале подступились корреспонденты парижских газет. Задавали вопросы:
– Как там, в Петербурге, укрепилась советская власть?
– Да, укрепилась, – отвечал полковник.
– А в Москве?
– И в Москве тоже.
– А во всей России?
– Нет, не укрепилась. На всю Россию у них жидов не хватило.
Этот его ответ был напечатан во всех газетах.
Разными путями Ильин пытался запугать меня евреями, но я, видимо, так устроен: не боялся. И был далёк от мысли, что евреи, в конце концов, захватят всю власть в России. Однако факт, что в «Красной звезде» сидел Шапиро и я уже на своей шкуре ощутил его власть, отравлял мне всю жизнь. Я даже учиться стал хуже, меньше писал на лекциях, меньше читал. Когда Ильин однажды сказал, что с Шапиро ничего не сделаешь, у нас система такая – интернационализм, я стал задумываться и о природе всей нашей жизни, о наших законах, о тех, кто сидел в Кремле и нами правил. Во время праздников на трибуне мавзолея стояли в основном люди не русские: Сталин, он же Джугашвили, Микоян, Берия, а рядом со Сталиным по правую руку от него, Каганович.
Невесёлые это были мысли, смутная тревога рождалась в сердце. «Хорошо, – думал я, – что о подобных вещах я не размышлял на фронте. Ко всем трудностям боевой жизни прибавились бы и эти душевные муки». В самом деле, почему это в Кремле, резиденции наших царей, обосновались нерусские? На троне сидит грузин, но я ещё в авиашколе слышал, что не Сталин у нас главный, а Лазарь Каганович. От него идут и все аресты, в том числе и армейских командиров. Кто-то мне по великому секрету шепнул: семьдесят или восемьдесят процентов высшего командного состава армии арестованы и расстреляны. У нас за два-три дня до начала войны приказано было снять моторы со всех самолётов, в том числе и с тяжёлых бомбардировщиков, мы невольно думали: кто же это учинил такой приказ?.. Прилетавшие к нам в Грозный лётчики из других частей говорили, что такой приказ и они получили.
Всё новые сомнения ползли в душу. Каждодневные беседы Ильина между тем становились всё откровеннее, и чем они больше раскрывали тайн, тем муторнее становилось на душе. Я вначале пытался возражать, подвергал сомнению факты, доводы, но он легко забивал меня и словно за моё непослушание опрокидывал на мою голову новые факты, ещё более увесистые и неопровержимые.
Как педагог и психолог, он в одном допускал ошибку: слишком густо сыпал свои знания чёрных сторон нашей жизни; я мог сломаться, даже сойти с ума, но я выдержал, и со временем стал легче переносить его удары. Ко мне снова возвращалось светлое отношение к жизни, беспечность и весёлость. Думал, если уж так сложилась история нашего государства, будем исправлять положение. Я молодой, для того и учусь – кто же, как не я, будет наводить порядок в стране?..
Ильин часто в своих беседах возвращался к евреям и пытался меня убедить, что иначе они и поступать не могут. Так у них сложилась историческая судьба, такова их жизнь, – они поступают во всём разумно. Да это и неплохо, что они захватили всю музыку, фармацевтику, адвокатуру, а теперь захватывают печать, радио, литературу. Они умные – чем же им больше заниматься?..
И снова обращался ко мне с тем же вопросом: а как бы ты поступал на их месте?
Я ему рассказал сюжет фильма, который мы с Надеждой недавно смотрели. Там была такая история.
Хозяин завода, египтянин, выбирал себе главного инженера из двух кандидатур: первая – зять, работавший рядовым инженером на его же заводе; работал неплохо, и дело знал, и трудолюбив, но… как говорят у нас: без пера… Без полёта, без фантазии. С ним рядом трудился другой инженер, чужой, не любезный, и даже грубость мог сказать хозяину, но… в голове у него, как в котле, кипели идеи. И если уж возьмётся за что – сделает так, что всем на диво.
Недолго раздумывал хозяин, позвал строптивого.
– Будешь главным инженером? Зарплата в пять раз повысится.
– Согласен, – сказал строптивый и больше не прибавил ни слова.
Крепко обиделся на него и на своего тестя зять-инженер, да что поделать? Хозяин – барин.
Рассказал я сюжет фильма и замолчал. А Ильин тоже молчал, ждал моего заключения, но не дождался. Спросил:
– И ладно. Положим, так. Но к чему ты это рассказал?
– А к тому, что на месте Шапиро и я бы так поступал.
– Ну, нет. Шапиро так не поступит. Ни за что и никогда!
Я на это проговорил с металлом в голосе:
– Тогда следует признать: Шапиро и ему подобные всякое дело ведут к развалу. Смычок скрипки им можно доверить, но к местам руководящим допускать нельзя.
Покраснел мой собеседник, надулся, как мышь на крупу. Почти всю оставшуюся половину пути он рта не открыл, что для наших бесед было необычно и невероятно. А когда мы уж подходили к факультету, он с мелким дрожанием в голосе проговорил:
– Крамолу эту ты, Иван, из башки своей выбрось. С такой-то людоедской философией хватишь горя.
Это был наш последний разговор, когда мы коснулись еврейской темы. Раз-другой он ещё ненароком упоминал слово «еврей», но я уж на эту удочку не клевал.
За два-три месяца до окончания учёбы Ильин стал пропадать в Москве и я один ходил на занятия. Однажды в лесу мне встретился майор Нехорошев. Он жил в нашей же деревне, но только на самом конце и на занятия ходил по другой дороге. Это был дядя лет тридцати пяти, с крупной головой, плотно сидящей на широких плечах. Угрюм, молчалив – во время учёбы мы с ним не общались. Сказал грубоватым, охрипшим голосом: