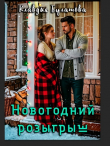Текст книги "Оккупация"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
Стаховский приблизился к киоскёру, навис над ним своим длинным могучим телом и страшно вращал глазами. Его нос с горбинкой стал вдруг горбатым, а лицо сморщилось так, что он походил на старого еврея. И его голос, и слова, и модуляция горловых звуков – всё выдавало одесский акцент, ту характерную манеру говорить, которая была у каждого еврея, особенно старого. Мало кто знал, что умение Стаховского принимать облик еврея и говорить на одесский лад были главным его оружием. Он с этим своим искусством приходил в журналы, издательства, находил там влиятельного еврея и начинал с ним дружескую доверительную беседу. Тот признавал его за своего и начинал хлопоты за его интересы. Этим оружием Стаховский уж пробил в журналах много подборок стихов, причём подавали их с его портретами, и напечатал четыре сборника – и тоже с портретами. Так, за три неполных года жизни в Москве он стал известным поэтом и имел за свои стихи немало денег, чем опроверг утверждение Маяковского, что «поэтам деньги не даются». И здесь он быстро обезоружил киоскёра, и тот, извиняясь и кланяясь, стал подвигаться к двери. А когда вышел, Стаховский, кивнув на дверь, заметил:
– Я его пугнул раввином – вот что для них особенно страшно. Раввин найдёт средство посчитаться с теми, кто не несёт ему шекель.
Беседа наша продолжалась долго. Стаховский и над нами издевался, нас высмеивал – тонко, я бы даже сказал, изящно. И я делал вид, что иронии его не замечаю: понимал, что он действительно «гавкнул» – и так сильно, что бедный продавец до смерти испугался. Хорошо, что он при этом и совсем не окочурился, а то бы дело разбиралось не у нас в партбюро, а где-нибудь подальше.
Когда заседание кончилось и члены бюро разошлись, я попросил Стаховского задержаться. И тут заговорил с ним уже другим тоном:
– Вам не кажется, что избранный вами метод борьбы с евреями не принесёт большой пользы нашему обществу?
– А у вас есть другой метод?
Я задумался. Поднялся из-за стола, подошёл к окну. В институтском дворике, среди побагровевших деревьев, там и сям чернели стайки студентов, слушателей Высших литературных курсов, бойко пробегали с портфелями профессора, аспиранты. Я повернулся к Стаховскому, отвечал серьёзно:
– Признаюсь вам, что я только здесь понял, что с еврейским засильем надо бороться. И что борьба эта будет длительной и серьёзной.
– Ага, вы только здесь поняли, а я с пелёнок слышу стон об этом их засилье. Отец-то у меня уж более двадцати лет как секретарь Одесского обкома. Одесского! – слышите? А там сам воздух и берег моря пропахли чесноком.
– Вас как зовут? – спросил я.
– По паспорту я Бенислав, но стихи подписываю Владислав.
– Вы поляк?
– Я русский! А это дурацкое имя дал мне отец. У него, видите ли, прадед был поляком, а я в наказание за такой генетический пассаж таскай это ненавистное имя и объясняйся с каждым любопытным, как вот теперь с вами. А скоро ещё и по шапке будут давать за то, что я какой-то нерусский.
– Ну, это вы слишком! Мы по природе своей интернационалисты.
– Нас такими сделали два еврея – Маркс и Ленин.
Я посмотрел на дверь.
– Ну, а уж это, Бенислав… вам бы не следовало говорить. Особенно здесь, в партбюро.
– Теперь уж близится время, когда не говорить об этом, а кричать будут на всех перекрёстках. И мне своё имя переменить поскорее надо. Надеюсь на вашу помощь. В милиции-то не очень торопятся удовлетворять такие просьбы. И правильно делают. Евреям потакать не желают, но я-то не еврей, хотя у меня и фамилия чёрт знает какая! Хочу Иваном стать. А фамилию возьму: Страхов. А? Ничего? Иван Страхов! Отец обидится, и мать тоже, но они прожили свою жизнь под защитой Марксовой сказки о братстве народов, а в окна нашему поколению стучится новая теория: та, что род славянский не убивать, а спасать будет.
Я опять посмотрел на дверь: не слышит ли кто? «Странный он парень, этот Стаховский! – думал я о своём собеседнике. – В семье такого важного партийного начальника воспитывался, а несёт ахинею». Мне тогда ещё казалось, что такие взгляды абсурдны и ни к чему хорошему не приведут. К тому же он ещё и Ленина евреем называет. В этом, конечно, ничего особенного нет: я – русский, он поляк, ну, а Ленин мог быть евреем… Что же тут крамольного? Но, всё-таки, зачем же Ленина-то евреем называть? Мы, русские, должны гордиться, что вождь всего трудового человечества – русский, а он говорит: еврей.
Не знал я тогда, что мать Ленина никакая не Мария, а Мариам, и фамилия её девичья Бланк. Я не знал, а он об этом услышал, наверное, ещё во младенчестве. Везёт же мне на людей посвящённых, знающих! Вот и ещё один такой человек встретился на жизненном пути. Надо с ним сойтись поближе.
Закрыл я письменный стол на все ключи и, направляясь к выходу, дружески предложил:
– Давайте мы с вами договоримся, Бенислав: евреев вы больше пугать не будете. Пусть они спокойно торгуют водичкой. Её в Москва-реке хватит.
– Не обещаю, – коротко отрезал Стаховский.
По скверику Тверского бульвара шли к Садовому кольцу. Он вдруг остановился и сказал:
– А хотите посмотреть, как живут студенты? Вам теперь знать надо.
– Пожалуй. А где они живут? У нас есть общежитие?
– Тут вот – недалеко. Шалманчик есть небольшой.
Неожиданно мы увидели Ольгу. Она подождала нас, и мы пошли вместе.
– Пьют они там, – пояснила Ольга. – Хорошие поэты, но всё время пьяные.
– А вы откуда знаете, мадам? – склонился над ней Стаховский.
– Была у них. Вчера шли мимо и меня зазвали.
– Опасная экспедиция, смею вам заметить. Такой прелестный ягнёнок забрёл в гости к тиграм.
– Я ничего не боюсь. Позовут крокодилы – и к ним пойду.
Ольга говорила спокойно и без всякого стеснения, а мне подумалось: вот тебе и ангелочек божий. С ней ещё хлопот наберёмся. Мне стало жалко её. И подумал я о дедушке, который привёз её из какой-то дальней страны и оставил одну в Москве. Он ещё и квартиру отдельную для неё снял. И она уже как-то сказала мне: «Приглашаю вас в гости. Мне дедушка такую хорошую квартиру снял – прелесть». Я тогда промолчал, а она затем пояснила: «Дипломат какой-то поехал с семьёй к нему в посольство, а мне квартиру сдал. На всё время учёбы». А я думал: «Вот раздолье девке. Как же она поведёт себя в такой обстановке? Она ведь ещё девчонка. Соблазнов-то сколько!»
Зашли в тёмный, сырой подъезд старого-старого дома, каких множество в маленьких переулках и забытых, обойдённых цивилизацией улочках Москвы. На втором этаже остановились перед облезлой, изъеденной кем-то и изрезанной чем-то дубовой двустворчатой дверью. Позвонили. И долго-долго ждали. Наконец, дверь раскрылась и из коридора повалил запах горелой картошки и жжёного лука. Пьяными глазами на нас уставился низкорослый краснолицый и совершенно лысый молодой человек. Он долго нас не видел, а рассматривал Ольгу и заплетающимся голосом сказал:
– Ты же вчера фыркнула и ушла. Впрочем, дала на бутылку. Ты и теперь дашь нам пятёрку, да?
Вошли в комнату, похожую на ученический пенал. Вся мебель тут была расставлена у одной стены: кровать, диван, два совершенно облезлых кресла. В глубине комнаты светилось окно и у него стоял небольшой стол и три венских стула. От всего тут веяло стариной, – допотопной, почти доисторической.
– О-о-о! Кто к нам пришёл?.. Ольга! Ты на нас не обиделась? Вчера кто-то неизящно при тебе выразился.
Ольга, показывая на меня, сказала:
– Я привела к вам секретаря партийной организации. Пусть он посмотрит, как вы живёте. И пусть скажет, можете ли вы в таком состоянии создавать русскую поэзию, продолжать дело Пушкина.
Низкорослый и краснолицый махнул рукой:
– Русская поэзия уже создана. Вот он её соорудил. – Показал на портрет Пушкина. – А продолжать её будут господа евреи. Нам Пастернак сказал: «Печатать будут тех из вас, кто нам понравится». Я спросил: «А кому это вам?» Он ткнул себя в грудь, повторил: «Нам». Вот и вся история. А я не хочу нравиться Пастернаку. Значит, и ходу мне не будет. А посему выпьем.
– Водка кончилась! – загудел привалившийся к углу дивана русоволосый есениноподобный парень. – Кончилась водка! – повторил он громче. И покачал кудлатой головой. – А чтобы я, как вчера, просить вот у неё деньги?.. Ну, нет! Увольте! Я ещё не всю мужскую гордость растерял.
И поманил рукой Ольгу.
– Оля, посидите со мной. Мне ничего в жизни больше не надо, только чтобы вы посидели рядом. А наш новый секретарь поймёт меня и не осудит. Он ведь и сам студент. И это здорово, что в партийном бюро у нас будет заправлять наш брат, студиоз. Только вот понять я не могу, зачем он, такой бывалый и уже семейный человек, поступил к нам в институт. Ведь на писателей не учат. Писателем надо родиться. А я не уверен, что он родился писателем.
Ольга присела к нему на диван и с жалостью, с каким-то сострадательным сочувствием на него смотрела. Было видно, что она с ним встречалась раньше и его уважала. А он смотрел в потолок и чуть заметно вздрагивал всем телом, и морщил лицо, очевидно страдая от большой дозы спиртного. Я тоже знал его: это был студент третьего курса Дмитрий Блынский, как мне говорили, очень талантливый поэт. Кто-то даже сказал: «Будет второй Лермонтов». Я пододвинул к нему стул и сел у изголовья.
– А почему вы не уверены, что я родился писателем? А вот Ольга поверила.
– Ольга не знает теории вероятности, а я знаю. Поэты рождаются раз в десять лет. Один! Слышите? Только один экземпляр! Прозаики так же редки. И это у великого народа, да ещё не замутнённого алкоголем. Так неужели вы, трезвый человек, прошедший войну, забрали себе в голову, что вы и есть тот самый редкий экземпляр, который появляется на свет раз в десять лет?.. Ну, вот Ольге я это прощаю, а вам – нет, не прошу.
Из дальнего угла раздался бас Стаховского:
– Митрий! Не блажи! Не морочь голову нашему секретарю; я с ним уже сошёлся на узкой дорожке и могу свидетельствовать: он неплохой мужик. С ним мы поладим. А кроме того, ты не прав в корне. Давай уточним наши понятия: раз в десять лет родится большой поэт – это верно; раз в столетие могут появиться Некрасов, Кольцов, Никитин; а раз в тысячелетие народ выродит Пушкина. Но есть ещё легион литераторов – их может быть много, – сотня, другая, и они тоже нужны. Они дадут ту самую разнообразную пищу, которая называется духовной и которая сможет противостоять вареву сельвинских, светловых, багрицких. Вот он, наш секретарь, и будет бойцом того самого легиона. И я в этом легионе займу место на правом фланге. А вот ты из тех, кто рождается раз в десять лет, но из тебя и карликовый поэтишка не вылупится, потому как ты жрёшь водку и сгинешь от неё под забором. И Ваня Харабаров – вон он уснул в кресле, он тоже сгинет, потому что пьёт по-чёрному; и Коля Анциферов, – вон он таращит на нас глаза и не может понять, о чём мы говорим, – он тоже сгинет. Все вы слякоть, потому что пьёте!
– Ну-ну! Потише! – возвысил голос Блынский. – Я ведь могу и обидеться.
– Пусть он говорит! – пролепетал Анциферов – низкорослый, широкоплечий и совершенно лысый парень. Он приехал из Донбасса, работал шахтёром и, к удивлению всех, пишет стихи философского содержания и с тонким юмором. Он тоже очень талантлив, и в издательстве готовится к печати сборник его стихов. Недавно он получил за них аванс и сейчас его пропивает.
– Стаховский грубиян и нахал, но он говорит правду, и за это я его люблю. И если кто вздумает его тронуть, я его задушу вот этими…
Анциферов поднял над головой красные могучие руки рабочего человека. И ещё сказал:
– И не вздумайте ругаться, как вчера! К нам пришла Ольга. Это наш ангел, светлое видение. Я сегодня, как только она вошла, отставил в сторону стакан и выбросил в форточку недопитую бутылку. Жалко, страсть, как жалко, а при Ольге пить не стану. И вообще… – если бы меня полюбило такое диво, бросил бы пить совсем. Вот те крест – бросил бы!
Взгляд своих пьяных покрасневших глаз он уставил на меня и долго смотрел, морща губы, словно пытался что-то выбросить изо рта.
– Так ты, секретарь, посмотреть на нас пришёл? А ты скажи мне: зачем нам секретарь? Ты что, поможешь мне подборку стихов с моим портретом напечатать, вот как печатают Стаховского? Да у него и никакие не стихи, а их печатают. Почему их печатают? Да потому, что он Стаховский и зовут его Беня. Он, конечно, поляк, а они думают, что еврей. И печатают. И будут печатать, как Евтуха. Потому что Евтух-то тоже не Евтушенко, а Гангнус. И вот посмотришь: он тоже скоро будет великий поэт, как Багрицкий, Сельвинский, Долматовский… Стихи у них так себе, плюнь и разотри, а газеты кричат: великий! А почему они так кричат? Да потому что в газете-то у него своячок сидит, такой же еврей, как и он. Вот что важно: евреем быть! Это как Ломоносов просил царицу, чтобы сделала его немцем. Вот где собака зарыта: русские мы, а русским в России хода нет. Так за что же ты бился там, на фронте, секретарь, лоб свой под пули подставлял?.. Нам газеты нужны, журналы, а там – евреи. Сунул я свою круглую шлепоносую морду к одному, другому, а они шарахаются, точно от чумного. Они печатают Евтуха, Робота, Вознесенского. Да ещё татарочку с еврейским душком Беллу Ахмадулину. А ты, говорят, ступай отселева, от тебя овчиной пахнет. А?.. Что ты скажешь на это? Ты кого защищал там, на фронте? Их защищал? Ихнюю власть – да?.. Эх, старик! Немцев утюжил бомбами, а того не понимал, что к Москве уж другой супостат подобрался. Этот почище немца будет, он живо с нас шкуру сдерёт.
Анциферов замолчал и долго сидел, уронив голову на колени. Потом тихо пробурчал:
– А Ольгу не паси, оставь её нам. Ты старый, тебе уж поди за тридцать, а она вон какая молодая.
И потянулся к Ольге:
– Ольга! Дай мне руку. Ну, дай!
Ольга подала ему руку, и он припал к ней щекой, долго не отпускал. Бубнил себе под нос:
– Не влюбляйся в женатого. Слышала песню? «Парней так много холостых…»
Ольга красивым звонким голосом пропела: «Парней так много холостых, а я люблю женатого».
– Ну и дура! – махнул рукой Анциферов. – Хотел посвятить тебе стихотворение, а теперь посвящу Юнне Мориц. Ты знаешь такую кочергу? Она вчера сказала на собрании: Пушкин устарел, его книги надо бросить в топку. Во, помело! Пушкина – в топку! И зачем я ехал к вам из своего Донбасса?.. У нас тоже есть евреи, но они там смирные, не кусачие.
Было уже поздно, и я стал прощаться с ребятами. С тяжёлым сердцем мы с Ольгой выходили от них. Я понял, что у поэтов и писателей, особенно у начинающих, есть ещё враг не менее страшный, чем сионизм – это алкоголь. И как с ним бороться, я не знал.
Сейчас, когда я пишу эти строки, в конце второго тысячелетия, я пытаюсь в подробностях воскресить картины тех далёких студенческих лет, когда мы взошли на гребень двадцатого столетия и пытались разглядеть ход будущих событий, в мыслях своих строили планы свои собственные, верили в могущество России и в то, что сила её и величие преумножатся нашими трудами. И потому нам больно было видеть, как на наших глазах и по своей собственной воле или, лучше сказать, безволью гибли молодые люди, которым судьба определила стать пророками и духовными вождями своего народа. Гибли поэты.
Спустя сорок пять лет после тех событий я напишу книгу о пьянстве русских писателей «Унесённые водкой», и там есть страницы о судьбе моих товарищей по институту. Приведу выписку из этой моей книги:
«…Мои современники, друзья шли в литературу из глубин народа – дети рабочих и крестьян, нарождающийся после войны новый слой русской интеллигенции. У них перед глазами были кумиры: Есенин, Хемингуэй, который любил повторять: „Хорошие писатели – пьющие писатели, а пьющие писатели – хорошие писатели“. Это была философия медленного самоубийства. Но для моих однокашников коварная философия сработала быстро. Дима Блынский – талантливейший из молодых поэтов, поехал в Мурманск, там спился и домой вернулся в цинковом гробу. Николай Анциферов – блещущий юмором, искромётный стихотворец – в ресторане выпил дозу, не смертельную для высоких и могучих телосложением его собутыльников, но для него, низкорослого и голодного, оказавшуюся роковой. Ваня Харабаров – тоже низкорослый паренёк из Сибири, выпил около литра водки, уснул и больше не проснулся. Им всем троим было по двадцать пять – двадцать шесть лет. Тоненькие книжечки их стихов, как крылатые вестники рождённых народом талантов, остались нам в память и назидание о страшной и коварной силе алкоголя».
Долго я думал: написать эту книгу – о пьянстве русских писателей или оставить эту затею для другого более смелого автора. И всё-таки решился. И многих друзей-товарищей потерял в одночасье. Валерий Николаевич Ганичев, председатель Союза писателей России, давний и хороший мой знакомый, как мне рассказали, по прочтении этой книги заметил: «Зря он взялся за эту тему». Другие осудили меня ещё строже: дескать, бросил камень в собственный огород. Утешением служат мне письма читателей. Почти во всех письмах есть одобрительные слова: «Прочёл вашу книгу и бросил пить». А мой старый товарищ великий русский бас Борис Штоколов сказал: «Я и раньше не увлекался спиртным, а теперь решил и вовсе не притрагиваться к рюмке».
Для автора нет большей награды, чем такие признания.
Глава шестая
Как-то тихо и незаметно закончили свою работу комиссии и покинули наш институт. Словно пожухлую листву, сдуло ветром ещё вчера жужжащие, как шмели, стайки аспирантов и профессоров, посторонних писателей, литераторов и прочих нерусских жрецов русской литературы. Во всё время работы комиссий они толпились в коридорах, в приёмной ректората, тревожно гудели в кабинетах Россельса, Исбаха, Борщаговского. Стоя у окна партбюро, я видел всё новых людей; они, завидев во дворе студента, аспиранта или профессора, тотчас его окружали, и стайка нарастала, превращалась в стаю обеспокоенных судьбой института литераторов. Глядя на них, я вспоминал чей-то рассказ о Булгакове, который жил в доме, выходящем окнами на институтский скверик, и работал здесь же дворником. На нём был белый холщовый фартук, кирзовые сапоги и кожаный картуз на манер того, что носили московские кучера того времени. Однажды, завидев идущих по двору сразу пятерых приехавших из Одессы и уже ставших знаменитыми поэтов – Багрицкого, Сельвинского, Светлова, Долматовского, Александровского, Михаил Афанасьевич отставил в сторону метлу, снял шапку и, низко поклонившись, угодливо их приветствовал:
– Здра-а-вствуйте, господа русские писатели!
Такие вот стайки и стаи знаменитых и не очень знаменитых «русских» писателей клубились пчелиным роем в институте и вдруг – исчезли, словно растворились в предзимнем московском воздухе.
Перестал ходить в институт и секретарь партийной организации профессор Зарбабов. Его супруга Нина Николаевна мне позвонила:
– У Миши обострение, жмёт сердце, – вы уж там как-нибудь без него.
Я ей сказал, что у нас всё тихо, комиссии удалились и всё остаётся по-старому. Она на это заметила:
– Нет, Иван Владимирович, буря только ещё начинается. В горкоме партии готовится заседание бюро, на котором будут представители ЦК комсомола, Союза писателей и вашего райкома. Скоро вас позовут.
Зарбабов держал нос по ветру, он всё знал и хитро уклонялся от участия в сваре.
Через два-три дня мне позвонили. Назвали день и час заседания бюро горкома с повесткой дня: «О положении в Литературном институте». Меня обязывали обеспечить явку директора и его трёх заместителей и четырёх членов партбюро. Кроме меня, приглашались студент третьего курса Олесь Савицкий, профессор Шувалов и руководитель творческого семинара поэт Николай Соколов. С Савицким и Соколовым я успел хорошо познакомиться и даже дружески сойтись. Они при рассмотрении всех вопросов выступали умно, резко и бескомпромиссно. Шувалов был нашей противоположностью: он долгое время работал в Париже в советском посольстве, умел обволакивать словами любую проблему, – и так, что от проблемы уже ничего не оставалось, и мы решительно не понимали, что же нам делать. Его, очевидно, приглашали для уравновешивания нашей горячности и возможных излишних резкостей, которые в запальчивости мы по своей неопытности могли выплеснуть. Я был рад, что именно такой квартет будет представлять нашу партийную организацию.
В приёмной горкома всех усадили у стены на стульях. Кроме нас, тут было и ещё человек сорок, из чего мы поняли, что в повестке дня будет не один только Литературный институт, а и много других вопросов. Я подумал: «Наше дело решат быстро. Церемониться не станут».
В раскрытую дверь зала заседаний непрерывным потоком шли и шли важные дяди и тёти. На нас они не глядели, мы для них ничего не значили.
Я впервые был в горкоме партии, да ещё в столичном – нравов партийных верхов не знал, но всеми клетками чувствовал какую-то особую важность и торжественность. Здесь в одну минуту могла решиться судьба человека: утвердят или не утвердят директора завода, исключат из партии, снимут с должности или назначат на высокий пост. Партия управляла всем, выше партии не было ничего и никого.
Дверь закрылась, а я, как старший своей делегации, подошёл к секретарше, тихонько спросил:
– Нас вызовут?
Она ответила с некоторым раздражением:
– Да, конечно. Кого надо, того и позовут.
Я сел рядом с директором Виталием Алексеевичем Озеровым. Он был расстроен, – видно, ничего хорошего от горкома не ждал. Рядом с ним рядком сидели его замы; эти и вовсе были растеряны. Я же делал вид, что тревоги их не замечал, рассказывал директору какой-то эпизод из студенческой жизни.
Озеров хотя и был взволнован, но держался бодро, он был прям, широкоплеч, возраст его не определишь, но курчавая голова поседела, в глазах угадывалась усталость и тревога.
Из-за спины директора ко мне тянет всклокоченную голову со шрамом на лбу Исбах Александр Абрамович, первый заместитель директора. Он что-то чмокает красными толстыми губами, из мокрого рта со свистом и шипением вылетают слова, которых я не могу разобрать. Слышу только фамилию Мирнов – это второй секретарь Союза писателей СССР, его тоже пригласили на бюро, но в приёмной его нет, и Исбах этим обеспокоен. Очевидно, он и его дружки, хилый сутулый Россельс и рыжий мясистый Борщаговский, надеются на Мирнова, и я оглядываю приёмную, но, как и Исбах, не нахожу его. Пожимаю плечами, а Исбах вдруг отчётливо и неуместно громко проговорил:
– Василий Александрович обещал, он обещал…
Озеров толкнул Исбаха локтем, и тот водворился на своё место, а я никак не мог уразуметь, что обещал им секретарь Союза писателей.
Я уже знал всю подноготную своего начальства из Союза писателей: кто их назначил и почему они взлетели на командную вышку советской литературы. О первом секретаре Союза Суркове Алексее Александровиче говорили: у него жена еврейка, Софья Кревс – она несёт его как на крыльях, от неё и слава поэта, и гонорары, и должности. Мирнов?.. Это слабенький писатель из Орла или Воронежа, он долго болел, жил в деревне и лежал на печке, писал свои воспоминания о детских годах «Открытие мира». И к нему случайно залетел то ли Симонов, то ли Долматовский, то ли сам реби всех писателей-евреев Пастернак… Полистал рукопись и сказал:
– Мы напечатаем её большим тиражом, дадим тебе хороший гонорар и назначим вторым секретарём Союза писателей… Ты хочешь этого?..
– Да, конечно, я этого очень хочу.
Книгу «Открытие мира» напечатали, автора подлечили и посадили в кресло второго человека в руководстве писателями.
Вот на него-то и надеялись «три мушкетёра» из нашего ректората.
Но Мирнов уже был там, на заседании бюро. Там же был и второй секретарь ЦК ВЛКСМ мой знакомец Николай Николаевич Месяцев.
Но вот секретарша, подняв на меня глаза, тихо проговорила:
– Дроздова приглашают.
Я вошёл. И в мою сторону словно по команде повернули головы все члены бюро, сидевшие за П-образным столом. Их было человек семьдесят: директора крупных столичных заводов, рабочие, академики, ректоры институтов. Во главе стола сидел первый секретарь горкома партии Егорычев. Он казался маленьким, похожим на подростка.
Прямые волосы лежали двумя рядами, образуя посредине белую полоску. Вид у него был славянский, лицо строгое. Заговорил громко и, как мне казалось, был уже заранее нами недоволен:
– Дроздов! Подойдите вот сюда, – указал мне место недалеко от себя и так, чтобы меня все видели. – Будете отвечать на вопросы. Постарайтесь говорить коротко, у нас на ваш институт отведено тридцать минут. Вот секретарь Союза писателей Мирнов… – он показал на старого сгорбленного человека, стоявшего по другую сторону стола, – он вас, всех членов партийного бюро, называет бузотёрами. Что вы на это скажете?
– Это его право, – отчеканил я громко и каким-то металлическим, не своим голосом. И подумал: «Говори спокойно. Слова подбирай помягче». Однако слышал, как гулко стучит сердце, и ничего не мог поделать со своим волнением. Ещё подумал: «Я теперь понимаю, почему Зарбабов уклоняется от партийной работы».
– Резонно, – согласился Егорычев. – Хотя и не очень понятно. А теперь скажите: по какому принципу комплектуются студенты, много ли среди вас русских?
– За весь институт сказать ничего не могу, но наш первый курс… когда случился эпизод с профессором Водолагиным, разделился на две части: двадцать три человека против профессора и только семеро выступили на его защиту. Не знаю, кто по национальности эти двадцать три человека, но все они молятся на Пастернака, ненавидят классиков русской литературы и хвалят всё американское. Из четырнадцати студентов, набранных на отделение переводчиков, все четырнадцать – евреи.
– А это откуда известно?
– Они сами говорят. Наконец, фамилии: Дектор, Лившиц, Розенблат…
– А если они все талантливы?.. Вот их и притащил из прибалтийских республик Россельс!
– Может быть!
– Не может такого быть! – вскинулся Егорычев. – Что вы соглашаетесь с точкой зрения расистов?.. Этак мы в России и всю власть скоро декторам отдадим! Драться надо с такими наглецами, как Россельс, и всеми вашими руководителями… В том числе и главарями Союза писателей!..
Он гневно посмотрел на Мирнова и продолжал:
– У одного из них ночная кукушка из лекторов, другого за гонорар и за большой тираж глупой книги купили…
– Я попрошу!.. – вскричал Мирнов.
– Нет, это я буду вас просить удалиться к себе в деревню, иначе выгоним из партии, как злостного предателя её интересов… Вертухаев расплодили в Москве, шабес-гои, масоны и сионисты!.. Залезли во все щели, подмяли газеты, журналы, – всю культуру!..
Он поднялся и стал в волнении ходить возле стола. Поднимал над головой кулаки, и говорил, говорил… Но что он говорил, я не разбирал.
Мирнов вдруг ойкнул, схватился за сердце, захрипел:
– Я этого не прощу, я участник Гражданской войны, у меня орден…
И он стал валиться на спины сидящих возле него членов бюро. Двое подхватили его, понесли к двери. Кто-то тянул руку:
– Таблетка нитроглицерина. Суньте под язык.
Секретарь кивнул сидящему с ним рядом молодому человеку, очевидно референту:
– Срочно организуйте врача. А то ещё окочурится…
Оглядел всех нас, представителей, института. И обратился к сидящим за столом:
– Думаю, с институтом всё ясно. А?.. Как вы считаете?..
Раздались голоса:
– До какого безобразия всё дошло!..
– Надо гнать к чёртовой матери!..
– Сейчас же принять решение! А насчёт секретарей Союза писателей доложить своё мнение в Политбюро. Куда там смотрят Фурцева, Поспелов… Им поручена идеология.
– Что вы хотите от Фурцевой? Она замуж вышла… за Фирюбина. А Фирюбин, заместитель министра иностранных дел… сами знаете: он ещё почище будет Россельса и ему подобных.
– Но Поспелов?..
Кто-то проговорил тихо, на ухо сидящему рядом:
– Матушка-то у него… Да он с пеной у рта защищает этих самых… Россельсов.
Сидевший возле меня полный и седой мужчина наклонился к соседу и совсем тихо проговорил:
– Суслов там… серый кардинал сидит. От него всё идёт.
Сосед ему ответил:
– Да и сам Никита Сергеевич Хрущёв… Первородная-то фамилия у него Перелмутр. Сионистская гидра во все щели заползла. С ней и Сталин не совладал.
Егорычев, обращаясь к нам, институтским, сказал:
– Прошу запомнить: если и впредь позволите нарушать принципы национальной политики – спросим строго. А сейчас вы свободны. Нам всё ясно.
Оглушённый, выходил я из горкома партии. С товарищами не говорил. Они шли, опустив головы, и тоже молчали. Я между тем думал: «Но если он, Егорычев, и эти, сидящие за столом, допустили такое… Что же нас ожидает?..»
Забегая вперёд, замечу: скоро состоится Пленум ЦК партии или очередной съезд, на нём с резкой критикой Хрущёва выступил Егорычев, и тут же был снят с поста секретаря Московского горкома партии. Один за другим «ушли» со своих постов первый секретарь ЦК комсомола Павлов и Месяцев. На их места приходили «серые мыши», которых никто не знал, но которые национальную политику партии понимали примерно так же, как понимали её директор нашего института и три его заместителя.
Впрочем, трёх заместителей Егорычев всё-таки успел вымести из нашего института, а несколько позже убрали и Озерова. На его место поставили Ивана Николаевича Серёгина – человека русского, порядочного, инвалида Великой Отечественной войны. Приличные люди пришли и на место трёх «лихих мушкетёров».
С тех пор в институте начались благие перемены. Приёмную комиссию составили из русских; они стали принимать студентов по справедливости: учитывались способности и соблюдался баланс по национальностям. Я перешёл на третий курс, когда случилось особо важное событие в студенческой жизни: нам разрешили издавать печатный журнал. Меня вызвала секретарь ЦК партии по идеологии Екатерина Алексеевна Фурцева.
Кабинет у неё был небольшой, строгим квадратом. Под портретом Ленина стоял старинный стол, и за ним сидела она – женщина среднего роста с красивой головкой и причёской, в чёрном жакете, поверх которого сиял кружевной воротник белой кофты. Она не поднялась при моём появлении, смотрела на меня выразительными серо-зелёными глазами и лёгким движением руки показала на стул. Между нами произошёл такой разговор:
– Сбылась давняя мечта студентов, мы приняли решение ЦК об издании журнала при Литературном институте. Он будет так и называться: «Журнал молодых». Вас мы решили назначить редактором.
Я повёл плечом и головой, что означало: если решили, я возражать не стану. Екатерина Алексеевна вдруг заговорила строже, в её голосе я уже слышал жёсткость и какую-то дозу недовольства:
– Вы не возражаете, но мне известно, что вы никогда не работали редактором.
– Да, я редактором не работал, но я доволен тем, что редактором назначаете студента. Если назначите другого студента – я возражать не стану.