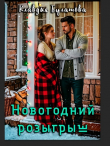Текст книги "Оккупация"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц)
– А-а, чёрт бы их побрал, эти заметки! – бросает он на бумагу ручку. – С чего начать, как их писать… – на ум не идут.
Аккуратным, чётким почерком он вывел заголовок «К новым успехам», но дальше не пошёл. Лист перед ним лежит чистёхонек и свежёхонек. Позже, когда я буду учиться в Москве на факультете журналистики в Военно-политической академии, я из лекций узнаю, что даже Максим Горький боялся белого листа. Он лежал перед ним и требовал слов – умных и значительных. Где взять эти слова? Их надо вытянуть из своей головы. Удастся ли? Найдутся ли нужные и умные?..
В этом и заключается вся тайна, вся психология журналистского труда.
Работа творческая, она иссушает мозг, изматывает душу. Мировая статистика гласит: жизнь шахтёров и журналистов почти одинаковая – самая короткая.
Горький тоже работал в газете, именно журналистика его, как и многих других: Марка Твена, Чехова, Салтыкова-Щедрина, сделала писателем. Журналистика оперирует фактами, а каждый факт сюжетен – имеет начало, развитие и финал. И это значит, что даже самая маленькая заметка должна иметь в зародыше все компоненты рассказа, повести, романа. Иногда заметка состоит из одного предложения, но и в этом случае она сюжетна. Вот, к примеру, как молодой журналист Алёша Пешков, будущий великий русский писатель Горький, в «Нижегородском листке» сообщил читателям о приезде в город цирковой труппы лилипутов: «Обыватели удивились, увидев, что на свете есть люди мельче их». Одно предложение, а в нём целая картина! Недаром же лучший из романов мировой литературы «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского вышел из газетной заметки.
Как и я, Саша и Мякушко попали в газету по прихоти случая, но если Мякушко, не чувствуя в себе призвания к писанию заметок, сразу поднял руки и сказал: «Я хохол и русской мовы не разумею…», мы такой отваги в себе не нашли, а, сломя голову, пустились в плавание по неизведанному морю. Со мной произошёл случай необычайно редкий: у меня был природный «голос», и я хотя и неуверенно, неумело, но всё-таки запел сразу и почувствовал себя в своей тарелке; Саша же был из той огромной армии людей, которым «голос» письма природа не отвесила. Он потом, много лет спустя, станет Министром культуры республики «Беларусь». И, говорят, неплохим был Министром, но в эту минуту он мучительно соображал, как же начать эту проклятую заметку?
Да, в то время ни я, и ни кто другой в нашей редакции не знали, что «голос журналиста» даётся природой реже, чем талант пения. Хороший журналист – явление более редкое, чем хороший певец. Певца можно встретить в любом застолье, – чуть выпьет, и так запоёт, что вы заслушаетесь. Но вот встретить человека, способного быстро, бойко, раскованно писать, – очень трудно. Мне затем приведётся работать в центральных газетах и журналах – и там такие умельцы встречались редко. Я пришёл в «Известия», когда в центральном аппарате, исключая собкоров, работало человек пятьдесят-шестьдесят; и коллектив журналистов там подбирался годами, – так можно ли поверить, что писать прилично репортажи, статьи, а тем более очерки, фельетоны, могли лишь семь-восемь человек? А уж рассказы писать умел только Виктор Полторацкий.
Знаю: утверждение моё многим покажется невероятным, но, к сожалению, это так, и мне нечего к этому добавить. Потому-то на страницах всех газет царила скука. Яркие публикации появлялись от случая к случаю. Теперь же, несмотря на разгул вольницы, плотно сбитый, со вкусом написанный материал и совсем не встретишь.
Склоняюсь над заметками Семёнова, и мы вместе готовим их для набора.
Как-то меня вызвали в Политотдел. Говорил со мной помощник начальника по комсомолу капитан Смилянский. Тема для него была трудной, он на меня не смотрел, а так крутил головой и сучил глазами, будто я его уличил в чём-то нехорошем и он хотел бы поскорее от меня отделаться.
– Тут у нас список работников Политотдела, – вот он, и вы там… видите свою фамилию?
– Я работаю в редакции.
– Ну, да, в редакции, а редакция где? Не на луне же? Она при Политотделе. Да? Или я что-нибудь не так говорю?
Капитан был толстый, красный, и кудряшки овечьих волос свалялись на его большой, лысеющей со лба голове. Я смотрел на него и думал: он, видно, хорошо питается, раз такой толстый. Но где же он берёт деньги? Не все же они, как Плоскин, печатают для грузин дипломы.
К слову тут скажу, что все евреи, служившие в штабе полка, хорошо и питались, и одевались, и имели отличные квартиры. Капитан же Смилянский, несмотря на свою молодость, – ему не было и тридцати, – и холостяцкое положение, имел двухэтажный особняк, принадлежавший ранее какому-то шляхтичу, а потом немецкому полковнику, коменданту Львова. В усадьбе Смилянского работал садовник, а еду готовила молоденькая полька, которая раньше была поваром у немца. Этот немец коллекционировал картины и китайский фарфор, – стащил к себе уйму всяких дорогих вещей, которые вместе с особняком перешли к Смилянскому. Одно время его особняк хотели передать Арустамяну, начальнику Политотдела, но для полковника подобрали другой домик, ещё и получше, и маленький дворец, удачно расположившийся на склоне Высокого замка, остался у главного комсомольца дивизии. Сразу после освобождения Львова многие именитые горожане побросали свои дома, убежав с немцами на запад.
Для понимания природы взаимоотношений русских с евреями в советское время скажу, что моё поколение было воспитано на ложных идеях интернационализма, – в том плане, что мы, русские, большая могучая нация, должны пренебрегать своими интересами и заботиться вначале о братьях своих меньших, а уж потом о себе. Отсюда пошли и обустройство окраинных республик, прилепившихся к России, и поднятие целины в казахстанских степях, и всякие другие щедроты, сыпавшиеся на головы малых народов – и всё за счёт России, русских. Евреев мы любили особенно, как любят в семье больного ребёнка; ведь они несчастные, их везде и всегда обижали, и даже в давние времена случалось, что страшные египтяне или бешеные испанцы и совсем изгоняли из своих пределов. И только вот теперь, при советской власти, русские возлюбили их настолько, что всюду пропускали впереди себя, и в институты принимали в первую очередь – их учили всех, поголовно, давали им высшее образование, а затем продвигали вперёд и выше – в научные учреждения, в министерства, обкомы, органы надзора. Освобождали от работы на шахтах; женщины ещё трудились под землёй, а евреи нет, и в колхозах их не было, а чтобы женщина-еврейка работала на строительстве плотин, мостов, шоссейных и железных дорог – этого уж и помыслить нельзя. Для таких дел хватало славянок. И это считалось правильным и как бы одобрялось сверху, а наверху у нас восседала партия – «ум, честь и совесть эпохи». Она-то уж во главе со Сталиным, отцом народов, знала, где и кто должен трудиться.
Я был продуктом эпохи, к евреям относился с любовью, жалел их и недоумевал, если кто-нибудь при мне позволял о евреях сказать что-нибудь плохое. О русских – говори, об украинцах – тоже, о грузинах, киргизах, чукчах – потешайся, даже анекдоты рассказывай, но о евреях! – молчок. Не надо. Евреи самые умные, они хорошие. А тот, кто их недолюбливает – злодей.
Заметьте: недолюбливает! Любит, но не до конца. И уже – злодей. Чуть ли не преступник. Так мы относились к евреям.
И вдруг меня приглашает Смилянский и как-то несмело и даже робко говорит:
– Работники Политотдела по очереди с офицерами штаба политинформации проводят. Завтра очередь ваша.
– Моя? Но о чём же я буду говорить?
– О борьбе с космополитизмом. Сейчас на каждой офицерской летучке говорят об этом. Вот – газета. Прочтёте какую-нибудь статью.
Газету он держит двумя пальцами и воротит от неё голову, будто она может его укусить. Газета называется «Культура и жизнь». Тогда выходила такая, вроде бы теоретическая. По причине занудности я её не читал.
– Любую статью вслух прочтите. Ту, что покороче.
Я беру газету и ухожу к себе. Стал на выбор читать статьи. Батюшки мои! Как же тут изгалялись авторы над бедными евреями! Именно такая мысль и приходила на ум после каждой статьи: «Евреи бедные, их обижают». Космополиты выставлялись такими злодеями, что, казалось, фашисты, которых мы только что одолели, меньше нам причинили зла, чем эти… «беспачпортные бродяги человечества» – так называли авторы статей разных фельдманов, кацев, рабиновичей.
Теперь, спустя более полстолетия после этих событий, я уже знаю, что такая крутая брань в адрес евреев замешивалась и вбрасывалась нам в голову самими же евреями. Сталин-то со Ждановым, отдавая приказ на развязывание борьбы с космополитами, не сумели оценить того факта, что борьбу-то эту они поручают не русскому человеку, который только что вернулся с фронта и примеривался, как спасти себя и свою семью от голодухи и как устраивать свою жизнь дальше. Борьба-то эта велась не из пушек, где мы приобрели немалый опыт, а со страниц газет, где сидели те же львовы, фельдманы, кацы, рабиновичи. А они-то уж знают, как обратить любую кампанию на свою пользу. Я потом приеду в Москву, буду работать в «Известиях» – поднимусь на самую вышку журналистской иерархии, стану экономическим обозревателем, меня привлекут к писанию докладов главам государства – вначале Хрущёву, а затем Брежневу; многое мне откроется на этих ступеньках партийной кухни. Тайны еврейского ума я постигал на каждодневных совещаниях «узкого круга» в кабинете главного редактора, коим был зять Хрущёва, бухарский еврей Алексей Иванович Аджубей. В тот же далёкий послевоенный год, сидя в редакционной комнатке многотиражки «На боевом посту», я, конечно, и не догадывался, что грубая кричащая брань газетных статей не столько разоблачала евреев, сколько вызывала к ним сочувствие. И потому никто из нас не пожалел, когда кампания борьбы с космополитизмом вдруг в одночасье оборвалась. Однажды утром мы пришли в редакцию и увидели редактора своего весёлым, к нему по коридору пробежал сияющий Смилянский, и ещё какие-то евреи забегали в редакцию, и были так возбуждены, так бурно выражали радость, что мы решительно не могли понять, что же случилось. И только потом, получив газеты и не увидев в них ни одной строчки, осуждающей космополитов, поняли: атака на евреев захлебнулась. Сталин потерпел поражение; по-моему, он даже не завоевал новых рубежей. Вскоре я узнаю, что евреи как были в министерствах, обкомах партии, горкомах, так там и остались. Но особенно они продолжали занимать все ключевые посты в средствах информации. И лишь немногих из них удалось вытеснить из редакций газет. Там образовался некий вакуум, который стали заполнять русскими. Между прочим, в этот вакуум судьба скоро засосёт и меня. Мне вначале дадут закончить ускоренный курс на факультете журналистики в Военно-политической академии имени Ленина, а затем пригласят работать в центральную газету Военно-Воздушных Сил «Сталинский сокол». Но вообще-то, если говорить строго, атака Сталина на евреев не достигла серьёзной цели. У «величайшего полководца всех времён и народов», как тогда называли Сталина, получилось так, как иногда случалось у нас на войне: прикажут разбить противника, а мы, как следует не разведав его силы, даже не узнав, где он располагается, сунем нос и получим сильнейший удар сдачи. И потом, отступив, долго зализываем раны, а противник, одушевлённый нашим поражением, переходит в наступление. Евреи хитрее немцев, они сразу в наступление не переходят, а поглубже зарываются и долго копят силы.
Итак, за несколько дней до окончания кампании борьбы с космополитизмом я сделал свою информацию – прочёл на собрании офицеров штаба 44-й дивизии ПВО какую-то статью из газеты. И, как ни в чём не бывало, вернулся в редакцию, спокойно работаю. Однако, к своему удивлению, стал чувствовать на себе косые и недружелюбные взгляды всех евреев, работавших в штабе, и, прежде всего, краснолицего толстячка Смилянского, который и заставил меня прочесть статью из газеты. Похолодел ко мне и редактор, но особенно полковник Арустамян, который хотя и выдавал себя за армянина, и фамилию носил армянскую, но выпадов против евреев не терпел. Редактор же хоть и бросал на меня ледяные насторожённые взгляды, но стиля отношений со мной не менял; ему надо было выпускать газету, а я исправно поставлял заметки, подборки писем, авторские статьи, выполнял всяческие задания.
Это было моё первое столкновение с евреями. Не скажу, что оно осталось для меня без последствий, но об этом речь пойдёт в других главах моего повествования.
Глава вторая
Предзимье над Западной Украиной клубило низкие тучи, дни становились короче, а с неба точно из мелкого сита сеял холодный дождь, а то и гнал заряды мокрого снега. Света по ночам в городе было мало, власти экономили электричество.
В девятом часу я приходил на квартиру, но здесь меня никто не ждал; хозяйка «натаскивала» балерин, а сын её, двадцатилетний плечистый малый, сидел за белым роялем и отстукивал каскады, пируэты, антраша и дивертисменты.
Я проходил в свою комнату и заваливался в постель. Читал газеты, а затем незаметно для себя засыпал. Читал я «Правду», «Красную звезду» и газету Прикарпатского военного округа «Сталинское знамя». Интересовали меня не новости, не политика, а главные «гвоздевые» материалы маститых журналистов: очерки, рассказы, фельетоны. В каждой газете я избрал для себя учителей и дотошно изучал их стиль, приёмы, выбор тем. С первых дней мне в голову вспрыгнула дерзкая мысль: «Если уж журналистика, то быть здесь не последним». Как научиться писать очерки, фельетоны, – а того пуще – рассказы, я не знал, но мысль, раз поселившаяся в мозгу, всё больше там укоренялась, становилась целью жизни.
Сегодня я принёс хозяйке впервые выданный мне дополнительный паёк, не съел из него и единого печенья, и она, принимая кульки, одарила меня ласковой улыбкой. Между тем голод терзал меня постоянно; питался я в офицерской столовой – раз в день, в обед, и подавали нам жиденький суп, где просторно гуляли по дну тарелки три-четыре кусочка картошки, самая малость крупы и призывно манили блёстки постного масла. На второе подавали пару ложек риса или картофельного пюре, крошечную котлетку, и всё это венчалось кусочком чёрного хлеба. Обед, казалось, предназначался для того, чтобы раздразнить аппетит и включить организм на поглощение основной съестной массы, но этой-то массы вам и не подавали.
Но сегодня мне засветила надежда: я впервые на новом месте службы получил зарплату, которую в армии называли денежным довольствием. Выдали мне тысячу двести рублей – за эти деньги я мог купить килограмм шоколадных конфет или полтора литра подсолнечного масла. Но конфет, конечно, я покупать не стану, масла тоже, а вот что же я куплю, пока не знал. В одном я был уверен: деньги буду беречь и покупать на них такую еду, которая была бы добавкой к ежедневному рациону.
С этой мыслью я заснул, но меня скоро разбудили. Раскрыл глаза и вижу перед собой парня, хозяйского сына:
– Проводи Ирину.
– Ирину?
– Да, Ирину. Она задержалась и боится идти. У вас пистолет – вам не страшно.
Ещё вечером, засыпая, в приоткрытую дверь я видел, как набросился на печенье хозяйский сын-пианист и как завистливо смотрела на него полураздетая тоненькая девчушка, с которой ныне занималась хозяйка.
Из ярко освещённой квартиры шагнули в ночь – не ту тихую украинскую ночь, описанную Гоголем, что блистала звёздами и сыпала на землю летнюю истому, а ночь, окутавшую Львов сырой и холодной стынью. Со стороны стоявшего на горе Высокого замка в узкую улочку, как в аэродинамическую трубу, валил ветер со снегом, толчками ударял в спину, подгоняя нас к центру города, где у главного входа в Оперный театр, словно глаза голодных волчат, мерцали огни фонарей.
У лестницы, ведущей в театр, я почувствовал слабость в ногах, – осел, схватившись рукой за край приступки.
– Что с вами? – испугалась моя спутница.
– Ничего. Оступился. Я сейчас…
От дверей театра кто-то крикнул:
– Ирина!
– Иду, иду!..
Помахала мне рукой и побежала.
Поднялся, а сам слышу, как дрожат ноги и я вот-вот упаду. Снова присел на присыпанную снегом приступку. Я был в полной растерянности. Отнялись ноги! С чего бы это?.. Прошёл почти всю войну, и в Чечне три месяца по горам лазил – тогда тоже была Чечня! – и, ничего, а тут вдруг отнялись!
И я вспомнил, как в голодном 1933-м году, когда я восьмилетним мальчиком попал на улицу и почти ничего не ел, у меня тоже отказали ноги. Весной лежал на лавочке в заводском сквере, и меня какой-то добрый человек поднял и отвёл в больницу, которая на счастье была рядом. Врачи не могли понять, почему это у меня вдруг отнялись ноги? И только старая няня сказала сестре: «Дайте ему кислой капусты, и он побежит как козлик». Мне стали давать капусту, и она меня скоро подняла. Воспоминание ободрило, и я подумал: «Деньги есть, буду покупать капусту».
Меня обступила стайка ребят, вышедших из театра.
– Ты приятель Ирины?
– Да, я её провожал.
– Пойдём с нами.
– Куда?
– Праздник у нас. Премьера. Пить-гулять будем.
Я попытался встать, но коленки подкосились. Ребята подхватили меня за руки. Кто-то сказал:
– Он ранен, как лётчик Маресьев.
– Да он пьяный!
– Нет, я не пьяный. Я сейчас… разойдусь.
Ребята крепче меня подхватили, повели к себе в общежитие.
В большой комнате со множеством кроватей и столов, сдвинутых на средину, зашумел пир горой.
– У кого есть деньги? Клади на стол.
Я вынул свою получку, хотел отсчитать половину, но кто-то вырвал всю пачку, бросил её на стол.
– Старший лейтенант богатый, хватит тут на три бутылки и на круг колбасы.
Пока бегали в магазин, узнал, что попал я к артистам; тут была едва ли не вся мужская половина балетной труппы театра; ребята, как и я, жили на скудную зарплату, жестоко голодали.
Я выпил немного, съел пару бутербродов и стал незаметно подвигаться к двери. Хотя и шёл своим ходом, но припадал так, будто меня ударяли палкой сзади ниже коленей.
На улице стало и совсем плохо; опустившись на какой-то камень, думал, что делать и не позвать ли кого на помощь. Вспомнил, что тут недалеко живёт Тоня со своей маленькой дочкой – подружка Виктора Гурьева, командира взвода с моей батареи. Он недавно демобилизовался и остался во Львове в надежде на мою помощь; бездельничал, попивал, частенько являлся ко мне в редакцию, говорил: «Ты журналист, помоги устроиться на работу». С Тоней они жили в полуподвальной комнатушке, за окном мелькали ноги пешеходов, шипели как змеи колёса автомашин. С Тоней они жили плохо, однажды при мне он её ударил. Я вступился за неё, и мы чуть не поссорились с фронтовым товарищем.
Я еле доплёлся до Тони. Она была одна с дочкой и очень удивилась, увидев меня в столь поздний час.
– Прости, Тоня, у меня ноги отнялись.
– Как отнялись? Почему?
– А так… Шёл, шёл и отнялись. Стул мне подай быстрее.
Поднесла стул и я, не раздеваясь, на него опустился.
– Отчего же это охромел ты вдруг?
– Еда плохая. Было уж со мной в детстве такое. Тогда меня капустой квашеной откормили. Мне и теперь капусты бы поесть.
Капусты у Тони не нашлось, но картошку в мундире и кусок холодного мяса она мне предложила.
Антонина работала в гостиничном буфете официанткой, и у неё в тот голодный послевоенный год всегда находилось что-нибудь поесть. Думается, из-за этого достатка и прижился у неё наш батарейный красавец и любитель выпить Витя Гурьев. На батарее он командовал взводом управления, имел в подчинении нескольких девушек, и все они были в него влюблены. Только командир отделения связи сержант Саша Еремеева – умная серьёзная девушка со средним учительским образованием – была к нему равнодушна. А он, как это часто бывает, именно к ней и тянулся. Однажды он взял её за руки и хотел привлечь к себе, она же толкнула его и он упал, ударившись головой о край двери. Как раз в этот момент я зашёл в землянку. Сказал Еремеевой:
– Вы хотя и действовали не по уставу, но лейтенант сам создал неуставную ситуацию.
Пригласил его к себе в землянку, предупредил: «Если подобное повторится, отошлю вас на другую батарею».
Гурьев любил меня, мы были друзьями, – сержанта оставил в покое, но других девчонок продолжал смущать своими бархатными глазами, игрой на гитаре и довольно красивым голосом, исполняя русские и цыганские романсы.
Тоня влюбилась в него без ума, как-то мне сказала:
– Он и пьёт, и ругается, а я люблю его больше жизни. Не знаю, что будет со мной, если он меня покинет.
Явился Виктор, – весь промёрзлый и на сильном подпитии.
– Иван – ты? Каким ветром в такой поздний час?
Выслушав мою печальную повесть, махнул рукой:
– Пройдёт. Дай сотню рублей, сбегаю в буфет, куплю бутылку.
– У меня нет денег.
– Не рассказывай сказки, у тебя всегда были деньги.
– Всегда были, а теперь нет. Прощайте, ребята, пойду в типографию.
И хотел встать, но не тут-то было. Ноги совсем не слушались.
– Ладно, – сказал Гурьев, – будешь спать с нами.
Утром я проснулся, а Тоня уж сходила на базар, купила трёхлитровую банку квашеной капусты. На керосинке пожарила колбасу с яйцами, и мы отлично позавтракали. Я ел с большим удовольствием и верой в чудодейственную силу давно позабытого мною овоща. Пройдёт с тех пор двадцать лет, и жена моя, Надежда Николаевна, работавшая в Московском институте биохимии, однажды мне расскажет, как они проводили опыт с капустой. Подобрали на улице двух отощавших собак – одну стали кормить обыкновенной пищей, в том числе и мясом, а другую – одной капустой. И что же увидели?.. Обе собаки набрали вес и шерсть стала шелковистой. У той же, что кормили одной капустой, все функции восстанавливались быстрее.
Я не могу сказать наверное: капуста ли мне помогла в тот раз, отдых ли, полученный в тепле и среди друзей, но утром мои ноги окрепли, и я, хотя и нетвёрдо, но всё-таки шагал по улицам Львова и был уверен, что капуста, которую нёс в авоське, окончательно поправит моё здоровье.
В тот же день я послал Никотенева за чемоданом, и он отнёс его на другую квартиру. Загадочно улыбаясь, сказал:
– Баба одна живёт. Кормить вас будет.
После работы я пришёл на новую квартиру и увидел женщину, которая почему-то должна была меня кормить; дама лет сорока с лицом восточного типа и крупной фигурой.
– Здравствуйте! – сказала она и сделала жест рукой. – Я покажу вам комнату.
– Я бы хотел знать условия…
– Условия?.. Какие ещё могут быть условия! Вы защищали Родину, а я буду диктовать условия. Вот вам комната – живите на здоровье. Ну, подходит? Вот и хорошо. А теперь пойдёмте в столовую, будем ужинать.
Идя за ней по коридору большой многокомнатной квартиры, думал: хорошо, что не взял с собой банку с капустой. И ещё думал: кто она и много ли людей живёт с ней в квартире?
Хозяйка распахнула белую двухстворчатую дверь, ввела меня в комнату, больше похожую на зал небольшого ресторана. Окна венецианские – от пола до потолка, над длинным столом две хрустальные люстры, а на столе дорогая посуда, множество еды и посредине ваза с цветами.
Доводилось мне лицезреть подобную роскошь, но только на общественных приёмах да в богатых домах, где мне привелось побывать во время жизни моей в Будапеште.
– Хотел бы договориться, – вновь залепетал я, но хозяйка взмахнула рукой, точно намеревалась меня ударить.
– А-а, ладно. Нужны мне ваши копейки! Да я за один день имею больше, чем вы за месяц своей службы. Мне мужской дух нужен, а не ваши деньги. Одна я тут в этой конюшне.
Я теперь только смог рассмотреть женщину, которая с такой щедростью распахивала передо мной своё гостеприимство. Шапка рыжих волос и круглое, как тарелка, лицо теперь уже не казались мне восточными, хотя выпуклые коричневые глаза излучали природу мне незнакомую, не славянскую. По-мужски крутые плечи, высокая грудь дышали жаждой, какой-то неестественной, неземной силой, излучали энергию демоническую.
На столе водка, вино, много разных закусок, но я искал и не находил капусту. В эту минуту я, наверное, напоминал козла, для которого капуста была самым изысканным и, может, единственным деликатесом. Но капусты не было, и я с большим удовольствием поглощал всё остальное.
Неожиданно без стука и разрешения вошёл дядя лет пятидесяти в кожаном пиджаке и такой же кожаной кепке. Скользнул по мне насмешливым взглядом, обратился к хозяйке:
– Сегодня я вам не нужен?
– Вы свободны. Завтра приезжайте к девяти.
Нарочито властный тон и громкая речь давали мне понять, что дело я имею с особой высокого полёта; её как командира нашей дивизии возили на автомобиле, и у неё был свой персональный шофёр. Взятый с шофёром тон она сохраняла и в разговоре со мной. И обращалась ко мне на ты.
– Так, значит, в газете трудишься, заметки кропаешь.
И, не дождавшись ответа, добавила:
– Не люблю шелкопёров, они за мной по пятам бегают.
Таинственный покров, скрывавший от меня мою новую хозяйку, становился всё плотнее, я решительно не мог понять, с кем имею дело. Однако, выпив рюмку-другую, осмелел и, откинувшись на спинку стула, подал и свой голос:
– Не понимаю вас: вы вроде бы начальник, важный человек, а зачем вам квартирант понадобился, в толк не возьму.
– Ты на фронте-то тоже в газете работал? Газетчики – народ ушлый, суть дела должны с ходу ухватывать.
– Я вначале в авиации служил, а потом в артиллерии.
– Вон как! И что же? Наверное, редко в цель попадал, всё мимо палил?
– Всякое бывало. В другой раз и промажешь, но случалось и цель поражали.
Разговор становился и скучным и неприятным. Хозяйка не принимала меня всерьёз, и это мне не нравилось. Я назвал себя, а затем спросил:
– А вас как мне называть?
– Зови Ганной. Ганна я, – значит, полька. Наверное, слыхал от взрослых мужиков: полячки на любовь злы. Темперамент у них. А?..
– Нет, я этого не слыхал.
– Не знаешь, значит, и этого! Но тогда чего же ты знаешь, лейтенант зелёный?
Я хотел сказать: я старший лейтенант, и никакой не зелёный. Два ордена заслужил и пять медалей, но, конечно же, ничего этого не сказал. Насмешливый тон её речи окончательно сбил меня с толку, и я поднялся, стал благодарить хозяйку за ужин.
– Я, пожалуй, пойду отдыхать.
Улыбнулась Ганна, вид её говорил: «А ты ещё совсем ребёнок. Спать захотел». Чуть заметным движением головы показала на дверь моей комнаты. А когда я уже снял китель и готов был завалиться в постель, вошла ко мне, сказала:
– Перед сном-то и помыться можно. У меня ванная есть и горячая вода.
Я согласился. Ванную давно не принимал, и она мне оказалась весьма кстати. А когда я возвращался к себе, Ганна из своей спальни окликнула:
– Лейтенант! Накрой-ка меня тёплым одеялом, чтой-то мне холодно.
Я вошёл в приоткрытую дверь и на высокой роскошной кровати увидел свою хозяйку. Она лежала на спине с раскинутыми по подушке рыжими роскошными волосами и была накрыта всего лишь тонкой кисеёй на манер рыболовецкой сети. Грудь, живот и всё остальное отчётливо просвечивались сквозь ячейки этой сети. Ганна смотрела на меня горящими глазами и улыбалась.
– Что, ещё не видал?..
– На войне другим был занят, – нашёлся я с ответом, чувствуя, как занимается во мне шум мужской плоти.
Засмеялась Ганна, точно ведьма, схватила меня за шею, обдала жаром клокотавшего в ней вулкана.
Всё остальное совершалось по тем же законам, по которым и происходит весь коловорот живой природы.
Жизнь в редакции начиналась с летучки. Михаил Абрамович Львов, наш новый редактор, сидел за огромным дубовым столом и казался подростком, настолько он был мал, хил и несерьёзен видом. От политотдельцев мы уже знали историю его карьеры, нисхождение по ступеням вниз с самой что ни на есть большой высоты, где он царил во время войны: из Главного Политического управления в Москве до крохотной дивизионки во Львове. Заехавший к нам на фронтовом «Виллисе» подполковник Нефёдов, корреспондент «Красной звезды» по Прикарпатскому округу, завидев его у нас в кресле редактора, заскрежетал зубами и чуть было не ударил бедного Львова. Рассказал нам, как наш редактор с 1943 года сидел в отделе кадров Главпура и выпытывал у каждого военного журналиста, попадавшего в кадры, где бы он хотел служить. И если тот называл южное направление, посылал его на север, а если бедолага умолял послать на север, где у него жена, родители, – посылал его на Дальний Восток. Подполковник даже показывал нам, как этот маленький наполеончик потирал от удовольствия руки, сделав гадость очередной своей жертве. Однако враги его не дремали и, где только было можно, мстили обидчику. Так они и спустили бедного Львова во Львов, где, как считали многие и как было на самом деле, ещё «кишели бендеровцы».
Мы собирались в кабинете редактора, рассаживались по своим местам. Капитан Мякушко, большой, грузный человек сорока лет, садился у стола редактора и как-то насторожённо, угрожающе смотрел на начальника. Тот чувствовал на себе его тяжёлый взгляд и не поднимал глаз, будто боялся опалить их о взгляд Мякушки. Редактор распределял задание на день.
– Вам, – кивал он в мою сторону, но и на меня глаз не поднимал, – четыре письма и передовую о спорте. И подвигал мне стопку писем. – Вам, – кивал на Семёнова, – три заметки.
Саше он задавал меньше, зная, как тот медленно и мучительно пишет.
До Мякушки добраться не успевал. Тот предупреждал его грозным басом:
– Передовая о бюрократах в «Правде» напечатана.
И бросает свежий номер на стол редактора. Тот испуганно косит глаза на газету и не решается взять её в руки, словно она горячая и он рискует обжечься.
– Я её читал. Хорошая статья, очень, очень… И что?
– Как что? – гудит Мякушко. И встаёт. И нависает над столом начальника, словно гора.
– Как это вы говорите – и что? Хорошенькое дело: и что?
Оглядывает комнату, смотрит на дверь, будто там кто-то стоит и подслушивает. Эта сцена окончательно добивает редактора; он съёживается, очки его падают на тонкий горбатый нос – он растерянно елозит карандашом по листу бумаги, тяжело дышит.
Сцену эту нельзя понять, если не учесть, что то было время борьбы с космополитизмом. «Правда», а вслед за ней и все другие газеты, печатали громкие статьи, разоблачающие «беспачпортных бродяг человечества», то бишь евреев. И в этой статье о бюрократизме шла речь о них же – носителях всякого зла, волокиты и бюрократизма. Евреев снимали с работы, вызывали в милицию, прокуратуру, а многих сажали в тюрьмы. Наш редактор был еврей и, как всякий его соплеменник, боязливо смотрел на дверь, ждал, когда за ним придут. Мякушко, отъявленный бездельник, и к тому же, как и я, и как Саша Семёнов, залетевший в журналистику случайно, тяготился писанием заметок; по утрам заходил в дивизионную библиотеку, выискивал в центральных газетах важную статью и затем на летучках потрясал ею перед носом редактора, понуждая его к перепечатке. Так он борьбу с космополитизмом коварно опрокидывал на голову и без того вконец перепуганного редактора, а нас, и, прежде всего, себя, освобождал от писания заметок.