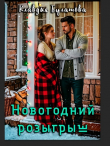Текст книги "Оккупация"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 32 страниц)
– Что ты говоришь – о евреях? Да кто же печатать такие рассказы будет? А если где-то и напечатают, все редактора узнают и бояться меня будут.
– Трусишка ты, Иван! А жизнь, она та же война. Здесь смелость нужна, и даже отвага. Особенно для писателей. А нет этого – брось перо, займись другим делом.
Я слушал Надежду и в душе посмеивался над ней. Не подозревал я тогда, что в этих-то простых и ясных как божий день словах и заключена вся мудрость не только нашей профессии, но и самой жизни. Побеждает тот, кто не боится, кто идёт в наступление, а если вот так, дрожать и трусить… Ну, тогда иди в рабство, живи так, как повелит хозяин. И никакой другой логики в жизни нет.
Утром следующего дня я подал рапорт о расчёте. А уже через час был готов приказ, в котором я из журнала увольнялся, а на моё место назначался инженер Семён Моисеевич Раппопорт.
Не скажу, что после разговора с Надеждой и моего ухода из журнала я стал в своих рассказах «шевелить» еврейскую тему, – слишком это была запретная тема, но я всё-таки уже смелее выходил на проблемы, которые волновали многих людей и которых боялись писатели.
Прожил я в своём новом положении около года, несколько раз ездил в деревню Машино под Загорском к Самсонову. Он жил у одинокой старушки, кормил корову, двух коз, возил в Загорск на рынок масло и козье молоко… Окреп, поздоровел, был весел и писал свои мемуары.
Однажды утром я вышел из своей квартиры и увидел возле подъезда сверкающий чёрным лаком лимузин. Из него выходил маршал авиации Красовский. Увидев меня, сказал:
– Мы с вами встречались.
– Товарищ маршал, разрешите представиться: капитан авиации в запасе Дроздов.
Маршал улыбнулся, протянул мне руку:
– На ловца и зверь бежит. Я по вашу душу. Приглашайте в дом.
И вот мы сидим за столом, тёща угощает нас чаем.
– Я как во сне, – говорю я, – не могу поверить, что вижу вас.
– Почему? – гудит маршал. И его чёрные глаза тонут в мельчайших морщинках, которые возникают у него во время улыбки. Он весел, ласков, – глядит на меня, как на близкого родного человека.
– Почему?..
– Ну, это как если бы в мышиную нору заглянул медведь.
Маршал при этих словах широко смеётся, откидывается на спинку стула.
– Люблю красное словцо. Сразу видно – литератор! Я родом-то из деревни, белорус, там у нас мастера были на шутку. Помнится, когда принял московский округ после Василия, у нас с вами сразу сложились хорошие отношения, да вы стреканули от меня как заяц. Слышу потом, говорят: в Румынию подался, в посольстве работает.
– Да нет, Степан Акимович, в дипломаты не приняли, в газету отослали.
Хотел о своих партийных делах сказать, да вовремя остановился. Ждал, что же скажет маршал, зачем ко мне явился такой большой человек? Признаться, и малейшей догадки о причинах его визита не было.
Маршал сказал:
– Меня к вам Устинов прислал. Тут, видишь ли, капитан, дело такое вышло. Пригласили меня в ЦК и говорят…
При слове ЦК сердце моё захолонуло. Не было для меня страшнее этой краткой, словно пистолетный щелчок, аббревиатуры.
– … ну, вот – и говорят: американские генералы мемуары пишут, а нашим вроде бы рот зажимают. Молчат наши генералы, ни одной книжки не выпустили. Ну и предложили: пиши, мол, книгу. Вам есть что сказать. А я им в ответ: есть-то, конечно, есть, так ведь – книга! Вас, к примеру, позовут на сцену и скажут: спойте арию или спляшите танец лебедей. Ну, и вы спляшете?.. Тут при нашей беседе полковник Устинов сидел. Так он сказал: помощника дадим. И назвал вашу фамилию. И совет мне такой дал: не мешайте ему, и тогда увидите, какая книга получится. Вот я к вам и приехал.
– Я, пожалуй, с удовольствием соглашусь. Дело важное, да к тому же и знакомое мне: авиация! А у вас есть какие-нибудь наброски?
– Сто чертей и два фунта изюма! Какие наброски? Да я под расстрелом бы их не стал писать! Вот рассказать всю историю моей жизни – пожалуй, могу. У меня в кабинете установка такая есть: всё, что говорим – на ленту запишет. А потом эту ленту стенографисткам передадим, они вам на машинке весь текст представят.
– Годится. А я из этих текстов нужные страницы ладить буду. Может, и выйдет у нас книга.
Сидели мы с маршалом, чай пили, а тут и Надежда приходит. Я ей маршала представил. Она нам картошку с салом пожарила. Наш гость с удовольствием ел и картошку. При этом говорил:
– Бульба у нас в Белоруссии – первая еда. Я в детстве любил, когда мама нам пюре с молочком заделает.
Составили расписание, когда и в котором часу я буду появляться у него в кабинете, и на том расстались. Провожать вышли вместе с Надеждой. Шофёр предупредительно раскрыл дверцу «ЗИМа», и маршал, не торопясь, со свойственной ему важностью залезал в кабину. Пожимая мне руку, фамильярно сказал:
– Да зови ты меня по имени-отечеству. Нам с тобой длинную дорогу вместе пройти суждено, – нам тесная дружба нужна, а не чинопочитание.
Поклонился Надежде:
– Ну, привет, ребята! Очень рад, что с вами познакомился.
На меня кивнул:
– Первая-то встреча у нас давно произошла, да он не пожелал со мной, стариком, в одной упряжке идти – за кордон махнул, да вот, видите, нашёл я его. Видно, уж судьба у нас такая – вместе в историю шагнуть.
Поднял руку, и автомобиль тронул. И как только он растворился в потоке машин, Надежда сказала:
– Кто это?
– Маршал авиации. Красовский Степан Акимович.
– Знаю, что маршал, а зачем он?
– Что зачем?
– Ну, зачем приезжал?
– А-а-а… Да так. Приятели мы.
Надежда тряхнула меня за плечи, почти прокричала:
– Ну, ладно тебе идиотку из меня строить! Приятеля нашёл! Говори: зачем он приезжал?
Я понял: Надежду мою разыграть не удастся. Рассказал ей о цели визита маршала, на что Надежда, умеющая зрить в корень, заметила:
– Журнальные евреи хотели уязвить тебя, а судьба вон как распорядилась: маршала тебе в подарок послала.
Жизнь разворачивала меня в сторону серьёзной литературы, мне предстояло написать первую книгу.
Глава пятая
Я сижу в электричке, и она как на крыльях несёт меня в Монино. Здесь городок Военно-воздушной академии, и здесь же на окраине в зелёном живописном уголке живёт маршал Степан Акимович Красовский – строитель и пестун боевой авиации, первый заместитель командующего Воснно-Воздушными Силами СССР, и он же начальник академии.
Красовский никогда не сидел за рулём самолёта, не оканчивал никаких академий, и даже не имеет среднего образования, но во время войны был советником Сталина по вопросам авиации, командовал 2-й Воздушной ударной армией, которую бросали на самые тяжёлые участки фронта.
Маршал Красовский – непререкаемый авторитет и любимец лётчиков.
Такого человека мне послала судьба, мы вместе должны были выполнить задачу государственной важности; его книгой решено открыть серию военных мемуаров. Я горжусь, что именно мне поручено оказать в этом помощь автору.
Два-три раза в неделю езжу в Монино. Я знаю: меня ждёт маршал, мы сейчас будем с ним работать.
– Здравствуйте, Степан Акимович! Вы как всегда – бодрый, весёлый и хотите мне рассказать что-то интересное.
– Проклинаю день, когда я подставил шею под этот хомут! Я теперь и ночью думаю, что бы ещё вам рассказать из своей жизни. Жизнь-то у меня вон какая! Пять войн и полдюжины революций. Не жил, а в котле кипел.
Я уже успел нажать кнопку включения магнитофона, наша беседа записывается. Каждое слово! Всё, что наговорил мне маршал за три месяца нашей работы. Стенографистки всё переписали и перенесли на бумагу, и я в портфеле таскаю тысячу страниц текста наших бесед. Триста из них я уже обработал и превратил в страницы книги, но маршалу не показываю; боюсь, как бы он не закапризничал и не перестал рассказывать. Он сейчас в ударе, верит, что книга будет, и даже как-то воскликнул:
– Учёный совет академии знает, что я пишу книгу; говорят, зачтут её как докторскую монографию и даже присвоят звание профессора. Вот будет потеха! – всего-то три класса церковно-приходской школы закончил, и вдруг – профессор!..
Жарко. На дворе в разгаре лето, температура за тридцать… Окна кабинета открыты, мощная магнитофонная установка чуть шелестит своими колёсами.
Маршал снимает китель и сидит в кресле в нижней шёлковой рубашке. Его секретарь и майор-референт знают, что минуты эти святые, никого не впускают. И уж если министр обороны позвонит или командующий Военно-Воздушных Сил, – тогда чуть приоткроют дверь, скажут, кто звонит. Но вообще-то нас не беспокоят. Маршал, откинувшись в кресле, пытается оживить в памяти те далёкие годы, когда он, помощник моториста, садится с лётчиком в похожий на стрекозу или на этажерку французский самолёт «Фарман», кладёт на колени мешочек с железными заострёнными штырями, которыми они «обстреливали» позиции белых частей. Штырёк такой летит к земле со свистом и визгом, он со всё большей скоростью ввинчивается в воздух и, если попадёт в голову или плечо, насквозь пронизывает человека.
Степан Акимович замолкает и долго задумчиво смотрит в окно. Потом наклоняется ко мне и на ухо говорит:
– Не хочу, чтобы этот чёрт, – кивает в сторону магнитофона, – всё записывал, но тебе скажу: сыпал я эти дьявольские гостинцы в сторонку от людей. Лётчик однажды заметил мои хитрости, показал кулак. А я всё равно – не мог кидать на головы солдат эти смертоносные стерженьки. Война-то была гражданская, люди и там и тут были наши, русские.
Помню, я пытался оставить в книге эти знаки величия русской души, да в то время ещё не созрело общество до осознания истинных причин и побуждений гражданской войны. Белые для нас были белыми, а красными мы называли всех людей, которые якобы крушили старую «нищую» Россию и воевали за интересы рабочих и крестьян.
Так начиналась лётная жизнь будущего маршала авиации, – в сущности, лётного в ней ничего не было, а была работа – вначале самая чёрная, самая разная, а уж потом горячие ветры времени вынесли его на командные высоты реактивной авиации, а затем и космонавтики. Монинская Воздушная академия уже тогда превращалась в центр подготовки не только командиров авиации, но и покорителей космоса. Где-то за партами учебных аудиторий сидели будущие космонавты и среди них старший лейтенант или уже в то время капитан Юрий Гагарин.
В военном городке мне выделена двухкомнатная квартира, – временно, конечно, на период работы. Тут телефон. И в Москве по просьбе маршала нам установили телефон.
Условия идеальные; я иногда по несколько дней задерживаюсь, и Надя меня понимает, говорит: «Ты только в столовую ходи вовремя и ночью не работай. Тебе ещё много предстоит написать книг. Будь здоров, и о нас не беспокойся».
Да уж, что и говорить: условия для меня созданы хорошие. Выбор Красовского одобрили в Военном издательстве. Заведующий вновь созданной редакции мемуарной литературы полковник Михаил Михайлович Зотов мне сказал: «Ты особенно-то не мудрствуй, пиши так, как ты писал очерки и рассказы в „Сталинском соколе“, и лучшего нам не надо».
С нами заключили договор. Мне для начала выплатили сорок пять тысяч рублей. Всего же, в случае одобрения рукописи, я получу шестьдесят тысяч. Это половина гонорара, положенного за книгу. Другая половина причиталась маршалу. Но он, подписывая договор, сказал: «Все деньги ему отдадим. Пусть только старается».
Сорок пять тысяч! Я их уже получил и перевёл на сберегательную книжку Нади. Она, увидев эту цифру, покачала головой: «Деньжищ-то сколько! Куплю девочкам необходимое, а себе ничего и покупать не буду. Пусть они лежат на чёрный день».
Надежда за свою работу в цветочном складе получала в то время семьсот рублей в месяц, пенсия моей тёщи составляла сто пятьдесят рублей. Можно же представить, что означала сумма моего гонорара!
Я её просил не скупиться, тратить, а она: нет и нет! Мало ли ещё как сложится жизнь.
Во время войны-то голодала, ходила на работу в разбитых солдатских сапогах, – как говорят в Сибири, – «хлебнула мурцовки» и теперь боялась. Признаться, я и сам был изрядно напуган мытарствами последних лет. Да и теперь не вполне уверен, что все они остались позади.
А книга подвигалась.
Пришёл я однажды на дачу маршала; кругом лес, рядом пруд – дивный уголок Подмосковья. Сижу на открытой веранде и вдруг вижу: туда-сюда пробежали парни. Удивился я и хотел звать хозяина, но тут на веранду грузно ввалился тучный седой дядя в светло-жёлтой безрукавке. Где-то я видел этого человека, но где? – решительно не припомню. Потом только понял: на портретах. Тянет мне руку:
– Слышал я про вашу затею – правильно Зотов сделал, что помощника подключил. Степан Акимович писатель никакой, он, бывало, и донесения составить как следует не умел. Стратег и тактик – хоть куда, а вот писатель…
– Извините, с кем имею честь…
– Родион Яковлевич Малиновский… Может, слышали?
Поднялся. Отчеканил:
– Товарищ министр обороны! Разрешите доложить: капитан в запасе Дроздов!
– Садись, капитан, садись. Зови меня по имени-отчеству. Я литераторов люблю и, признаться, завидую вашему брату. Я ведь тоже в некотором роде писатель. В душе, конечно. Я, видишь ли, иногда балуюсь сочинительством. Ещё в юности забрал в голову мысль, что писателем могу стать. Вначале сочинял рассказы, а потом и за роман взялся. Даже во время войны в короткие часы отдыха на коленке главы новые писал. Георгий Константинович Жуков на гармошке играл, а я – писал. Однако никогда и ничего не печатал. И думал всегда так: у других получается, а у меня нет. Но что это я – всё о себе, да о себе. А вы скажите мне, чтой-то вы, такой молодой, а уже и в запас угодили? Ах, румынская армия? Да, мы её всю подчистую списали. Такое указание вышло. Многие хорошие офицеры за бортом оказались. Пиши рапорт – призовём в армию. Майора присвоим. Степан Акимович местечко в академии найдёт. А не то, я к себе вас заберу, в штат министерства.
В кустах смородины показались два молодых человека, они нас не видели и подвигались так, будто кого высматривали. Родион Яковлевич их окликнул:
– Ребята! Идите к машине, дайте мне отдохнуть.
Ребята исчезли, а министр устало опустился в кресло, ладонью вытер пот со лба.
Повернулся ко мне:
– Значит, писатель? Ишь, как! Наверное, и тридцати нет, а уже писатель. Но ты, капитан, извини меня: я твоих книг не читал. Я и вообще-то современных авторов читать не могу. Недавно мне роман военного писателя на предмет присуждения премии министерства обороны представили; жевал я его, жевал, да и бросил. Офицер прогрессист, офицер консерватор, одного награждают, другого в партбюро вызывают – батюшки! Скучища какая! Да я лучше «Поединок» Куприна перечитаю или Лермонтова «Герой нашего времени» – там тоже офицеры, но сколько чувств и красота какая! Ну, а ваши книги?..
– У меня, товарищ маршал, нет книг. Я не писатель, а журналист. Но с вами я согласен: и я без особого интереса читаю книги современных авторов. Если уж о войне пишут, то Михаила Бубенного «Белую берёзу» все копируют…
– Вот-вот! Вы это точно заметили. Шаблон царит в литературе. Сплошное попугайство.
Маршал замолчал и смотрел на те кусты, где только что были ребята из его охраны. Потом, не поворачиваясь ко мне, продолжал:
– Да, мечтал я о литературе. И уж потом, когда мы вот со Степаном Акимовичем на Дальнем Востоке служили: я округом командовал, а он авиационными частями, роман всё продолжал писать. Да теперь-то… перечитаю десяток-другой страниц – и в стол подальше засуну. Неинтересно – вот что главное. А я так думаю, о чём бы книга ни была, интересной должна быть. Всякую другую рукопись в камин надо бросить. Как вон Гоголь.
Маршал поднял над головой руку:
– Гоголь! И то рукопись в камин бросил. Вот это чувство ответственности! Это как у нас бывало, когда очередную операцию на фронте разрабатывали. Сколько вариантов прокрутим, а принять никакой не можем. И тот нехорош, и этот… И уж такой выберем, какой нам кажется наиболее удачным. Тогда я Сталину звоню, по шифру доложу ему: мол, готовы. А роман… Он что ж, это та же операция. Нельзя же к читателю выйти с чепухой какой-нибудь.
У меня от этих слов мороз по спине пробегал. Чудилось, что о нашей это книге маршал так говорит. Смотрите, мол, не подкачайте.
Минуту спустя, заключил:
– Я со своим романом, наверное, так и поступлю. В камин его брошу.
Вынул из кармана брюк платок, вытер влажное от пота мясистое лицо. Он имел изрядный лишний вес, и сердце его, как мне казалось, было не совсем здорово. О литературе мы больше не заговаривали.
Много лет спустя, когда маршал Малиновский отойдёт в лучший мир, работники Военного издательства попросят у наследников рукопись его произведения и напечатают. Я не читал этой книги, но не однажды слышал, что роман неплохой и зря Родион Яковлевич держал его в сейфе. В то время по Москве ползли и другие слухи, что якобы на даче министра было много картин, вывезенных им из Германии. Красовский, прослышав об этом, сильно возмущался и всё хотел сделать по этому поводу публичное заявление. Малиновского он знал давно и знал также его страсть покупать картины. Главным образом это были картины современных русских художников, и за них маршал отдавал большую часть своей зарплаты. И не так уж этих картин было много. Ложь эта, как и всякая другая клевета, легко произрастающая вокруг большой личности, вскоре рассеялась, а память народная о замечательном полководце времён Великой Отечественной войны живёт и будет жить вечно в сердцах благодарных людей нашего Отечества.
Нынешние поколения офицеров изучают военную историю по книгам, которые составлялись жалким вралём и прислужником сионизма Волкогоновым, но учебники истории имеют такую особенность: их переписывают. И теперь недалеко время, когда военные историки расскажут о годах министра Малиновского как о времени, когда могущество Советской Армии прирастало не по дням, а по часам, когда на смену винтовым самолётам приходили стратегические ракетоносцы, способные силами одной эскадрильи смахнуть с лица земли Англию или целое побережье Америки. То было время строительства авианосцев и атомных подводных лодок, самых лучших в мире танков и самоходных пушек. Это потом уж пришли к власти вначале улыбчивый маршал Шапошников, разграбивший Аэрофлот, похожий на испуганного филина генерал Грачёв с кругозором ротного каптенармуса, а затем податливый, робеющий перед каждым политиком генерал Сергеев… Эти жалкие марионетки одно только и сумели: распродать боевые корабли, распустить полки и дивизии – унизить и опозорить армию.
Я всего лишь один раз встретился с маршалом Малиновским, и была эта встреча короткой, но именно он широким жестом подвинул меня к новой жизни, где я обрёл уверенность и силы для писания книг.
Родион Яковлевич долго смотрел в окно, а затем, словно очнувшись от каких-то дум, вновь обратился ко мне:
– А в армию, если надумаете, возвращайтесь. Идите в управление кадров и скажите, что я лично вас пригласил. Потом ко мне зайдёте, и мы решим, где вам служить.
– Благодарю вас, товарищ маршал, я подумаю.
По тропинке из сада затрусил Красовский. И когда он вошёл, они обнялись, крепко по-мужски трясли друг другу руки. Я понял, что буду лишний, и потихоньку вышел в сад. Побродил там несколько минут, и оттуда так, чтобы остаться незамеченным, пошёл на электричку.
Мог бы я, конечно, и побыть с ними, закрепить знакомство с таким важным человеком. Маршал Советского Союза Малиновский был в то время не только министром Вооружённых Сил, но и в партийной иерархии занимал одно из первых мест, был членом Политбюро, но мне не хотелось попасть в положение человека, которого присутствие нежелательно и может стеснить их дружескую встречу.
По дороге думал: может, и вправду написать рапорт? Тогда и партийное дело автоматически решится.
При следующей встрече с Красовским сказал ему о предложении, сделанном мне министром. И тут же оговорился:
– Да вот беда: партийные дела у меня не в порядке.
– Как не в порядке?
Я рассказал Степану Акимовичу свою печальную историю. А он тут же позвонил в ЦК. И я слышал его разговор:
– Владимир Ильич? У меня дельце к вам небольшое…
И рассказал обо мне. А когда закончил, положил трубку.
– Завтра пойдёте в ЦК к Степакову Владимиру Ильичу.
И вот я у Степакова. Был он тогда очень большим человеком в нашей партии, – кажется, заведовал отделом пропаганды. Затем сразу после отстранения Хрущёва от власти и объявления его зятя Аджубея политическим авантюристом Степакова на короткое время назначат главным редактором «Известий». Я в то время там работал и мог видеть, какой это порядочный и честный человек с чисто русским характером и русским взглядом на жизнь. Затем его пошлют в Китай послом, а оттуда и вовсе куда-то задвинут. Слабый умом и волей Брежнев, однако, нашёл в себе силы продолжить политику Хрущёва на уничтожение православных храмов, увеличение производства спиртного и на вытеснение русских со всех ключевых постов.
Тихое «подпиливание» всех основ русского государства продолжалось. Кремлёвские кабинеты всё шире раскрывались перед лицами со страшной печатью «пятого» параграфа.
Степаков внимательно выслушал меня и предложил:
– Идите в райком партии, там ваше дело уладят.
И вот я в кабинете у того же секретаря райкома Корчагина. У него на столе лежал мой партийный билет. Подавая его, он сказал:
– Будем считать, что никакого исключения из партии не было. Вышло недоразумение. Ваш стаж продолжается с 1943 года.
Я взял партийный билет и, ничего не сказав Корчагину, а лишь многозначительно посмотрев на него, вышел из кабинета. Так неожиданно и счастливо завершилась моя партийная эпопея.
Корчагин меня запомнил. Много лет спустя, когда в центральных газетах появятся статьи, называющие мой роман «Подземный меридиан» хунвейбинским, то есть ссорящим рабочий класс с интеллигенцией, Корчагин прочтёт роман и затем выступит на партийной конференции с грубой критикой в мой адрес. И будто бы даже намекнул на какие-то «тёмные делишки», которые тянутся за мной со времени «тесного общения» с Василием Сталиным.
Вот тот нередко случавшийся в моей жизни факт, когда человек неизвестно за что начинал меня ненавидеть. Да, в романе я показал неприглядное лицо некоторых «интеллигентов» – учёного Каирова, эксплуатирующего труд других учёных, помощника министра Соловья, плетущего интриги за спиной своего шефа, журналистов… Все они имели ярко выраженную национальную психологию, то есть были евреи, и можно понять критиков, обрушивших на меня свой святой гнев, они-то все тоже «были коганы», но Корчагин!.. Он человек русский, не мог не знать козни еврейской «интеллигенции», знал, и… защищал.
Как правило, так поступали «евреи по жене», то есть русские мужики, женившиеся на еврейках, от них я в жизни своей натерпелся немало, – вот и Корчагин из той же породы тайных предателей интересов русского народа.
Однако жизнь моя с возвращением мне партийного билета покатилась веселее, главное – я обрёл свободу. В то время мы ещё не ощущали той общей беды, которая подстерегала наше государство; никто не мог поверить, что Союз Советских Социалистических Республик – Россию, названную корявой аббревиатурой СССР, смогут развалить три ничтожнейших человека, как это потом случилось в Беловежской Пуще. Никакой силы и доблести от этих подвыпивших людей не потребовалось: на всех командных высотах в государстве уже сидели «агенты влияния», Корчагины, кипевшие ненавистью ко всему русскому. Им был подан знак, и они победно вострубили гибель самого могучего в мировой истории государства. Гордый красавец славянин, мчавшийся на всех парусах к воротам, чтобы забить свой решающий гол, получив подножку, рухнул. Началась наша жизнь в оккупации. Но тогда… я был слеп и потому беспечно весел. Поехал в Машино к Самсонову, привёз ему много конфет, копчёной колбасы и печенья; рассказал о своей радости, и мы оба были счастливы. Я пришёл к Устинову и доложил ему о своём втором рождении и о том, между прочим, что сам министр обороны предложил мне вернуться в армию. Сергей Семёнович тоже был рад и пригласил меня в свою газету, которая теперь называлась «Советская авиация», на должность начальника отдела боевой подготовки. Я поблагодарил Устинова и сказал, что буду рад снова занять место в его команде. Но попросил дать мне два-три месяца для окончания работы над книгой Красовского.
Позвонил Панне, и мы с ней отметили мою радость в ресторане «Советском». И уж, конечно, больше всех радовалась Надежда. Я купил ей шубу из голубой белки и золотые часы, а для Светланы прекрасное пианино, и наняли для неё преподавательницу. Впрочем, особенно-то тратить деньги Надежда не позволила. «Мало ли что ещё будет», – предусмотрительно охладила она мой пыл. А я подумал: «А и в самом деле! Вдруг как книгу не примут – ни Красовский, ни издательство?..» От этой мысли мне стало жарко. Одно только служило утешением: аванс, полученный мною за книгу, возврату не подлежит. Я и половину из него не растратил на свои роскошества.
Работал я теперь веселее, и книга наша подвигалась. Подолгу задерживался в своей монинской квартире. Обедал в академической столовой, потом шёл гулять по городку, а иногда и уходил в соседний лес. Всюду мне встречались стайки офицеров, слушателей академии и преподавателей. Я теперь и себя видел среди них – с погонами майора. Но однажды этот образ моих мечтаний был в один момент поколеблен – и самым решительным образом: по радио услышал объявление о начале приёма заявлений и работ на творческий конкурс в Литературный институт имени Горького. В голову бросилась мысль: карьера писателя! Мне сам Бог её посылает!
В волнении я ходил по комнатам своей квартиры – думал и думал. У меня есть «Лесная повесть» – подам её на конкурс. Могу собрать и рассказы, лучшие из тех, что были напечатаны. И их предложу. Выдержу конкурс – буду учиться, а не выдержу… Значит, не судьба. Пойду в армию всю жизнь тянуть лямку. Журналистам генерала не дают, а до полковника дослужусь.
Лёг в постель. Не спалось. Встал, согрел чаю, сидел за столом, думал. Мечта о писательстве снова вспрыгнула в голову, и я уже не мог ни о чём другом помышлять. Перспектива журналиста, пусть даже сильного, опытного и даже яркого, представлялась жалкой и убогой. Я пишу очерки, иногда рассказы – они словно бабочки пролетают перед глазами и живут один день. Другое дело – книга! Её купили, читают всей семьёй, положили на полку и затем говорят: а у меня есть книга такого-то. Очень интересная. Советую прочесть. А если удастся написать что-либо особо значительное – тут тебе обеспечена и память многих поколений, а после смерти могут и доску мраморную на стене дома укрепить. Дескать, здесь жил и творил…
Далеко шла фантазия. Институт представлялся трамплином, с которого полечу в литературу и даже в вечность.
Разговоры об опасностях закрепляющейся над нами еврейской оккупации воспринимались как фантазии неврастеников, я их быстро забывал.
Говорили отовсюду, да и сейчас я нередко слышу: «Прост ты, Иван. А простота-то хуже воровства». Может, и есть во мне такое свойство характера, да не совсем это верно. И раньше, бывало, хитрил и лукавил, – вот и с институтом: уж как хотелось рассказать Надежде о своих планах, а ведь утаил. Даже вида не подал, что что-то в моей жизни происходит важное. Боялся неудачи: вдруг как повесть творческого конкурса не выдержит, а то экзамены не сдам. Они хотя и казались нетрудными: сочинение на вольную тему да собеседование с членами мандатной комиссии… Однако, кто знает, как дело повернётся?.. Красней тогда перед Надеждой, казнись всю жизнь. Ну, нет! Лучше уж я пройду все тернии, а потом видно будет.
Тайком заложил в портфель папку с повестью, утром вместе с Надеждой нырнул по эскалатору в метро. На прощание сказал:
– У меня сейчас трудная полоса началась, – возможно, реже буду приезжать домой; ты уж не беспокойся.
– Пиши уж свою книгу! Как тебе удобно, так и распределяй время. У нас-то всё в порядке. Леночка, правда, всё чаще сердце чувствует, да тут уж… Сказал же нам врач: пусть подрастёт немного, а там на операцию положим. Операция несложная, хирурги наши научились её делать. Так что – работай. Но особенно-то не рвись.
Приехал на остановку «Маяковская», отсюда пешком до площади Пушкина. Постоял у пьедестала великого поэта, смотрел ему в лицо, а он, склонившись, смотрел на меня. И между нами будто бы произошёл такой диалог:
– Ты, Александр, никаких институтов не кончал, а вон как высоко взлетел! Талант, значит.
– Ну, нет, братец, не говори так. Учился-то я зело как много, прорву книг прочитал! А уж сколько дум передумал!.. Сосчитать нельзя. Поначалу-то не знал, из каких корней черпать стиль языка родного. Ломоносова брал за образец, Державина штудировал, Жуковского за Бога почитал, а самого всё больше на базар тянуло, речь простолюдинов слушать да сказки нянюшки своей… – звуковой ряд пытался уловить. Ну, так потом и сладилось: и ряд звуковой, и манера народная сказы сказывать… – всё это взял, и пошёл я своей дорогой. Ну, вот… и пришёл сюда, на улицу Тверскую. А ты повернись назад, там и свой бульвар увидишь. Его тоже Тверским прозывают. Там дом есть под номером двадцать пять. В нём Яковлев, царский сановник жил. В доме том лицей устроили. В наше-то время поэтом родиться надо было, а теперь, говорят, и научиться можно. Там за партой в уголке на втором этаже ты и сидеть будешь. Не бойся, друг мой, иди с Богом. Я-то уж знаю: примут тебя.
Мне даже показалось, что Пушкин бронзовой рукой своей перекрестил меня.
Поклонился в пояс Славе нашей и в Тверской бульвар свернул. Тут и дом двадцать пятый из тополиного парка на меня глянул – невысокий, жёлтенького цвета, с колоннами у парадного входа.
В калитку вошёл.
Сдал документы в приёмную комиссию. Щупленькая, похожая на птичку женщина предлагала тут же что-то написать, что-то заполнить, – я быстро писал, заполнял. За столами сидели другие ребята, разные по виду, одежде, манере держаться, разговаривать. По большей части скромные и даже робкие, судя по узловатым рукам, привыкшие к труду физическому, рабочему или крестьянскому. А за столом возле женщины сидел плечистый малый, кудрявый, остроносый и нагло, пренебрежительно всех оглядывал. И что-то помечал себе в блокноте. На нём был дорогой бостоновый костюм, не первой свежести белая рубашка, а на галстуке косо и небрежно красовалась золотая заколка.
В комнату набилось много народу, тут становилось тесно, но я, уже усвоивший главную черту журналиста: всё увидеть, во всём разобраться, уходить не торопился. У двери теснились ребята, один из них, кивнув на остроносого, сказал:
– Миша Дементьев, поэт из Вологды – видите, как он впился в паренька ястребиным взглядом. И вон – сделал пометку в блокноте. Эти-то его пометки и будут решать, кому быть в институте, а кому… фьють!.. Шмаляй до дому.