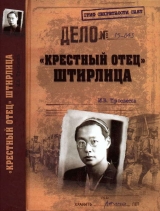
Текст книги "«Крестный отец» Штирлица"
Автор книги: Иван Просветов
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Ягода приказал Гаю облегчать шпионскую работу Кима… Говорил, что Ким прикрывает японские шпионские базы и связи на территории Советского Союза»{166}. Почему те же показания не берут у самого Ягоды – непонятно. Видимо, следователи выясняли более важные моменты контрреволюционной деятельности бывшего наркома.
9 июня гр. Ким Р.Н. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 58.6 УК РСФСР – шпионаж. В тот же день обвиняемый подписывает следующий документ: «Признаю себя виновным в том, что начиная с 1922 года по день моего ареста я, находясь на работе в ОГПУ – НКВД, был связан с японской разведкой и по ее заданию занимался активной разведывательной работой в пользу Японии. Мотоно Кинго (Ким)»{167}.
– Ну что, Роман Николаевич, раз признали, надо раскрывать свои связи. Кого из агентов японской разведки вы знаете?
Для старшего лейтенанта Верховина настал звездный час. В прямом и переносном смысле. Допрос ведется, как обычно, ночью – с 15 на 16 августа 1937 года. Верховин работает один. Минаев слишком занят, он теперь исполняющий обязанности начальника 3-го отдела ГУГБ. Прежний начальник отдела Миронов арестован два месяца тому назад (оказалось – заговорщик и шпион, и как хорошо маскировался!).
– Что молчим? Ощепков вам известен? – Да.
– Кто такой Ощепков?
– Когда мы познакомились, он преподавал японский язык в Институте востоковедения и работал в Центральном институте физкультуры. Василий Сергеевич учился в Токио в русской духовной семинарии. Во время японской интервенции на Дальнем Востоке был переводчиком на Сахалине. Со слов япониста Юркевича знаю, что он как будто работал в Разведупре. Юркевич нас и познакомил, по моей просьбе. Кажется, в 1929 году. Я в то время интересовался системой «джиу-джитсу». В последующем у меня изредка бывали встречи с ним на той же базе. Но в последние три года я Ощепкова не видел. И… по разведывательной линии с ним связи не имел.
– Ощепков – японский шпион! Вы не могли о нем не слышать! Например, от военного атташе Хата!
– Хата не говорил, получает ли японская разведка какие-либо материалы от Ощепкова.
– Так и запишем: «Об Ощепкове как об агенте японской разведки я узнал со слов военного атташе Хата». А еще вы наверняка знали, что Ощепков учился в Токио вместе с Юхаси. Знаете Юхаси? Конечно, знаете, он же из разведслужбы японского Генштаба! Значит, знаете и то, что Юхаси привлек Ощепкова к разведывательной работе, когда служил в японском консульстве во Владивостоке. И поддерживал с ним связь, когда стал драгоманом японского посольства в Москве. Записано. Теперь перейдем к Юркевичу. Кем он был завербован?
– Не знаю.
– Говорите, что знаете.
– Мы знакомы по Владивостокскому Восточному институту. Юркевич был связан с подпольным работником Фортунатовым, задания которого выполнял. Это мне говорил сам Юркевич. Позднее я с Юркевичем встречался в Москве…
– …и установил с ним связь на разведывательной основе. Теперь ясно{168}.[31]31
Василий Ощепков – в 1907–1913 годах учился в русской семинарии в Токио, обучался дзюдо в школе Кодокан; до 1920 года жил во Владивостоке, служил военным переводчиком; завербован представителем Разведупра РККА, выполнял задания на Сахалине под видом кинопрокатчика, под тем же прикрытием в 1924–1926 годах работал в Токио (первый резидент советской разведки в Японии); с 1929 года в Москве, преподает дзюдо в Государственном центральном институте физической культуры и разрабатывает основы борьбы вольного стиля, впоследствии названной самбо; 1 октября 1937 года арестован, умер в тюрьме от приступа стенокардии 10 октября 1937 года. Трофим Юркевич – в 1923–1929 годах преподавал японский язык в Государственном Дальневосточном университете, в 1930–1933 годах в Московском институте востоковедения; по возвращении во Владивосток был арестован по подозрению в шпионаже, но отпущен и вновь принят преподавателем ГДУ; в 1937 году снова приехал в Москву, арестован 21 марта 1938 года. Драгоман японского посольства Юхаси упоминается во многих протоколах допросов 1937 года как установленный сотрудник японской разведки, сам факт знакомства с ним считается достаточным для изобличения в шпионаже в пользу Японии (см.: Куланов А.Е. В тени Восходящего солнца. М, 2014. С. 342).
[Закрыть]
Верховину удалось составить обширный список шпионов и предателей. В нем оказались: бывший резидент ИНО в Харбине Иван Перекрест («лично не был знаком, о работе на японцев сделал вывод из беседы с Ямаока»), профессор Невский («лично мне неизвестен», «Хата сообщил, что Невский и его жена прикрывают японскую резидентуру в г. Ленинграде, каков состав – мне неизвестно»), профессор Мацокин («со слов Кавабэ, на связи с японцами с дореволюционных лет»), переводчик советского полпредства в Японии Лейферт («должен вести разведывательную работу по моему указанию, но не вышел на связь»), корреспондент ТАСС в Японии Наги («связник, возможно резидент»), бывший сотрудник Исполкома Коминтерна Цой-Шену («агент»), бывший сотрудник НКИД Вознесенский («в 1923–1926 годах систематически встречался с Отаке»), бывший сотрудник советского военного атташата в Японии Смагин («связан с японским Генштабом, Хата периодически встречался с ним как работником Наркомата обороны»), корреспондент «Бомбей Дейли Ньюс» Азис-Азад («агент Особого отдела НКВД для связи в военное время», одновременно «привлечен к разведывательной работе бывшим атташе Кавабэ»), корреспондент австрийской газеты «Нойе Фрейе Пресс» Бассехес («резидент на случай военного времени»). Еще Ким припомнил агента Бремана, связанного с японским корреспондентом Маруямой, и секретаря артиллерийской академии в Ленинграде, завербованного тем же Маруямой[32]32
Список, составленный Верховиным, удивляет хаотичностью, несмотря на привязки к Японии. Компромат собирался не только на лиц, уже находившихся под следствием, но и тех людей, решение об аресте которых будет принято много месяцев спустя. Иван Иванов-Перекрест – резидент ИНО ОГПУ в Харбине во второй половине 1920-х (вербовал агентов, следил за деятельностью японской военной миссии в Маньчжурии, по приезде в СССР в начале 1930-х арестован, дальнейшая судьба неясна); Николай Невский – крупный востоковед, специалист по языкам Восточной Азии (в 1915–1929 годах жил и работал в Японии, вернулся в СССР, преподавал в нескольких ленинградских вузах, арестован 3 октября 1937 года, спустя три недели расстрелян); Николай Мацокин – японист (преподавал в Дальневосточном университете и Московском институте востоковедения, сотрудник ИНО ОГПУ со второй половины 1920-х, арестован в июле 1937 года, расстрелян 8 октября 1937 года); Андрей Лейферт – японист (учился в ДВГУ и Ленинградском восточном институте, работал в полпредстве в Японии в 1928–1930 годах, составил первый советский учебный словарь японских иероглифов, служил в Разведупре РККА, арестован 27 июля 1937 года, расстрелян 9 октября 1937 года); Алексей Наги – журналист (с 1931 года заведующий корпунктом ТАСС в Токио, секретарь парторганизации советской колонии в Японии, в ноябре 1937 года отозван в СССР для партийной проверки, арестован 27 апреля 1938 года, расстрелян 7 сентября 1938 года); Василий Цой-Шену – корейский коммунист (сражался в партизанских отрядах в Приморье, член корейской секции ИККИ, с 1931 года профессор Коммунистического университета трудящихся Востока, арестован 26 августа 1937 года, расстрелян 22 ноября 1937 года); Арсений Вознесенский – востоковед (первый советский полпред в Китае, работал корреспондентом ТАСС в Японии, в 1930-х годах заместитель директора Московского института востоковедения, арестован 31 мая 1937 года, расстрелян 25 декабря 193 7 года); Василий Смагин – полковник РККА (в Разведупре РККА с 1926 года, помощник военного атташе СССР в Японии в 1926–1930 годах, преподаватель Военной академии им. Фрунзе с 1935 года, арестован 16 декабря 1937 года, расстрелян 26 августа 1938 года). Из «ряда вон выходят» корреспондент Азис-Азад и Николай Бассехес – австрийский журналист, сочинявший критические статьи о советской политической жизни и экономике и высланный из СССР в июне 1937 года. При этом Кима не спрашивали о писателе Борисе Пильняке, уже находившемся под наблюдением НКВД (арестован 28 октября 1937 года).
[Закрыть].
– Почему же у вас были настолько доверительные отношения с атташе Хата и Кавабэ, что они раскрывали перед вами засекреченных агентов?
– Я являюсь кадровым работником особой службы японского Генерального штаба и имею чин подполковника…
Ким понимает, что бредит наяву, пытаясь опровергнуть окружающий бред, но лишь подпитывает его.
– Раз так, вы должны были знать о создании японской агентуры на Забайкальской, Томской и Омской железных дорогах, а также агентуры на судостроительном заводе в городе Николаев, связь с которой японцы держали через директора Одесского музея Костенко. Знали? Не увиливайте, бесполезно. Ведь все известно, все уже в протоколе. Подписывайте.
«С моих слов записано правильно. Мотоно (Ким)».
Понимал ли Ким, что вносит вклад в приговор своим знакомым и лично не знакомым, но явно не виновным людям? Думаю, да. А может, он подписывался ложным именем в надежде, что когда дело дойдет до суда, пирамида выдуманных показаний рухнет. Не может же безумие длиться бесконечно? Во Внутренней тюрьме НКВД он содержался в одиночной камере и не представлял, что творится снаружи. Или догадывался, памятуя о прошлых арестах и процессах?
«Целый ряд лиц из числа антисоветского продажного отребья, привлеченных к суду в 1936–1937 гг. за шпионаж и диверсию по заданиям японцев, оказался старыми японскими разведчиками, завербованными еще в годы интервенции, – разъясняла ситуацию “Правда”, главная газета СССР. – Японская разведка всячески поощряла возможно более глубокую маскировку своих шпионов… В течение 10–15 лет эти гады смирно сидели в своих норах, выжидая инструкций от своих хозяев… Ряд шпионских дел говорит о том, что среди массы завербованных шпионов японская разведка выделяет определенную категорию особо доверенных агентов, которые на протяжении многих лет систематически были связаны с закордонным разведывательным центром. Этим агентам или “резидентам” японской разведки поручались не только сбор шпионских сведений и устройство диверсионных актов, но и вербовка новых шпионов… За последнее время изрядное количество чрезвычайно тонко замаскированных японских шпионов выловлено и разоблачено… Характерный случай, имевший место в Ленинграде: в 1936 г. там был разоблачен как разведчик пожилой японец – “рабочий”, прибывший в Ленинград и осевший там по заданию Генштаба еще в 1916 г. 20 лет сидел шпион на одном месте. К нему привыкли все окружающие, считали его “своим парнем”, посвящали его в государственные тайны. Из 20 лет, проведенных им в Ленинграде, шпион А. большую часть времени не вел активной шпионской работы. В 1934 г. он получил даже от своих хозяев специальное предписание прекратить всякую шпионскую деятельность: японская разведка берегла этого агента для чрезвычайно ответственных диверсионных поручений, которые он должен был начать выполнять во время войны Япония с СССР…»{169}
* * *
Марианну Цын впервые вызвали на допрос 14 июня 1937 года. Следователь Верховин был спокоен и вежлив.
– С кем из проживающих в СССР японцев вы встречались?
Марианна рассказала о знакомстве с Маруямой (он все еще работал корреспондентом в Москве). Затем о встрече с Отакэ в его последний приезд в Москву и бывшим коммерческим атташе Каватани на художественной выставке, где она побывала вместе с мужем.
– В составе японской колонии в Москве у вас были связи?
Марианна назвала Хидзикату и Секи Сано. – Я всегда бывала в их обществе только в присутствии Кима…
Припомнила, как в 1927 году по поручению ВОКС (Всесоюзного общества культурной связи с заграницей) была гидом левого писателя Акиты, приглашенного в Москву на празднование десятилетия Октябрьской революции. Еще упомянула о давнем случайном знакомстве (услышала японскую речь в кинотеатре) с двумя студентами из Коммунистического университета трудящихся Китая – они обещали ей помочь трудоустроиться переводчицей японского языка, но разыскать их в университете не удалось{170}.[33]33
КУТК – учебное заведение Коминтерна, работавшее в Москве в 1926–1930 годах; помимо языков, политэкономии, основ марксизма и ленинизма там преподавали и военное дело.
[Закрыть]
– Только позднее я догадалась о секретности этого учреждения…
Старший лейтенант Верховин не пытался вытянуть из Марианны показания против мужа – Ким и так во всем признался. Не требовал признаний в собственной шпионской деятельности – участь подследственной уже была предрешена. Он дал ей передышку и быстро подготовил постановление: «Цын М.С. следствием изобличается в том, что оказывала содействие своему мужу Киму Р.Н. в разведывательной работе в пользу Японии… Привлечь в качестве обвиняемой по ст. 58 п. 6 УК РСФСР». Заверив документ у начальника 7-го отделения 3-го отдела ГУГБ капитана Соколова и помощника начальника 3-го отдела капитана Найдича, он в тот же день продолжил допрос. В дополнительном протоколе записан один-единственный вопрос.
– Вам предъявляется обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 58 п. 6, то есть в том, что вы оказывали содействие Киму Роману Николаевичу в шпионаже в пользу Японии. Признаете ли вы себя в этом виновной?
– Виновной себя не признаю. Я не только не помогала ему в разведывательной работе, но даже не знала о его причастности к каким-либо иностранным разведывательным организациям{171}.
Марианну Цын переводят в Бутырскую тюрьму. 26 июля Верховин подписал у замнаркома Фриновского ходатайство о продлении следствия в связи «с выявленными новыми обстоятельствами в отношении арестованной». Это была лишь формальная формулировка. Следующий допрос состоялся ровно через месяц и вел его сержант госбезопасности Мальцев. Он расспросил Марианну об отце – Самуиле Матвеевиче, о начале службы переводчиком в ОПТУ, браке с Кимом и фактах знакомства с агентами, которых контролировал Ким{172}.
28 августа сержант Мальцев составил обвинительное заключение. Оно полностью построено на показаниях подследственной, каждый факт истолкован как признак преступления. «Еще до поступления в ОГПУ – НКВД Цын имела обширные связи среди японцев, занимавшихся шпионской деятельностью». Доказательство? «В 1925 году в г. Чите познакомилась с корреспондентом японской газеты Маруяма, установленным разведчиком…» «Встретив двух студентов КУТК'а, приняв этих китайцев за японцев, проявила инициативу к сближению. Позднее, несмотря на прямое нежелание новых знакомых встречаться… энергично принимала ряд мер к сближению… Находясь на работе в аппарате ОГПУ – НКВД, Цын самостоятельно и через своего мужа Кима Р.Н. заводила новые знакомства с японцами (Каватани, Отаке, Хиджиката, Секи Сано, Акита)…»{173}.
Не важно, что Отакэ переводил на японский сочинения Ленина, Акита симпатизировал СССР, а Хидзиката и Сано считались левыми театральными режиссерами. Коварству японских шпионов нет предела. Недаром «Правда» писала: «Агенты, проникающие в СССР под различными безобидными вывесками – рабочих-эмигрантов, цирковых артистов, “левых” интеллигентов (режиссеров, литераторов и т.д.), – принадлежат к категории специально натренированных разведчиков-профессионалов». Хидзиката и Сано, как ни цинично это звучит, повезло – как подозрительные лица они были «выдворены из СССР» во Францию. Но их коллегу по цеху, режиссера Ленинградского театра им. Радлова Хаттори Санджи в мае 1937 года расстреляли как шпиона.
«Цын, заведомо зная, что Ким своими преступными отношениями с отдельными негласными сотрудниками НКВД, выразившимися в переходе с агентурой на короткую ногу, установлении интимных отношений с женской агентурой, не только не принимала мер к пресечению таких явлений, а наоборот всячески содействовала в этом Киму: Цын принимала агентов в качестве своих гостей, – записал Мальцев. – На основании вышеизложенного обвиняется в том, что на протяжении ряда лет систематически поддерживала связь с японцами, подозреваемыми в шпионской деятельности. Являлась женой крупного японского шпиона Кима Р.Н. и содействовала ему в его предательской деятельности. Дело направить на рассмотрение Особого совещания НКВД СССР».
Начальник контрразведки комиссар госбезопасности 3-го ранга Минаев поставил на документе визу: «Утверждаю».
* * *
21 августа 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила к расстрелу бывшего замначальника контрразведки Михаила Горба – он был арестован как участник антисоветского заговора спустя три недели после того, как приходил за Кимом.
На следующий день «раскололся» майор Николаев-Рамберг, арестованный еще в апреле. Допрос вел капитан госбезопасности Григорьев, заместитель начальника 3-го отдела – человек конкретный и хорошо знающий дело (под началом Минаева в УНКВД Сталинградской области он руководил местной контрразведкой и был рекомендован к переводу в центральный аппарат НКВД).
Израиль Николаев-Рамберг, служивший в ВЧК с 1919 года и в восточном отделе ОПТУ с 1923 года, рассказал, что является убежденным троцкистом и лишь прикрывался партийным билетом. В 1933 году встал на путь абсолютной пассивности в работе и разложения. Начал пьянствовать на средства, отпускаемые на оперативные расходы, получал подарки от агентуры. По рекомендации Романа Кима завербовал корреспондента «Симбун Ренго» Оокату, и в конце 1935 года сам был завербован Оокатой, от которого и узнал, что Ким – японский разведчик. Оокате он сообщил структуру НКВД, методику контрразведывательной работы и сдал агентов НКВД по японской линии. По заданию Оокаты тормозил работу по японской линии и подчинил Киму работу по японскому посольству – так, чтобы под контролем Кима оказался весь японский сектор. Но перед ним как японский агент не раскрывался и предпочитал вести предательскую работу вне связи с Кимом{174}.
9 сентября Григорьев допросил Кима. Спрашивал о том, каких секретных агентов Ким намеренно провалил перед японцами, а какие уже были завербованы японцами, когда он принял агентурную сеть. Составил список: от некоей Чмуль, квартирохозяйки помощника военного атташе Ямаоки, до агента «Тверского», о двойной роли которого Киму сообщил Хата. Записал признание: «зная, что они являются двойными агентами, не предпринял никаких мер к удалению их из сетей». Кого именно из проваленной агентуры перевербовали японцы – Ким затруднился сказать, но согласился, что вся «указанная мною агентура на протяжении длительного периода “благополучно” работала или имела отношение к японцам»{175}.
Протокол допроса от 9 сентября – последний в следственном деле, подписанный Кимом и датированный 1937 годом.
Его бывший шеф по 6-му отделению Николаев-Рамберг был расстрелян 20 сентября 1937 года. 16 сентября Особое совещание при НКВД СССР приговорило Марианну Цын к заключению в исправительно-трудовом лагере сроком на восемь лет. Перед отправкой по этапу ей сообщили, что ее муж Роман Ким «получил высшую меру наказания»{176}.
На самом деле Роман Николаевич был жив и даже не осужден.
Глава 7.
З/К ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«Там я по счету девять все-таки встал…» Вот так лаконично, в письме другу, Роман Николаевич Ким однажды припомнил 1937 год{177}.
«С сентября 1937 года и до настоящего времени используется органами НКГБ СССР на специальной работе, которая оценивается весьма положительно», – говорится в заключении по следственному делу Кима, составленном в августе 1945 года. Сочиняя заявление замнаркому Фриновскому, Ким попросил «до суда дать мне возможность быть полезным – работать над японскими документами 3-го отдела и особенно 7-го (ИНО)», и на доследовании в 1945 году он упомянул, что до сентября 1937-го между допросами «выполнял ряд экспертиз и делал переводы японских документов»{178}.
Что произошло в том самом сентябре – загадка. Оставить «японского шпиона» в живых и на специальной работе могли только по распоряжению Ежова и с одобрения Сталина.
* * *
Очевидно, Кима спасло блестящее знание японского языка и специфики получения и анализа информации по японской линии.
Не исключено, именно он переводил «полученный нами агентурным путем японский документальный материал – доклад бывшего помощника японского военного атташе в Москве капитана Коотани “Внутреннее положение СССР (Анализ дела Тухачевского)”, сделанный им на заседании японской дипломатической ассоциации в июле 1937 года» (сообщение Ежова Сталину от 10.12.1937). Дело Тухачевского, объяснял Коотани, – очередное проявление политической чистки, начатой Сталиным несколькими годами ранее и пронизавшей всю страну. Сталину нужно беспрекословное повиновение для проведения в жизнь своих планов. Чистка углубляет взаимную подозрительность в руководящей прослойке советских органов и среди комсостава Красной армии, как следствие – репрессии продолжаются. «Все это наносит вред духовной спаянности народа, и не подлежит никакому сомнению, что с точки зрения синтетической оборонной мощи или государственной обороны в широком понимании моральная слабость СССР будет все больше сказываться. Нужно, однако, иметь в виду, что диктатура Сталина необычайно сильна и что нынешний процесс проведен для усиления диктатуры Сталина, то есть процесс как таковой является успехом…»{179}
Даже если Роман Николаевич не видел этого документа и перевод был сделан силами ИНО (он заверен подписью начальника 7-го отдела ГУГБ Слуцкого), между Кимом и докладом в Токио есть иная, более весомая связь. Капитан Коотани Эцуо служил в Москве с марта 1935 года по апрель 1937 года. Он был последним представителем военного атташата, дававшим поручения мнимому источнику в РККА и получавшим информацию через агента «Тверского». Канал перекрылся с началом арестов в ГУГБ. Но исчезновение агента, похоже, лишь укрепило японцев во мнении, что сведения поступали верные. Описывая рост военной мощи СССР, Коотани использовал «данные, которые имелись в моем распоряжении к моменту моего отъезда из Москвы». Согласно двухлетнему плану расширения вооружений численность Красной армии к началу 1939 года будет доведена до 1 800 000 человек (в том числе 100 пехотных дивизий и 37 кавалерийских дивизий), количество мотомеханизированных корпусов – до 10, авиабригад – до 60.
А данные были основательно неверны. Авиабригад к 1939 году предполагалось создать 132, танковых корпусов – 20 (впоследствии число снижено до 16 «ввиду недостатка материальной части»). Количество кавалерийских дивизий – сократить до 25, а стрелковых – нарастить до 96, при общей численности кадрового состава РККА в 1 665 790 человек{180}. Дезинформационный канал, налаженный при участии Кима, выполнял свои задачи до момента внезапной ликвидации.
* * *
«В течение всего 1938 года я не допрашивался, а все время выполнял специальные работы по линии японского отделения», – рассказывал Ким на доследовании в 1945 году{181}.
Поразительно, но на него продолжали собирать обличающие материалы, и в прежнем разрезе – японский шпион. В октябре 1937 года арестованный юрисконсульт «Востокстали» Александр Мартынов сознался, что завербован в начале 1930-х во Владивостоке резидентом японской разведки по фамилии Ней, и узнал от него, что проживающий в Москве Роман Ким – шпион, имеющий «на связи шпионскую сетку»{182}. В марте 1938 года арестованный сотрудник Разведывательного управления РККА Воронинов, начинавший службу в КРО ОГПУ, показал: в ноябре 1923 года он был завербован представителем японской разведки Романом Кимом. Ким «дал ему указания работать в ОГПУ так, чтобы быть на хорошем счету, заявив, что он, Воронинов, предназначается для особой роли в запасную сеть, которая будет действовать только в момент войны»{183}. В том же марте бывший преподаватель Дальневосточного университета Трофим Юркевич, «изобличенный в шпионаже в пользу Японии», признался: в получении сведений по шпионским заданиям ему помогали Роман Ким и Марианна Цын, у которых он неоднократно «бывал на квартире»{184}.
7 июля 1938 года арестованный начальник рисового управления ростовского ОблЗУ Василий Когай, кореец по национальности, на допросе показал: с резидентом японской разведки Ким Р.Н. он познакомился в 1928 году в Москве, когда поступил во Всесоюзную академию соцземледелия. В апреле 1929-го получил от Кима задание под предлогом изучения сельскохозяйственных земель выехать в Казахстан для налаживания контрреволюционной работы и подготовки повстанческих кадров. А в Ростове-на-Дону он, также по заданию Кима, собирал сведения об экономике края, расположении предприятий оборонного значения и дислокации частей РККА{185}.
5 августа 193 8 года бывший начальник резервов УНКВД Московской области капитан госбезопасности Иван Чибисов признался: «я также подозреваю в связях с японцами Ким Р.Н.». И это заявил опытнейший контрразведчик, один из организаторов операции «Мечтатели»!{186}.[34]34
Иван Чибисов до 1923 года служил заместителем полномочного представителя ГПУ по Дальнему Востоку, затем участвовал в создании 5-го (восточного) отделения КРО ОПТУ. Награжден орденом Красного Знамени, знаком «Почетный работник ВЧК – ГПУ 1917–1922» за № 271. Курировал работу КРО по линии японского посольства и атташата В 1932 году был назначен заместителем начальника, затем начальником Особого отдела полномочного представительства ОПТУ в Восточно-Сибирском крае. «Особенно его [Чибисова] увлекали комбинированные смелые разработки по японским разведывательным органам. В этой области, будучи заместителем начальника одного из отделений КРО, он достиг значительных успехов, – вспоминал разведчик Борис Гудзь. – Когда я изложил ему свои соображения по операции “Мечтатели”, то он с воодушевлением поддержал их. Чибисов был настоящий мастер агентурных комбинаций» (Гбунов Е.А. Схватка с Черным Драконом. М., 2002. С. 178–179,181). Арестован в 1938 году, приговорен к высшей мере наказания.
[Закрыть]
В следственном деле Кима подшита записка тюремного стукача от 15 декабря 1938 года: «Мне известно из разсказа ар. Именитова М.С. в камере Внутренней тюрьмы НКВД от 3.IX до 15.IX. 1938 с которым я находился вместе в камере в отношении арестованного бывшего сотрудника НКВД Ким следующее: Ким в разговорах с Именитовым неоднократно выражал чувства глубокой ненависти в отношении народного комиссара гр. Ежова… Считал что по вине народного комиссара было разгромлено японское отделение НКВД, так что теперь Советский Союз остался без контрразведки в отношении Японии… Так как ему была дана возможность работать, будучи в тюрьме, он часто возвращаясь с работы в камере разсказывал о том что он делал… Разсказал что в иностранной печати, которой он имел обязанность разработать, он читал статью Керенского против народного комиссара… Неоднократно с Именитовым говорил о Борис Савинковым, который он очень хвалил и в котором видел личность очень подходящей в нашем времени…» (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Позднее Ким дал разъяснения на этот донос: в конце 1937 года он сидел в общей камере, и в числе его сокамерников был некто Именитов. Но Ким настаивал, что никому не говорил о своей работе «наверху», тем более «о содержании документов, которые мне, несмотря на мое положение арестованного, давали прорабатывать». «Говорил только, что хожу наверх на положении “временно используемого” для сдачи своих дел». Статья Керенского – выдумка, а обсуждение Савинкова – нет. «Я рассказал в камере о судебном процессе над ним в Ленинграде. Я, возможно, сказал тогда, что Савинков вел себя на суде очень хорошо, мужественно признав преступность всей своей предыдущей деятельности»{187}.[35]35
Борис Савинков – до 1917 года один из лидеров партии эсеров, организатор и участник ряда терактов; после Февральской революции фронтовой комиссар Временного правительства; Октябрьский переворот не принял, создал Союз защиты родины и свободы, подготовил белогвардейский мятеж в Ярославле; в эмиграции непримиримый «антисоветчик»; в августе 1924 года завлечен чекистами в СССР в ходе операции «Синдикат-2» (продолжение операции «Трест»), на суде признал свою вину и поражение в борьбе против советской власти; в мае 1925 года покончил жизнь самоубийством во Внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке.
[Закрыть]
И еще Ким признал, что отрицательно отзывался о Ежове. Этим он не мог сделать себе хуже. 9 декабря 1938 года грозного наркома внутренних дел, как сообщали газеты, освободили от обязанностей согласно его просьбе.
В личном письме Сталину Ежов каялся, что «не справился с работой такого огромного и ответственного Наркомата». В частности, «не принял должных мер чекистской предупредительности» – допустил предательство Люшкова. Бывший заместитель Секретно-политического отдела ОГПУ, начальник УНКВД Дальневосточного края Герман Люшков в июне 1938 года бежал к японцам через маньчжурскую границу. Месяц спустя он выступил в Токио на пресс-конференции, объявив на весь мир о своем побеге. Предательство высокопоставленного и много знающего чекиста шокировало советское руководство. Падение Ежова было стремительным. К этому моменту «взаимная подозрительность в руководящей прослойке» достигла того градуса, когда к стенке стали ставить верных «ежовцев». Бывшего начальника 5-го отдела ГУГБ Леплевского, участвовавшего в следствии по делу Тухачевского и затем переброшенного на транспортный отдел, расстреляли как участника антисоветского заговора 28 июля 1938 года. Спустя месяц тот же приговор вынесли бывшему начальнику 3-го отдела Льву Миронову. Его преемника Александра Минаева, успевшего поруководить еще и 8-м (промышленным) отделом ГУГБ, арестовали в ноябре 1938 года. Николай Николаев-Журид – начальник 5-го отдела с июня 1937-го, продолживший чистку комсостава Красной армии, и 3-го отдела с марта 1938-го – дотянул до октября. Правда, тут «ежовцами» занялся новый глава ГУГБ и новый человек в высших государственных сферах, выбранный Сталиным – Лаврентий Павлович Берия. С декабря 1938 года – нарком внутренних дел Союза ССР.
Самого Ежова арестуют в апреле 1939 года. На допросе он признается, что был завербован германской разведкой, а его жена – английской и помимо шпионажа организовал антисоветский заговор и готовил государственный переворот. 3 февраля 1940 года Ежова приговорят к высшей мере наказания.
* * *
Берия устранял перегибы. При нем из лагерей, после пересмотра дел, выпустили свыше 223 000 осужденных. Но Военная коллегия Верховного суда и Особое совещание при НКВД по-прежнему выносили приговоры по 58-й статье, а разведку и контрразведку продолжали трясти. Из ста сотрудников иностранного отдела ГУГБ на службе оставили не более двадцати. Многие опытные резиденты, разведчики-нелегалы и оперативные работники были расстреляны либо отправлены за решетку{188}.
«В начале войны мы испытывали острую нехватку в квалифицированных кадрах, – вспоминал Судоплатов. – Я и Эйтингон предложили, чтобы из тюрем были освобождены бывшие сотрудники разведки и госбезопасности. Циничность Берии и простота в решении людских судеб ясно проявились в его реакции на наше предложение. Берию совершенно не интересовало, виновны или невиновны те, кого мы рекомендовали для работы. Он задал один-единственный вопрос: – Вы уверены, что они нам нужны? – Совершенно уверен, – ответил я. – Тогда свяжитесь с Кобуловым, пусть освободит…»{189}
Точно так же и в 1939-м рассудительные чекисты, не попавшие под подозрение у нового руководства НКВД, пытались вытащить из тюрем бывших коллег – ценных специалистов. Ким рассказывал, как весной 1939 года начальник 2-го (японского) отделения 3-го отдела ГУГБ Александр Гузовский встретился с ним и обнадежил: «в моем деле много сомнительного и я буду вскоре передопрошен»{190}. Гузовский некогда служил вместе с Кимом в 4-м отделении Особого отдела, пережил целых две чистки – при Ежове был назначен помощником начальника 5-го отделения Особого отдела, при Берии начальником отделения в контрразведке.
4 июня замнаркома внутренних дел Меркулов утвердил постановление о продлении срока следствия по делу Кима. Ходатайство подал Гузовский, составил оперуполномоченный 2-го отделения 3-го отдела ГУГБ Дарбеев: арестованный выставил ряд фактов, опровергающих материалы, имеющиеся в следственном деле, требуется производство дополнительного расследования{191}. А ведь не так давно тот же Гузовский записывал показания коминтерновца Ким Даня в работе на японскую разведку и создании диверсионно-повстанческой корейской организации в Дальневосточном крае. Дарбеев же допрашивал Никифора Пака – корейского коммуниста, работавшего по заданиям НКВД в Шанхае и Сеуле и арестованного по обвинению в шпионаже и подготовке диверсионных актов{192}.
Теперь сержант госбезопасности Дарбеев не выжимает признания, а выясняет, задает взвешенные, уточняющие вопросы (почерк у него аккуратный, буквы округлые, сроки ровные, а у Кима – все тот же нервный автограф). Допросы 3-го, 5-го и 17 июня – о родителях, жизни во Владивостоке, учебе в Японии, возвращении в Россию, годах японской интервенции, работе в ПримГПУ, переезде в Москву и поступлении на службу в КРО. Странно, что Роман Николаевич ничего не сказал о своей подпольной работе. Но его о том и не спрашивали, а он не спешил откровенничать – зная или подозревая, что те заслуги уже некому подтвердить.
«На следствии в 1937 г. мне заявили, что я являюсь японцем, что Ким это не моя фамилия, и требовали от меня, чтобы я назвал настоящую японскую фамилию… Я пытался утверждать, что никогда японцем не был, но мои утверждения не принимались следствием во внимание…» (допрос 10 июня 1939 года). «Должен сказать, что я никогда не был завербован в японскую разведку… Данные мною показания в 1937 г. являются вымышленными, т.к. я пришел к выводу, чтобы скорее написать показания и тем самым дать возможность следствию закончить мое дело…» (допрос 22 июня 1939 года){193}.
Казалось бы, дело идет к пересмотру дела. И тут в доследовании случается разворот.
По ходу чистки дальневосточного сектора Иностранного отдела ГУГБ Михаил Добисов-Долин, бывший сотрудник Исполкома Коминтерна и резидент в Шанхае, работавший под вице-консульским прикрытием, признался: в 1925 году он установил шпионскую связь с Романом Кимом и выполнял его задания. А в середине 1930-х Ким советовал ему добиться перевода в другое подразделение ИНО – в связи с тем, что 7-й сектор целиком находится под контролем японцев, и «я как бы остаюсь лишним с точки зрения выполнения заданий японской разведки». Но получить новое назначение не удалось{194}.[36]36
Эти показания Добисов-Долин дал 20 июня 1939 года; тремя месяцами ранее он утверждал, что «никем не был завербован ни в отделе, ни на закордонной работе» и никаких японских разведчиков не знает, «кроме наших агентов, работавших в японской разведке» (там же, с. 374).
[Закрыть]
15 июля Киму устраивают очную ставку с Добисовым-Долиным. Время – 22 ч. 50 мин. Ставку проводят следователь Особого отдела лейтенант Кузовлев и старший лейтенант госбезопасности Гузовский. Добисов рассказал, как осенью 1925 года в пустой аудитории Института востоковедения у него состоялся разговор с Кимом: «Ким заявил мне, что ему известно о том, что, будучи в Китае, я связался с японской разведкой… Это было начало моей шпионской связи с Кимом». Он выполнил задание «достать материалы по Восточному отделу Коминтерна». А в 1926 году перед отъездом в Китай получил от Кима пароль для связи с японцами в Китае – открытку, разрезанную по диагонали. Эту открытку он предъявил сотруднику японского посольства в Шанхае Саваре и контактировал с ним до своего возвращения в СССР в 1931 году. После встречался с Кимом в Москве – в три-четыре приема передал списки агентуры ИНО по Китаю, Корее и Японии. А осенью 1933 года Ким явился к Добисову на квартиру вместе с сотрудником японского посольства Сато. Японец спрашивал о политике СССР в отношении Маньчжурии и о резидентурах на Дальнем Востоке, Ким переводил. Зимой 1935 года состоялась еще одна встреча с Сато: говорили о ситуации с КВЖД и арестах в связи с убийством Кирова. Наконец, в 1936 году накануне командировки в Китай от Кима было получено задание о возобновлении связей с японской разведкой.
«Вы не оговариваете Кима?» – интересуется следователь. «Не оговариваю, – отвечает Добисов, – так как никакого смысла оговаривать его у меня нет». Ким, подтвердив знакомство с Добисовым в Институте востоковедения, защищается вяло: «отрицаю», «впервые слышу», «говорит неправду». «Встречался только в ИНО, т.к. Добисов работал в 7 секторе, куда я заходил по делам службы. Больше я нигде с ним встреч не имел…» Пытаясь уличить визави во лжи, Роман Николаевич спрашивает, как он был одет, когда якобы приходил к нему вместе с Сато. Но не говорит в свое оправдание, что поручать «достать материалы Коминтерна» не было смысла, так как он сам имел к ним прямой доступ. Под конец он совсем стушевался: «Имел ли я служебные встречи с Добисовым, я сейчас не помню. В основном ходил к Чибисову… Возможно, встретил там и Добисова»{195}.








