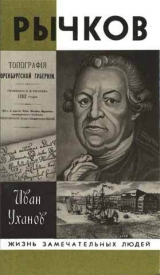
Текст книги "Рычков"
Автор книги: Иван Уханов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц)
КОСА НА КАМЕНЬ
Горьким был – расплюют,
Сладким – проглотят.
В городке Самаре, где располагалась канцелярия Оренбургской экспедиции, больше месяца ходили слухи, суды-пересуды о том, кого пришлют начальником на место Ивана Кирилова.
– Должно бы из первых помощников его. Полковника Тевкелева либо генерал-майора Соймонова.
– Первый не годится: мусульманин да и живодер лютый, деспот известный…
– Сказывали, едет к нам управитель уральских и сибирских заводов статский советник Василий Татищев. Строг, порядок во всем знает и чинит.
– А нам ведомо, будто как раз из-за содеянных им непорядков к нам его послали.
– С миллионщиком Демидовым, слышь, не поладил. Тот весь Урал захапал, заводы свои настроил, и никто ему не указ. А Татищев распорядил казенные заводы умножать, ну и поперек горла Демидову встал. Тот и упоить и укупить пробовал, да тщетно. Тогда всякими жалобами и наговорами стал его вытеснять. А Татищев-то зело порядочен, но наивен. Управу взялся на Демидова сыскать, не ведая, что у того великими взятками все высочайшее начальство в Москве и Петербурге прикормлено…
С настороженным любопытством слушал Рычков эти разговоры. Пророческими оказались. Летом у него появился новый начальник – Василий Никитич Татищев.
В молодости отважный артиллерийский офицер, Татищев впоследствии, став ученым, публицистом, просветителем, автором многих исторических трудов, случалось, рассказывал об эпизодах баталий при Нарве и Полтаве. Даже трагический момент боя, когда шведская пуля сразила его, он толковал как прекрасное мгновение своей жизни, ибо рядом сражался Петр Первый, что, взяв на себя командование отступающей дивизией, повернул ее на шведов.
– Счастлив был для меня тот день, – делился Татищев однажды в беседе с астраханскими старшинами, – когда на поле Полтавском я ранен был подле государя, который сам все распоряжал под ядрами и пулями, и когда по обыкновению своему он поцеловал меня в лоб, поздравляя за ранение ради Отечества.
В день смерти Кирилова Василий Никитич командовал правлением сибирских и уральских заводов и указ императрицы возглавить Оренбургскую экспедицию, которая стала называться комиссиею, воспринял как повеление исполнить давний замысел Петра Первого. В том указе значилось:
«Мы на ваше вечное радение и доброе искусство всемилостивейше полагаемся, и что вы в оной комиссии тщательнейшие свои труды прилагать не остановите, за что вы и о нашей к вам величайшей милости и действительном награждении всегда обнадежены быть можете, яко ж и ныне в знак того вас в наши тайные советники жалуем».
Этот указ обязывал Татищева все заводы передать в добром и порядочном состоянии, «дабы таким вашим отъездом в тамошних не меньше ж нужных делах никакого упущения происходить не могло».
Ехать в оренбургские степи Татищеву, конечно же, не особо хотелось. В Екатеринбурге он, знаток горного дела, исправно занимался им и за два с половиною года успел многое благоустроить. Как и в свое первое пребывание на Урале, он энергично поправлял наследие, оставленное ему неплохим знатоком металлургии, но слабым администратором Генниным, который в июне 1733 года не без отчаяния писал в Петербург кабинет-министру Остерману: «Припадая к ногам вашим, прошу, чтоб я отсюда был уволен, понеже мне такие великие дела одному более управлять несносно, и вижу, что я в делах оставлен и никакой помощи нет…»
Многие затруднения у Геннина происходили от незнания русского языка. К тому же оборудование, чины и должности на заводах назывались по-немецки. Русские мастера и рабочие языка немецкого не знали, тревожились, по мнению Татищева, «чтобы слава и честь отечества теми именами немецкими утеснены не были, ибо оным немцы могли себе неподлежащие в размножении заводов честь привлекать, еще ж из того и вред усмотря, что незнающие тех слов впадали в невинное преступление».
Не вынося чрезмерной иностранщины в русском обиходе, Татищев повелел на всех горных заводах Урала и Сибири пользоваться русским языком. Он считал, коль немцы желают служить в России, то и языком русским пусть овладеть стараются. Императрица Анна одобрила его предложение заменить на заводах немецкие названия русскими.
Зато обер-камергер Бирон озлобился и «не однажды говаривал, якобы Татищев главный злодей немцев». И когда Василий Никитич составил Табель горных чинов и проект горнозаводского Устава и отправил в Петербург на рассмотрение, Бирон воспрепятствовал утверждению этих крайне необходимых документов. Татищев хотел укрепить государственные заводы и усилить контроль над частными, заложить коллегиальные начала в их управлении, пресечь таким образом самоуправство и казнокрадство заводчиков и их петербургских опекунов.
Бирону не нравилось, как толково и дотошно Татищев повел дело, наводя в горных заводах порядок, укрощая уральского властелина миллионщика Акинфия Никитича Демидова, оправдывавшего свое узурпаторское своевольство тем, что «до Бога высоко, а до царя далеко».
Будучи фаворитом императрицы Анны, Бирон, по сути, стоял во главе «немецкого» правительства русских. Он вызвал из Саксонии барона Шемберга, чтобы, по словам Татищева, великий государственный доход похитить. И хотя Шемберг не имел никаких знаний и понятий о работе железных заводов, Бирон назначил его генералом берг-директором с полной властью. То есть затеяна была гнусная спекулятивная сделка по передаче казенных заводов в частные руки, благодаря чему Бирон мог бы бесконтрольно красть казну и наживаться.
Татищев разгадал замысел иностранных аферистов и письменно представил в Сенат все «худые поступки» Шемберга. Была создана следственная комиссия, которая работала не поспешая. Все же Шембергу вскоре пришлось подданные ему заводы сдать «с некоторыми темными и весьма казне убыточными договорами». Служебная честность и гражданская отвага Татищева воспрепятствовали деятельности кучки матерых казнокрадов, стоящих у трона самой императрицы. Однако ж Бирон и Шемберг за два года, по свидетельству Татищева, успели похитить более 400 тысяч рублей.
Тем не менее Бирон нисколько не пострадал, по-прежнему остался правой рукой всемогущей императрицы Анны.
Пострадал Татищев. Бирон воспылал к нему лютой ненавистью и ждал лишь случая, чтобы убрать со своей дороги. Со смертью Кирилова такой случай представился. Татищеву предложили сдать заводы и под видом царской милости направили его в Оренбургский край продолжать оставленные Кириловым дела.
Для Татищева места эти не были новыми, встречался он и с Кириловым, обсуждая способы усмирения башкирских мятежей. Несмотря на болезнь, 26 мая он выехал из Екатеринбурга и через Мензелинск, где конным, а где водным путем добрался до Самары, где находилась канцелярия Оренбургской комиссии.
По отзыву Рычкова, новый его начальник придирчиво «упражнялся в том, чтоб в совершенное об оной комиссии сведение придти». А когда ознакомился, то не возрадовался. В донесении в Петербург Татищев в те дни писал, что в комиссии «канцелярского порядка, как устав повелевает, учинено не было, протокола и журнала порядочно не содержало, списков служителям с их окладами не учинено… Счеты весьма неправильны, потому что приход и расход был в разных руках и весьма беспорядочен, чрез то учинились проронки…».
Недовольство тайного советника Татищева работой своего предшественника Петр Рычков воспринял как критику и в свой адрес. Когда же Татищев узнал, что канцелярию, обслуживающую огромный, простирающийся на 2,4 миллиона квадратных верст Оренбургский край (это в двенадцать раз больше территории сегодняшней Оренбургской области) ведет практически один Рычков, он подивился и выделил ему двоих помощников. Уже спокойным умом Татищев постиг и то обстоятельство, что канцелярские дела исполнялись подчас на ходу, в полевых условиях, штаб экспедиции нередко переселялся из-под одной крыши под другую.
Худо пришлось членам экспедиции, служившим без охоты и пользы. Уже 16 сентября 1737 года, то есть спустя два месяца после прибытия в Самару, Татищев уволил ботаника Гейнцельмана за то, что тот, не ведая русского языка, взялся составлять каталог растений, трав и кореньев на иностранных языках, готовя для русских многие неудобства в пользовании им. Иноязычие, заполнившее русскую землю, возмущало Татищева. Он даже новый город Екатеринбург называл по-своему, по-русски: Екатерининск!
Уволил Татищев и живописца Касселя, который получал огромные деньги, но за три года работы в экспедиции ничего не сделал.
Нашел Татищев немалые огрехи и у геодезистов, составлявших под руководством Кирилова ландкарты степного края. Но промашки случались, как уже сказано, больше из-за нехватки в картографии того времени должной астро-математической оснастки.
Татищев напрочь забраковал место, где был заложен Оренбург, найдя его неудобным, безлесным, вешними водами подтопляемым, не имевшим окрест плодородных земель и к тому же весьма отдаленным от построенных крепостей. Но Кирилов, вспомним, действовал в сложной, можно сказать, боевой обстановке да и градостроительного мастера не имел при себе. Притом город в устье Ори поставили по просьбе Абул-Хаир-хана, на основе его челобитной самой императрице. Кирилов, плохо знавший местность, во многом доверился природному степняку, полагая, что тому более ведомо, где удобнее строить город. Кирилов при выборе места для застройки не учел того, что степных кочевников, равнодушных к хлебопашеству, мало интересовало плодородие земель – то, что для русских поселенцев составляло первую необходимость.
В своем донесении в Кабинет министров Татищев попросил разрешения перенести Оренбург «пока еще много не построено» в лучшее, более выгодное для жительства место. Он предложил, «чтоб оный при Кирилове застроенный город именовать Орскою крепостью, а настоящий Оренбург строить по Яику-реке ниже того места сто восемьдесят четыре версты при урочище, называемом Красная гора».
При тщательной разведке нового места Татищев и его спутники полковник Тевкелев, капитан Эльтон и инженер-майор Ратибловский пришли к выводу, что к застройке города оно мало пригодно. Каменистое высокогорье было неудобно для рытья колодцев, прокладки фундаментов домов и коммуникаций, ничем не защищалось от степных суховеев. Тогда Татищев решил ставить город у подножия горы, на ровном месте, и повелел инженеру готовить проект застройки, оставив ему для охраны сто казаков и сто драгун.
На обратном пути из Орска в Самару Татищев заехал в Оренбург, куда пригласил Абул-Хаир-хана, чтобы тот публично подтвердил свое подданство Русскому государству.
В честь хана, его сыновей и свиты из пятидесяти киргиз-кайсацких старшин Татищев устроил роскошный обед.
Обменявшись приветственными речами, Татищев и Абул-Хаир-хан сели к столу. Посидев немного в благочинном молчании, Татищев напомнил хану, чтобы он верность свою русской императрице подтвердил присягою.
– Я уже присягал, – ответил хан.
– Верю. Но ни я, ни собравшиеся здесь не ведают, где сие было. Оттого и просьба к вам, доблестный хан, присягу заново надлежит учинить, – ласково и торжественно сказал Татищев.
– Я готов, – встав, сказал Абул-Хаир.
И тогда посреди шатра постлали золотой ковер и Абул, стоя с Кораном в руках, прочел присягу верности на татарском языке, которая начиналась так: « Я, киргиз-кайсацкого народа хан Абул-Хаир, обещаюсь и клянусь всемогущим богом, что хочу и должен со всем своим родом и со всей моей ордою… верным, добрым и послушным рабом и подданным быть…»
Абул-Хаир с пышным восточным красноречием возносил образ того, кому присягал, сравнивая императрицу с солнцем, которое «все прочия светила в мире превосходит», а Татищева – с луною, «приемлющей от онаго Величества луч сияния».
Хан поцеловал Коран, после чего Татищев поздравил его и подпоясал лентой с позолоченной саблей, сказав, что это оружие должно служить для защиты киргизов и русских от их общих врагов. Затем присягнули на Коране старшины и сыновья хана, Нурали и Арали. Все гости были угощены обильными мясными блюдами, пивом и торжественно провожены с подарками.
ЗАКОНЫ СВЯТЫ, НО СУДЬИ СУПОСТАТЫ
Обман и сила – вот орудья злых.
Здесь нужно, чтоб душа была тверда;
Здесь страх не должен подавать совета.
Данте
Походный быт не мешал Татищеву иметь при себе большой сундук, наполненный книгами и рукописями, и в редкие часы досуга отдаваться любимому труду – писать новые главы многотомной «Истории Российской». Петр Рычков, собирая сведения об Оренбургском крае, не упускал случая поделиться с Василием Никитичем, получить совет. Эти занятия наукой и историей сближали их больше, нежели служебные хлопоты.
– Ничего не вразумляет человека так, как история, ибо чрез нее идет понимание не токмо древней, но нынешней жизни народа. История есть наука опыта, а потому ни юрист, ни медик, ни дипломат, ни вождь не смогут успешно служить без знания истории, – рассуждал Татищев. Его огорчало, что Российское государство не имеет своей истории, а исторические сочинения иностранцев о нем – ложны.
По пути в Самару Татищев побывал почти во всех крепостях, давая команды по их укреплению и строительству новых форпостов. Много беспорядков усмотрел в жизни и службе яицких казаков. В декабре 1737 года отправил в Петербург доклад, где уведомлял: «Всего хуже то, что они никакого для суда закона и для правления устава не имеют, по своевольству, не рассуждая, что им полезно или вредно: по обычаю за бездельные дела казнят смертию, а важными пренебрегают».
Татищев предложил меры к тому, как в яицком войске «застарелые вольности и все непорядки уничтожить». Главную беду он усматривал в том, что атаман и старшины грамоты и законов не знают и потому «войсковой и другие писаря, что хотят, то пишут, отчего великие беспорядки происходят; потому не соизволено ль будет повелеть или учредить школы с объявлением, что впредь безграмотных ни в какие достоинства не производить». А чтобы пресечь стихийность и разнузданность судопроизводства атаманского круга, Татищев предлагал поделить все войско на полки и сотни, сократив число старшин, за счет чего повысить жалованье рядовым казакам, ввести устав и обучение военному делу.
Многое затевалось Татищевым в новом краю. Но с первых же дней главные усилия ему, как и Кирилову, пришлось тратить на усмирение бунтовщиков.
Василий Никитич был против карательных мер. Он призывал упреждать восстания, для чего вовремя выявлять их причины. По его мнению, башкир озлобляли не столько указы императрицы, сколько беззакония, насилия, самоуправство, чинимые на местах русскими воеводами и командирами воинских отрядов.
В письме кабинет-министрам Остерману и Черкасскому он еще в июле 1737 года писал, что уфимский воевода Шемякин творит «великие пакости», мордуя и обворовывая население, и башкирское, и русское, что полковник Бардекевич отбирал у башкир лошадей якобы для своих драгун, на деле же продавал, переправляя их в дворянские поместья. И хотя Татищев не имел власти над предводителем находящихся в крае русских войск генерал-майором Соймоновым, он послал ему весьма нелицеприятное секретное письмо. Татищев требовал приказать, «чтоб командирам до башкирских пожитков не касаться», прекратить повсеместное мародерство, поскольку в восстаниях участвует лишь часть башкир, значит, и карать всех поголовно нельзя. Татищев внушает генералу Соймонову, что безрассудные зверства, казни, грабежи не усмиряют, а ожесточают башкир да и дисциплину самого войска разлагают, когда командиры, «забыв свою должность, мечутся за пожитками; другие по окончании дела у драгун и казаков взятые (награбленные) пожитки отбирали».
По представлению Татищева, правительство предало суду уфимского полицмейстера Жукова и уфимского воеводу Шемякина, обвиняемых во взятках и насилии, чинимых башкирскому населению.
Бунтовали далеко не все башкиры, многие помогали русским охранять крепости, служили проводниками, строителями. Но немалая часть их хранила пережитки патриархально-родового быта: каждый старшина был одновременно и начальником вооруженного отряда, состоявшего из рядовых башкир: каждый воин беспрекословно исполнял волю его.
Приближалась зима, скрываться по лесам, ущельям и заимкам повстанцам становилось все труднее. Не хватало пищи, нечем было кормить лошадей. Татищев советовал прекратить преследования мятежников: голод и крайняя бедность принудят их прийти с повинною.
Действительно, в начале зимы к командирам русских крепостей десятками и сотнями стали являться башкиры, сдавали оружие, штрафных лошадей. Не сдавались, однако, вожди восстания. Они вели с Татищевым переписку, изъявляли готовность повиниться, но от личной явки отказывались. Татищев требовал именно явки и присяги на Коране, увещевая, что бояться нечего: вот, к примеру, вожди Кильмяк, Юсуп и Акай давно пленены, но не пытаны и не казнены. Ища доверия у вождей, Татищев решился даже на весьма рискованный шаг: приказал выпустить из-под стражи захваченного в плен вождя прошлого восстания Юсупа с тем, чтобы гот ехал в башкирские селения и уговаривал бунтовщиков повиниться. Агитация Юсупа для соплеменников оказалась очень влиятельной. Восстание затихло.
Однако ненадолго. Как повествует Рычков, «с начала весны башкиры хотя и казались быть спокойны… но, видя, что воинского движения противу их не учинено», опять взбунтовались повсеместно. На этот раз масло в огонь подлил, как ни странно, сам Абул-Хаир-хан, человек, еще недавно клявшийся на Коране в своем верноподданничестве русской государыне. Татищева обескуражило поведение хана, которого он прошлым летом торжественно чествовал, называя другом и братом, помощником в борьбе с мятежниками.
Что же сделал Абул-Хаир-хан?
С крупным отрядом он прибыл в Башкирию под видом усмирителя бунтовщиков, а сам стал речами обнадеживать их, заявляя, что он один в состоянии вступиться за них и выпросить им у русской императрицы прощение. Он прочил одного из своих сыновей в «Башкирии ханом уличить», то есть принять* башкирский народ под свое покровительство. Он вступил в сговор с главнейшим вождем восставших Бепеней, старшиной-феодалом, неистовым террористом, с одинаковым ожесточением уничтожавшим русских и башкир, служивших русским. Большинство башкир поверили Абул-Хаиру и, чтобы крепче привязать его к своим интересам, женили его, казахского хана, на башкирке. У Абул-Хаира, конечно, имелись некоторые обиды на русских, в основе же его поступка было амбициозное желание показать всем, что он не чей-то подданный, а носитель высокой ханской чести.
Обещания Абул-Хаир – хана приободрили башкир. В Уфу к Татищеву обратились пять послов-старшин и изложили особые льготы, какими башкиры хотели бы пользоваться, находясь в подданстве. Хлебосольно встретив послов, Татищев убедительно растолковал им, что требовать для себя каких-то особых привилегий у башкир нет причин, ибо, как русские и казахи, они равноправные подданные императрицы, что и ясак они платят даже меньше, чем русские крестьяне, и что идти в подданство казахским ханам нет башкирам никакой выгоды: казахские кочевники сами живут бедно, беднее башкир.
Как бы комментируя эту беседу, Рычков в своей «Истории Оренбургской» сделает глубокий экскурс к истокам русско-башкирских взаимоотношений, к тем временам, когда башкиры платили казахским и сибирским ханам несносные, разорительные подати. Особо притеснял их казахский хан Ахназар-Салтан, «ибо на три двора по одному токмо котлу для варения им пищи допущал, и как скот и пожитки, так и детей их к себе отбирал, и землями владеть, також и через реку Белую переходить не допущал». В малолюдстве и крайнем убожестве пребывавшие, башкиры по принятию русского подданства были «разными выгодами пожалованы», получили грамоту на безналоговое пользование землями, обрели гарантированную защиту от постоянных грабительских набегов казахских и калмыцких орд.
И вполне естественно, как писал Рычков, «что по принятии в подданство башкирцев, яко бессильного и весьма изнуренного народа» русское правительство не ожидало от него каких-либо «противностей», поэтому к содержанию его в подданстве построило, по его же просьбе, всего один город Уфу с определением в нем небольшого числа служивых людей. «Но они (башкиры. – И. У.) яко от природы непостоянный народ, получая довольство во всем от многих пожалованных им угодий и набрав в сожитие к себе многих беглых иноверцев… в короткое время так усилились и в такую вольность пришли, что многия продерзости чинить отважились и, наконец, явным уже образом бунтовали, с таким намерением, чтоб им, отрешившись от подданства Российского, восстановить особливое владение». Рычков сослался на два башкирских восстания, произошедших задолго до постройки Оренбурга: под предводительством старшин-феодалов Сеита в 1676 году и Алдара и Кусюма в 1707 году.
В беседе с послами Татищев просил передать бунтовщикам, чтобы они сложили оружие, а их вожди лично явились к нему с повинною. Другого выхода у них нет и не будет. Всем повинившимся будет сохранена жизнь, ну а кого добрые слова не берут, с того шкуру дерут. Особо опасным, неугомонным мятежникам Татищев пощады не сулил.
Ему поверили: несколько тысяч бунтовщиков повинились, но по-прежнему не являлись вожди восстания – Бепеня, Мандар, Чураш, Тюлкучура. У них теперь нашелся влиятельный покровитель Абул-Хаир-хан со своей многочисленной ордой. Хан вел себя вызывающе: рассылал по башкирским селениям указы, своим содержанием опротестовывающие русские, чем подстрекал бунтовщиков. Там и тут башкиры нападали на русские крепости, грабили обозы, убивали купцов. В апреле Абул-Хаир-хан во главе огромного отряда, в котором были и повстанцы, подступил к Оренбургу и в ответ на увещевания городского воеводы Останкова, выхватив саблю, прокричал: «Город мой и для меня построен, а кто не послушает, тому голову отрублю!»
Объединение орды с мятежниками грозило русским тяжелыми последствиями. Татищев в письме к Абул-Хаиру дружески советовал хорошенько подумать о своих поступках, «дабы какой непристойности не вышло», приглашал встретиться и обо всем поговорить. Свои дипломатические шаги Татищев мотивировал в письме к императрице: «Не имея способа силой их к покорности принудить… салтанов и ханов жестокостью острастить, намерен с ними ласково обойтись, невзирая на глупую их дикость» и на то, что Абул-Хаир-хан присягу нарушил.
Из Петербурга в ответ последовали грозные распоряжения: не мешкая, действовать оружием, а не словом. Императрица приказывала Татищеву «с командою к Оренбургу поспешать без всякого отлагательства, а ежели над оным городом учинится гибель или людям урон, то особливо вы в том пред нами дадите ответ, ибо мы оную крепость отнюдь потерять не хотим».
В этой чрезвычайно тревожной обстановке Татищев все же отклоняет предписание действовать «огнем и мечом». Он направляет к Абул-Хаир-хану своего посла с дорогими подарками и назначает ему день встречи в Оренбурге. Во время встречи он искусным разговором потешил ханское честолюбие, попросил Абул-Хаира подтвердить подданство России и, устроив пышное застолье, мирно с ним распрощался. Вместе со своим ханом многотысячная орда киргиз-кайсаков покинула пределы Оренбургского края.
Башкирские мятежники, оставшись без поддержки, начали сдаваться. После некоторого колебания пришли с повинною вожаки повстанческих отрядов Сеит-бай, Рысай-бай, Елдаш-мулла, Мандар, Тюлкучура. На свободе находился лишь Бепеня. Но, потеряв соратников, понял безвыходность своего положения и 12 ноября 1738 года явился с повинною.
Как одного из яростных главарей-бунтовщиков его было велено колесовал».
Погасив пламя восстания, Татищев попросил в Сенате разрешения для поездки в Петербург и в начале 1739 года выехал ко двору. К этому времени он закончил большую часть «Истории Российской» и хотел показал» ее специалистам.
В Петербурге, куда он прибыл с итоговым докладом о делах Оренбургской комиссии, его вдруг отстранили от должности и арестовали. Обвинялся он по доносам полковника Тевкелева, чинившего немалые зверства при подавлении башкирских мятежей, уфимского воеводы, неуемного казнокрада и взяточника Шемякина, а также мародера и садиста полковника Бардекевича. Именно против них и выступал Татищев, не раз прося Кабинет министров и императрицу помочь ему призвать этих бесчестных людей к соблюдению законности. Увы, к порядку решили призвать самого Татищева.
Тевкелев злорадствовал. Привыкший в своей службе к насилиям, взяткам и репрессиям, он давно жил и действовал по принципу: что мне законы, коль судьи знакомы?! Тевкелев также ведал, как взрывоопасны отношения между Татищевым и всесильным Бироном. Нужна была лишь спичка.
Донос послужил Бирону поводом для расправы со строптивым и давно неугодным ему русским администратором. В специальную следственную комиссию по «делу Татищева» главными следователями Бирон назначил немцев. Вспомним: императрица обещала Татищеву высокую награду, если он усмирит башкирских бунтовщиков. Но вместо награды – каземат Петропавловской крепости.
Бирон торжествовал. Он привык сталкивать лбами русских, используя их междоусобицы, сеял рознь, интриги, убирал со своего пути всех неугодных, какие бы высокие посты при дворе те ни занимали. В 1740 году Бирону удалось опорочить и предать смертной казни политических единомышленников Татищева кабинет-министра Артемия Волынского, придворного архитектора Петра Еропкина и горного инженера Андрея Хрущова, ратовавших за то, чтобы русское правительство состояло из русских, чтобы, привлекая полезных иностранцев, не отдавать им первых мест, которые законно принадлежат русским. Оскорбленные в своем самом высоком чувстве – чувстве национального достоинства, эти патриоты стремились по возможности претворять в жизнь заветы Петра Великого: не складывать рук, неустанно радеть о благе России, избегать междоусобиц. Они видели опасное положение государства, где вся власть сосредоточена в руках трех немцев – Бирона, Миниха и Остермана.
Кирилов, служивший при Анне Иоанновне обер-секретарем Правительствующего Сената, случалось, в довольно осторожной форме рассказывал Петру Рычкову о жизни царского двора, об императрице – племяннице Петра Первого.
Личная жизнь Анны не сложилась. Первого жениха ей подыскал сам Петр Алексеевич, выдав замуж за курляндского герцога. Но тот спустя несколько дней после свадьбы умер с перепоя. Через некоторое время нашелся другой жених – красавец Мориц Саксонский, но брачный союз не состоялся: помешал князь Александр Меншиков, которому потом силы, двигавшие Анну к власти, жестоко отомстили. Его отстранили от всех государственных дел и выслали в Сибирь.
Меншиков выехал из Петербурга в самом блестящем из своих экипажей, в сопровождении всех домашних и увозя самое ценное из своего имущества. Сам он был в форме генерал-фельдмаршала и держался достойно. Эта пышность шокировала его врагов, и не проехал он трех верст, как его нагнал офицер во главе конного отряда и приказал ему, жене его и детям выйти из кареты и сесть в обыкновенные повозки. Дорогие же экипажи были возвращены в Петербург. Чуть погодя Меншикова опять догнал отряд гусар, и к «его опале прибавилось новое оскорбление»: с Меншикова и со всех его родственников сняли драгоценные одежды и заменили их платьями из грубой шерстяной материи. В таком виде он, его сын и две дочери прибыли в Березов. Жена светлейшего князя, генералиссимуса, не выдержав душевных потрясений и длительной поездки, скончалась в дороге.
Жестокой репрессии Меншиков подвергся, конечно же, не только потому, что вмешался в личную жизнь будущей государыни Анны, а по той причине, что был самым преданнейшим сподвижником Петра Великого, неусыпным продолжателем его дела Совершенно случайно оказавшись на русском престоле, курляндская герцогиня сразу же окружила себя немцами, отдалив русских. Славные военачальники князья Михаил Голицын и Алексей Румянцев были отстранены от командования войсками и заменены немцами. Видные деятели петровской закалки князья Василий и Юрий Долгорукие были арестованы и сосланы на каторгу. Умер, не выдержав оскорбительной опалы, князь Григорий Юсупов… Заметно поредели ряды русских в Сенате, в Военной коллегии, в Академии наук, в торговых ведомствах.
Возведенный милостию Анны из низкого состояния на высокую ступень власти и могущества, Яга Бирон оставался чуждым России, судьба которой его не интересовала Он лишь пользовался счастливым случаем, своим положением всесильного временщика, чтобы нажиться за счет России; ему нужны были деньги, а до того, как они добывались, ему не было никакого дела. С другой стороны, он видел, что его не любят, считают недостойным того положения, какое он занимает, и по инстинкту самосохранения, не разбирая средств, преследовал людей, которых считал опасными для себя и для того правительства, которым он держался. Бирон целиком владел волей императрицы, управлял государством как хотел.
Безудержная роскошь двора, постоянные увеселения в нем, устраиваемые императрицей, беззакония в судопроизводстве, застой в торговле и промышленности, крепостной гнет, восстания крестьян и подданных народов, разложение армии и флота – таков итог правления Анны, в котором Петр I, воскресни он на время, «едва ли узнал бы свое дело в таком посмертном его продолжении».
Полубояринов – личный секретарь Анны – в дневниковых записках отмечал ее личную неуемную страсть к развлечениям. Зеркало, золотой столовый прибор и другие принадлежности туалета императрицы стоили несколько миллионов рублей. Расточительными развлечениями и богатством Анна как женщина словно бы стремилась компенсировать свою неудавшуюся личную жизнь.
Не ограничивал свои расходы и ее фаворит Бирон. «Матушка моя, – читаем в записках, – жила у Бирона в последние годы его силы и власти; при ней казнили Волынского, Хрущова, Еропкина, а Мусину-Пушкину отрезали язык. Рассказывала матушка, что была однажды свидетельницею большой охоты в Петергофе, на которой императрица Анна Иоанновна собственноручно стреляла волка, кабана, оленя и несколько зайцев. Бироны жили очень роскошно. Одних бриллиантов у его жены было более чем на 2000000 рублей, да перед самым свержением она заказала платье, унизанное жемчугом, ценою в 100000 рублей».
И это в то время, когда гравировку карт для «Атласа Всероссийской империи» Иван Кирилов вынужден был производить в основном за свой счет, а Василий Татищев не мог выпросить у правительства несколько сот рублей на открытие в Самаре татаро-калмыцкой школы!
Но вернемся к судьбе Татищева. Около двух лет Василия Никитича держали под следствием. Суду был предан человек, бывший по смерти Феофана Прокоповича главным представителем Новой России, новорожденной русской науки, русский человек, которого, как выразился историк С. М. Соловьев, усердие и услуги императрице и ее власти были бесспорны; бесспорен был его горячий патриотизм – и его опала могла быть приписана только ненависти немцев к русской знаменитости или выказавшейся чем-нибудь вражде русского патриота к ненавистному владычеству иноземцев.




![Книга Философия науки [Издание пятое, переработанное и дополненное] автора авторов Коллектив](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-filosofiya-nauki-izdanie-pyatoe-pererabotannoe-i-dopolnennoe-272649.jpg)



