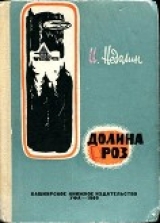
Текст книги "Долина роз (Приключенческая повесть)"
Автор книги: Иван Недолин
Жанр:
Прочие приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– Жилищу нашему едва ли, оно на достаточно высоком месте. Но часть долины, очевидно, затопит. Во время бурного снеготаяния вода не успевает уйти через пещеру, поток и озеро выходят из берегов. Хорошо, что мы зимой на досуге обзавелись лодками.
Лодки были привезены к дому и привязаны за перила крыльца. Фома Кузьмич принес со скотного двора двух кур и петуха, оставленных на племя. Пару телят, недавно появившихся на свет, доставили также в наше жилище. Марфуга отгородила им уголок на кухне.
День был пасмурный, теплый, моросил дождь. Казалось, что снега шелестят, оседая, так быстро они таяли. Мутные потоки неслись к озеру отовсюду. Уровень воды быстро повышался.
После ужина, с наступлением темноты, назначали дежурных. Они посменно бодрствовали всю ночь.
Утром я проснулся со смутным чувством тревоги. В доме стояла тишина. В нашей комнате – никого, лишь спит еще Люба. Наскоро одевшись, я выбежал на крыльцо. Все обитатели дома были здесь.
Осмотревшись, я в испуге попятился. Вся долина была под водой. Мутные потоки плескались о фундамент дома. Лодки, с вечера лежавшие на земле, плавали, колыхаясь, в воде. Солнце, небо были окутаны густыми тучами, туманом. Склоны горы обнажились, снег сошел почти всюду. Деревья простирали голые ветви над водой.
Высокий уровень воды продержался несколько дней. Из дому перебираться не пришлось, место оказалось достаточно высоким. Скотный двор заливало, коровы, овцы и лошади бродили по склонам горы, пощипывая бурую прошлогоднюю траву.
– Придется скотный двор перенести повыше, – соображал отец, – да и стога сена метать на взгорье.
Вода сошла, долина обнажилась – грязная, покрытая илом. Прошел теплый, обильный дождь. Быстро, на глазах зазеленело, зацвело. Привычно, как домой, прилетели на озеро стаи уток. Гуси, покружившись, опустились на воду, но, увидев людей, поднялись и улетели, тревожно перекликаясь.
Стадо наше увеличивалось. Появились ягнята. Верховая гнедая кобылица, собственность матери, принесла хорошенького жеребеночка, золотистой масти, с белой звездочкой на лбу. Люба была от него в восторге.
– Вырастет – кататься на нем будешь, – обещал отец.
Жеребеночка Люба назвала «Звездочкой», кличка эта осталась за ним навсегда.
По настоянию отца и Дубова вскоре начались полевые работы. Сыновья Дубова и Рисней от работ в поле отказались, говоря, что незачем ждать нового урожая, надо покидать долину возможно скорее. В поле вышли работать отец, старый Дубов, Фома Кузьмич, Ахмет и Марфуга. Помогал им и я, боронил, подвозил на подводах семена. Сеялки у нас не было, сеял вручную Ахмет, полной горстью черпая семена из лукошка, приспособленного у груди, и бросая золотистые зерна в черную влажную землю.
Овес и пшеница вскоре взошли, затем мы посеяли помаленьку проса и гречи.
Фома Кузьмич хлопотал в огороде. Он привез с собой разных семян, вырастил рассаду в теплице, сооруженной нами еще до зимы, и теперь мы смогли посадить помидоры, огурцы, дыни, арбузы, морковь, капусту, табак – всего понемножку. Сделали даже в любовно разделанной земле несколько лунок для картофеля.
– Это наш золотой запас, – приговаривал Фома Кузьмич, бережно опуская в каждую лунку разрезанные на дольки клубни. – Картофеля-то я захватил из города совсем мало, да и то едва уберег чуток для посадки.
После наводнения долина, словно торопясь, быстро наряжалась в зелень и цветы. Раньше всех белыми коврами расстелились подснежники. Крошечные колокольчики ландышей разлили кругом нежное благоухание. Венчальной фатой душистых цветов оделась черемуха. Луга пестрели от нарядного цветочного убранства. Зацвела вишня. Испуская сладковато-приторный запах, распустила широкие кремовые гроздья калина.
– Теперь самая пора ловить карася, – заметил Фома Кузьмич, собираясь повечеровать с удочками на озере.
В троицын день – праздник цветов и зелени – наше жилье стало похожим на оранжерею. Буйно расцвел шиповник. Миллионы красных, розовых, кремовых цветов украсили долину и склоны горы.
– Какая красота! – восхищалась мать.
– Вот она, цветочная оправа курорта «Долина роз», – по-своему оценивал красоты природы Дубов. – Эти цветочки повысят цены на комнаты нашего курорта.
Когда закончился сев, Фома Кузьмич заговорил о саде, о пчельнике.
– В долине много вишни, малины, черемухи, смородины. У меня есть семена яблонь. Зимой я их посадил, растут черенки. Хороший сад разбить можно. Огородим участок, беседочки наделаем. Там же обоснуем пасеку. В лесу немало пчелиных семейств в дуплах, станут роиться – поймаем рой, приручим. Мед нам вот как нужен, сахар-то на исходе.
Георгий поднял повара на смех:
– Да ведь сад плодоносить будет лет через пять!
– Нет, ягодные дадут урожай и через год.
– А ты много лет думаешь прожить здесь?
– А сколько бог приведет. Без бога ни до порога…
Однажды, сидя у приемника, Георгий сообщил радостно:
– Поляки разгромили красных, заняли правобережье Украины. Войска генерала Врангеля вышли из Крыма и быстро движутся на север. Начинается новый поход на Москву. И на Урале вблизи нас восстания… Дни большевиков сочтены!
Однако и эти надежды скоро потускнели. Красные перешли в наступление, отбили Киев и, преследуя разбитые польские войска, перешли польскую границу, двигаясь на Варшаву. Повстанцы на Южном Урале, отступая, уходили в горные трущобы.
После некоторого перерыва полевые работы возобновились. Начали готовить участок для сада и пасеки, обнесли его высоким прочным частоколом.
– Вдруг объявятся медведи! – приговаривал Фома Кузьмич. – Повадятся на готовый мед – не рад будешь. Зайцы – тоже саду вредители.
Вскоре Ахмет с Фомой Кузьмичом поймали два пчелиных роя, водворили их в ульи, на пасеку. Ульи были рамочные, их изготовили еще зимой, в свободное время.
– Ну, ребятишки, в августе свой мед будет! – сказал нам Ахмет, подмигивая.
Женщины разбили перед домом цветник, семенами их снабдил все тот же Фома Кузьмич. Сам он, соорудив в саду уютный балаган, перебрался туда с постелью:
– Люблю поспать летом на воле, на свежем воздухе!
Сыновья Дубова часто поднимали вопрос об отъезде. Андрей Матвеевич отшучивался или молчал.
– Да вы, папаша, не век ли доживать здесь хотите? – воскликнул однажды Георгий. – Что касается нас, то зимовать здесь мы больше не намерены.
– Кто это вы?
– Ну, Николай, я… Рисней…
– Риснею дорога открыта. Хоть сегодня же может ехать, – отрезал Дубов. – Скатертью дорога! Ну, а вы подождите, разрешения отцова пока на отъезд нет.
– Да ведь тут со скуки умереть можно… Посмотрите на Ирину Андреевну – изводится от тоски. Разве ей тут место?
– Скучно – это верно. Потерпеть придется немного. Придет время – побываем и в Москве, и в Питере, на курортах, за границей побываем. Шалишь! Дубова в землю не вгонишь! Поживем еще, поработаем! А сейчас куда денешься? Домой или в завод свой, на прииск, – нельзя: красным в руки. До границы не доберешься. Один выход – отсидеться здесь. Вы думаете, я о себе только забочусь? Нам, старикам, что! Умрем ли в этой долине, как в монастыре! О вас, сыновьях, забочусь. Чтобы род наш не пресекся, чтобы фирма Дубовых жила и процветала.
Не раз я слышал споры матери с отцом. Отец уговаривал ее потерпеть, обождать.
– Ах, терпеть, терпеть! – говорила мать. – А жизнь проходит…
Начался сенокос. Ахмет и Фома Кузьмич косили траву, мы с Марфугой огребали, ворошили сено. Отец возил копны, метал стога. Над лугами стоял запах цветов, ягод и благоуханных трав.
– Сенокос здесь – первый сорт! – умилялся Фома Кузьмич. – Такие бы луга да в наше село! В Пермской губернии лугов не мало, да все не такие. Сено здесь, что шелк, – мягкое, питательное.
За год жизни в долине старый повар посвежел, стал подвижней, моложе с лица.
– Кому как, а мне здешняя жизнь в пользу, – говорил он.
Удивительный человек этот Фома Кузьмич! Здесь, в «Долине роз», такая обстановка, что все мы живем в кучке, у всех одни интересы, все одинаковы, равны, никто никого не нанимает, каждый должен сам вносить свой вклад и нести какую-то долю труда и обязанностей. И здесь особенно наглядны все привычки, все склонности, все черты характера каждого человека. На мой взгляд, испытания, выпавшие на нашу долю, обнаружили, что лучшие из нас – это мой отец и Фома Кузьмич. Оба они деятельны, изобретательны, оба любят труд. Изо всех Дубовых, по-моему, все-таки лучше других старик Андрей Матвеевич. А оба его сынка – трудно даже решить, который хуже. Злой, самовлюбленный бездельник Георгий – самый, пожалуй, отвратительный из всех, живущих в «Долине роз». Ему под стать только англичанин, которого я с каждым днем все больше ненавижу. Николай Дубов, при всей его начитанности, при всей его любви к книге, – жалкое, ничтожное существо.
Нравится мне Марфуга. Хорошая, работящая женщина. Наш Ахмет – тоже прелестный. Открытая душа, честные глаза и полное доброжелательство к людям. А ведь любить людей, желать сделать им добро – разве это не самое драгоценное свойство человека?
Вот о моей маме я не знаю что сказать. Я, конечно, люблю ее. Я очень много думаю о ней, чем взрослее становлюсь, тем больше думаю… Почему она всегда и всем недовольна? Чего ей недостает? И мне иногда кажется, что она… не очень любит папу… Или это только кажется? Говорят, у детей, когда они подрастают, появляются критические настроения. Может быть, я вступил в этот возраст? Не знаю. Мне трудно об этом судить…
Начали поспевать хлеба. Быстро сжали, убрали пшеницу. Под руководством отца соорудили мельницу. Еще с весны облюбовали два камня, обтесали их на жернова. Мельницу наладили на водяной силе.
– Пошла! – с торжеством восклицал Фома Кузьмич. – Теперь только подавайте зерна!
Испекли хлеб из зерна нового своего урожая. Это был чудесный хлеб! Он был тем более вкусный, что хлебный паек в последние месяцы вообще был мал, выдавали сухари, пекли пресные лепешки. Размол новой муки был крупноватый, но хлеб удался на славу. Хмель запасен был с осени, так что дрожжами кухня обеспечена.
– Завтра пироги испечем из свежей собственной муки! Справим годичный юбилей нашей жизни в долине. Отпускаю на торжество две бутылки коньяку и бутылку мадеры, – сказал Дубов.
– Печальный юбилей, – тихо молвила мать.
Не дожидаясь пирога, к вечеру напекли из свежей муки сдобных, на молоке и масле, лепешек и коржиков. Ели их за чаем, похваливая.
– А завтра пироги будут с рыбой, сыром, грибками и ягодами, – обещал Фома Кузьмич. – Пойдем в ночное – сомов и сазанов ловить.
На рыбалку в ночное пошли отец, Фома Кузьмич и я. Расставив засветло снасти на большую рыбу, мы легли отдыхать вблизи озера в шалаше.
– Утром пораньше встанем, будет самый клев, – говорил отец. – А сейчас – на отдых.
На заре мы поднялись и, забрав удочки, прикорм, наживу, пошли к лодкам. В одной разместился Фома Кузьмич, в другой – мы с отцом. Отплыли на середину озера, стали возле камышей, спустили сетки с прикормом, забросили удочки… Ждем…
Небо над вершиной горы пунцовело от зари. Озеро не шелохнулось. От воды струился пар. Еле слышно шептали метели тростника. Громко заквакала лягушка и смолкла. Через минуту ей ответил целый хор. И опять все стихло. Крякали утки в камышах, тоненько перекликались утята. Внезапно на горе, высоко над озером, раздался трубный звук, эхо его заполнило всю долину.
– Лось трубит, – пояснил отец.
В эту минуту невдалеке, где расставлены были жерлицы, раздался плеск и шум. Удилище хлестало по воде.
– Сом, наверное!
Махнув нам рукой, Фома Кузьмич направил лодку в направлении жерлиц. Мы тронулись туда же.
– Ого! – торжествующе воскликнул повар. – Зверюга сильный! Помогайте!
Общими силами стали вытягивать натянувшуюся струной лесу.
– Веди к берегу, на отлогое место, – приказал отец. – Иначе не вытащим.
Оставив лодки, мы вышли на берег, подтягивая лесу. Мелькнула большая темная усатая голова…
– Ну, конечно, сом! Вот и пироги! – торжествовал Фома Кузьмич. – Если бы у нас был рис или саговая крупа!.. Да ничего, и со свежей капустой выйдет неплохо. Масла не пожалеем… Эх и жирный сомище! Деликатес!
Наконец мы вытащили сома на берег. Могучий хвост рыбы обдал нас водопадом брызг. Поняв бесцельность сопротивления, сом затих, разметавшись на прибрежной траве, покрытой росой. Величиной он был аршина полтора, жирный, блестящий.
Прочно привязав сома за жабры на бечеву, мы опустили его в воду. Сначала он с минуту лежал смирно, тяжело поднимая жабры, расправляя плавники. И вдруг ринулся вглубь… Бечева загудела. Закачались, клонясь к воде, ветви тала, к которому мы привязали нашего пленника. Бросок… Второй… Третий… Сом вновь затих и загулял спокойно по воде.
– Так-то лучше, – одобрил Фома Кузьмич. – Поедем, закинем еще на счастье. А через часок можно и домой.
Не успели мы сесть в лодки, как вблизи раздался топот бегущего человека. Это был Андрей Матвеевич. Но в каком виде! В белье, босой, волосы непокрытые, спутаны…
Подбежав к нам, он упал в изнеможении:
– Убежали…
– Кто убежал?
– Георгий… Рисней… И она…
– Кто она? – побледнев, спросил отец.
– Ирина Алексеевна…
Отец пошатнулся и опустился на землю рядом с Дубовым. Зажав голову руками, он стонал, как от жестокой физической боли.
Вскоре прибежали полуодетые встревоженные Николай и Ахмет.
Охая и плача, приплелась Клавдия Никитична, сопровождаемая Марфугой.
– Проснулась я ночью, – рассказывала, заливаясь слезами, Клавдия Никитична, – вижу: не спит Андрюша, ходит да охает. Сердце, говорит, болит, неспокойно чего-то. Смотрю в окно – светает, рано еще. Приляг, говорю ему, отдохни, пройдет. Нет, говорит, посижу я. Он присел, а я смотрю на него, успокаиваю. А глаза так и смежает сон. Сама не заметила, как задремала. И вдруг – как закричит Андрей Матвеевич: «Убежали! Ограбили!» Помертвела я от страха, поднялась, в комнату сыновей бросилась… По дороге заглянула под кровать Андрюши и обомлела: нет чемодана с ценностями… В комнате холостых один Николай мечется, путается с одеждой. Бросилась к вам, Борис Михайлович, – никого, одна Любочка спит. Я на крыльцо. Вижу – Андрюша к озеру бежит, только белье мелькает… «Батюшки, – кричу, – утопится, помогите!..» Николай и Ахмет обогнали меня… Господи, да за что же кара такая?.. Сын родной изменил, родителей бросил, обокрал… Мать пресвятая богородица…
– К дьяволу! – закричал, вскакивая, Дубов. – Догнать! Вернуть!
Отец все сидел, зажавши голову руками, и стонал. Мне стало страшно.
– Папа!
– Борис Михайлович! – тронул Ахмет за плечо отца. – Владислав испугался, Люба дома одна… Успокойтесь… Идемте домой…
– А? Что? Ах да… Сейчас, сейчас.. – отец с трудом поднялся, он был бледен, как полотно. – Владислав… Люба… Да, да… Идемте… Ахмет, беги за лошадьми… Фома Кузьмич, помоги Дубову… Да, да, поезжайте в погоню… Это какое-то недоразумение… Это они наглупили… сгоряча…
Когда мы подошли к дому, Ахмет привел уже оседланных лошадей. Вооружившись, захватив факелы и продовольствие, Ахмет, Фома Кузьмич и Николай поскакали по направлению пещеры «Дорога в мир». За ними помчался Вещий. Со скрытой надеждой отец проводил взглядом отъезжающих.
– В добрый час! Помоги вам господи! – перекрестилась Клавдия Никитична.
В доме было тихо, пустынно. Войдя в свою комнату, отец опустился в кресло и долго сидел молча, не шевелясь, глядя в одну точку. Мне было жутко, но я боялся тревожить отца и сидел, тоже не шевелясь, потихоньку плача.
Проснулась Люба. Увидев нас, улыбнулась:
– Поймали сома?
Отец очнулся, с усилием встал, подошел к Любе, взял ее на руки, прижал к груди и, целуя, заплакал.
– Папа, я боюсь… Где мама?
– Мама… скоро вернется… Успокойся дочка…
Он утешал, ласкал нас – с глазами, полными слез.
Неслышно отворилась дверь, вошла Клавдия Никитична. Пригорюнясь, отирая платочком слезы, она долго смотрела на нас молча, наконец молвила:
– Борис Михайлович, полноте, что вы… Андрюша-то немного утих, уложила его в постель… Давайте одевать Любу. Где ваш сом? У лодок? Марфуга принесет… Тесто сдобное заведено… Без Кузьмича как-нибудь пироги сготовим…
Во время завтрака Марфуга сообщила, что из кладовой исчезло много продуктов, беглецы захватили хлеб, масло, сыр, мед, чай, копченое и соленое мясо. Очевидно они готовились заранее, обдуманно и предвидели далекий путь.
– И пулемет взял с собой Егорушка, – добавила Клавдия Никитична. – Может, к лучшему это? Все при случае оборониться чем будет.
– Андрей Матвеевич как себя чувствует?
– Плохо. Сидит в постели и все шепчет что-то… Боюсь, не помешался бы старик.
Гонцы возвратились ни с чем. За водопадом, где мы останавливались в прошлом году, следы их затерялись. Дальше искать их побоялись.
Отец выслушал рассказ гонцов безразлично. Он, видимо, был готов к этому. Андрей Матвеевич начал буйствовать. Пришлось его связать. Он сперва сопротивлялся, потом затих, бормотал изредка бессмысленные фразы, временами смеялся. Страшен был этот смех!
За несколько дней Дубов изменился до неузнаваемости: похудел, поседел, одряхлел. Припадки буйства прошли и сменились тихим безразличием. Сидя где-нибудь в укромном уголке, он улыбался, шептал что-то несвязное, забыл понятие о времени, не откликался на зов, не узнавал никого. Вначале за ним следили, опасаясь, как бы чего не натворил. Потом привыкли, тихий бред умалишенного старика перестал пугать. Лишь Клавдия Никитична порой плакала, ухаживая за мужем.
Дни шли тягучие, тоскливые. Отец почти не выходил из дому. Сидел, не шевелясь, в кресле или ходил по комнате. И думал, думал…
Люба каждый день спрашивала меня:
– Где мама? Почему она так долго не возвращается?
Стараясь развлечь сестренку, я уводил ее гулять в луга, в лес.
Но ни цветы, ни ягоды ее не привлекали. Бесцельно побродив по долине, мы усаживались где-нибудь на берегу озера и молчали. Иногда Люба падала ничком на траву и горько плакала. Сам глотая слезы, я успокаивал сестренку:
– Не надо. Любочка! Мама скоро вернется. Она поехала в город, а потом вернется за нами, и мы поедем домой… Все будет хорошо…
Однажды ранним утром отец вышел из дому. Тихо, стараясь не разбудить Любу, я направился за ним. Выйдя на крыльцо, отец долго стоял, задумавшись. В лучах утреннего солнца волосы его серебрились, он поседел за эти несколько дней.
С поля доносился звук кос. Фома Кузьмич, Ахмет и Марфуга заканчивали уборку хлеба. Отец медленно направился к ним. Вскоре я увидел, что он сменил Ахмета. Коса зазвенела в его руках.
Я прислонился к перилам крыльца и заплакал, чувствуя, как с каждой слезой с души спадает тоска.
Из дома вышла розовая ото сна Люба. Увидев меня плачущим, испугалась:
– Владек! Что с тобой? Где папа?
– Папа в поле, косит хлеб…
– Значит, папа выздоровел? – обрадовалась сестренка.
Общество наше повеселело. Отец вновь стал во главе его. Работа пошла более споро. Мы готовились ко второй зиме, заготовили хлеб, продукты, топливо, корма для скота. В августе был первый сбор меда. Старый повар угостил нас сладкой, густой, приятной на вкус и пьянящей медовкой.
Николай изредка заговаривал об отъезде. Он всегда оказывался один, всех сторонился, не принимал никакого участия в общей жизни, не работал, палец о палец не ударял. И видно было, что его съедает тоска и скука.
– Что ты, Коленька! – возражала ему всякий раз Клавдия Никитична. – Куда поедешь? Кругом война…
Отец много работал, находя в труде забвение.
Прошло лето, настали пасмурные осенние дни. Неожиданно быстро, в октябре, установилась зима, долина и взгорья нарядились в снежные одежды. Мы вновь обновили лыжи и коньки.
– Ну, дети, – сказал однажды отец, – начнем с вами заниматься.
Со знанием дела и терпением отец преподавал нам русский язык и математику, географию, историю, музыку. Эти занятия велись ежедневно.
Фома Кузьмич, Ахмет, Марфуга всегда были чем-то заняты. Мужчины столярничали, мастерили мебель и ковры, разные хозяйственные изделия. Марфуга шила, вязала, чинила. Один Николай изнывал без дела, дремал, сидя в кресле, безучастный ко всему окружающему.
На отца иногда нападала хандра. Он молча ходил по комнате, изредка присаживаясь к радиоприемнику. Но потом брал себя в руки и принимался за какое-нибудь дело.
Андрей Матвеевич, уставившись взором в огонь камина, шептал что-то про себя одному ему понятное. Это было теперь его обычное состояние. Клавдия Никитична, пригорюнясь, жалостливо смотрела на мужа и сына. Она тоже за последнее время сильно осунулась, постарела, вообще сдала.
Так и шли наши дни…
А там в стране, за горами, свершались большие события. Глухим эхом, через радио, они доносились до нас.
Телеграф принес известие о взятии красными Перекопа и падении Крыма. Красные, вытеснив польские войска из Украины, глубоко вторглись в пределы Польши, овладели Львовом, подходили вплотную к Кракову.
Выслушав сообщение о разгроме и бегстве белогвардейцев из Крыма, Николай Дубов пришел в бешенство:
– К дьяволу! Туда и дорога! Авантюристы, бездарные проходимцы!
Словно разбуженный криком сына, старый Дубов вскочил, лицо его исказилось:
– Вспомнил! – закричал он так, что все содрогнулись. – Они ограбили, разорили меня! Поймать! Вернуть! Казнить разбойников!
Старик бросился к двери, его едва успели задержать. Он отбивался с невероятной силой, сквернословил и, обессилев, затих. Его уложили спать.
Утром нас разбудил плач и причитания Клавдии Никитичны. Оказывается, старику удалось выбраться из комнаты, на крыльце он свалился со ступенек, ударился виском о выступ и замертво упал на землю.
«Долина роз» обзавелась кладбищем. Могила Дубова, прикрытая каменной плитой, приютилась под березой. Кладбище огородили частоколом, захватив березовую рощицу.
– Весной рассадим здесь цветы, – говорил Фома Кузьмич. – Кто знает, может и нам придется здесь опочить. Свято место не будет пусто.
Схоронив мужа, Клавдия Никитична совсем притихла. Она дряхлела и таяла у всех на глазах. В апреле, в разгар весны, и ее схоронили.
Ко второй зиме поселок наш обстроился, вырос. Стал уютней жилой дом, в комнатах прибавилось мебели, а на кухне утвари. Днем, в перерывах между уроками, мы с Любой катались на коньках, на лыжах. Чтобы дать нам возможность порезвиться, отец перенес некоторые уроки на вечер.
Осень была сухой, зима – малоснежной, весна – холодной, затяжной. Прошлогоднего наводнения не повторилось, озеро едва вышло из берегов.
Николай Дубов за зиму опустился, оброс. Он не работал, почти совсем бросил читать, большую часть времени проводил в постели или в бесцельном хождении по комнатам.
Радио приносило с «Большой земли» новость за новостью. В стране провозглашена новая экономическая политика. В ряде областей народно-хозяйственной жизни допущен частный капитал, разрешена свободная торговля. Слово НЭП доносилось до нас все чаще.
Эти новости оживляли Николая Дубова. Временами он вступал в споры с отцом:
– Поймите, инженер Кудрявцев, сидеть теперь в долине отрезанными от мира нет смысла! Страна в развалинах, хозяйственные трудности не по силам новой власти. Кончилась война, кончаются и большевистские эксперименты. Реставрация капитализма в России неизбежна!
Отец с сожалением смотрел на доморощенного философа:
– Ничего-то вы не поняли в революции, Дубов! Но даже и спорить с вами не хочется. Реставрация! Выдумал тоже! Реставрация! Уж не вы ли приметесь реставрировать капитализм? Э-эх, связался я с вами!..
Николай Дубов пытался еще что-то говорить, но его никто уже не слушал. Тогда он нахмурился, замолк и еще больше стал от всех сторониться.
Между тем, отец, видимо, и сам решил, что пора покинуть долину и вернуться туда, к людям. Он проверял упряжь, увеличил порции рациона лошадей… Часто советовался с Ахметом, с Фомой Кузьмичом…
Полевые работы тем временем шли полным ходом. С утра до вечера мужчины были заняты, в доме хозяйничала Марфуга и около нее Люба. Я тоже помогал взрослым и дома и в поле. Не работал один Николай.
Однажды, возвратившись с работы, мы не застали его дома.
– Уехал на охоту, – сообщила Марфуга. – С утра уехал. Ружье взял с собой, мешок. Верхом уехал.
– Уж не совсем ли он уехал? – прищурился Фома Кузьмич.
– О чем забота? – отозвался Ахмет. – Уехал – туда и дорога.
– Нам с ним все равно не по пути, – вставил отец. – Управимся вот тут и тронемся всем гуртом.
Но к вечеру прискакал Николай – сам не свой, сильно расстроенный.
– Пропали! – простонал он, с трудом слезая с коня.
– Почему пропали? – спросил отец.
– Пещера…
– Что с пещерой?
– Залита водой!..
Отец вскочил на коня и понесся к пещере. Забежав на скотный двор за лошадьми, мы последовали за ним. Вскоре и мы были возле пещеры. Николай был прав: поток вливался в пещеру медленно, уровень воды повышался с каждой минутой.
Отца мы застали стоящим безмолвно у воды. Голова его была низко опущена. Поседевшие волосы блестели под солнцем, фуражку он держал в руках.
– Произошло несчастье, – глухим голосом сказал он. – Вход в нижний грот пещеры завалило… Помните тот камень? Случилось то, чего я так боялся. Камень сорвался, завалил нижний ход пещеры. Вода устремилась вверх…
– Значит, верхняя пещера залита водой? – спросил я.
– Конечно… А как же иначе?
– В таком случае ход из долины отрезан?
– Пока вода не спала – да…
Так мы стали пленниками Круглой горы.
Перед рассветом нас разбудил выстрел. Последний отпрыск фамилии Дубовых покончил расчеты с жизнью. Николай Дубов застрелился.
Дни шли за днями медленно, похожие друг на друга, как две капли дождевой воды.
В солнечном сверкании, шуме ручьев шествовала весна, принаряженная, как невеста, в зелень и цветы.
Знойное, яркое, сытое от зелени, тепла, цветов и плодов – проходило лето.
В нарядной багряной листве лесов, померкших трав и цветов, в туманной фате, печальная, плачущая дождями, – тянулась осень.
Одетая в белоснежные одежды, буранная, долго-долго стояла зима.
И так – год за годом…
Мы, горстка людей, отрезанных от всего мира, старались не падать духом. Как будто бы мы сыты, всего у нас в достатке, жилище у нас хорошее, все есть. Не хватало нам одного: людей, общества, друзей, народа. Мы потеряли бы счет времени, часам, дням, числам, годам, если бы не дневник, который издавна, с юности своей, вел отец, и если бы не мой дневник, который я вел, подражая отцу и ежедневно проставляя дату. Мы чувствовали бы себя заживо погребенными, если бы не радио. Звуки его приняли для нас особый, волнующий интерес, в них трепетали последние нити общения с миром, с «Большой землей».
Нам угрожала опасность опуститься из избытка свободного времени, от отчаяния. Энергия и знания отца, поборовшего упадок духа после суровых испытаний, трудолюбие простых людей, делящих с нами дни и годы одиночества, спасли нас от этого. Мы с Любой росли, учились, обогащали свой ум, закалялись в труде, впитывали все, что давали нам широкие знания отца, книги, музыка, мастерство наших друзей.
Марфуга под руководством Фомы Кузьмича освоила все тайны высокого кулинарного искусства, стала полновластной хозяйкой кухни. Ей деятельно помогала Люба, трудолюбивая, резвая девочка.
Я тоже научился многому. Я умел и ходить за лошадьми, и давать корм коровам, я умел боронить, сеять, сажать, полоть. Я научился столярному делу, не говоря о том, что умел прибрать комнаты и подмести или вымыть пол. Я научился трудиться.
Между тем жизнь шла своим чередом. Мы отштукатурили, выбелили дом снаружи и внутри, он стал уютней, теплей и нарядней.
– Настоящая дача! – восхищалась Люба. – Только… – голосок ее вздрагивал от сдержанного волнения, – только бы поближе к городу, к людям…
– Подожди, сестреночка! – успокаивал я ее. – Мы выберемся отсюда и заживем по-иному!
– Да я ничего, Владек… Мне и здесь с вами, с папой и с тобой, с Марфугой, с Ахметом, с Фомой Кузьмичом, отлично. Но я бы не прочь иметь подружек… ходить в театр… гулять по улицам…
– Знаешь, Люба, мы что-нибудь придумаем… Ты видела лен в нашем поле? Года через два его будет много. Мы наткем полотна, проварим его маслом и сошьем, соорудим… знаешь что? Воздушный шар!
– И улетим отсюда! Да? – воскликнула Люба, бросаясь ко мне. – Папа у нас такой умный, он построил электростанцию, осветил не только дом, но и скотный двор, под его руководством строили дом, мебель, делали утварь, ткацкие станки… Он соорудил радио… Он все может, все умеет, он, конечно, что-нибудь придумает, чтобы выбраться отсюда!
В нашей тихой жизни это было большим событием. Однажды мы услышали в наушниках вместо точек и тире человеческий голос и музыку. А вскоре отец водрузил рядом с приемным аппаратом вогнутый круг, сооруженный из пергамента, в жестяной оправе. В середине круга в маленькой коробочке включались катушки, обмотанные тонкими проводами, какие-то винтики. Весь прибор был окрашен в светлый сероватый цвет. Отец прикрепил к диску провода. Мы заметили, что он немного волнуется. Повернув пуговку выключателя, он сказал:
– Посмотрим, что получится из этого…
И вдруг ясный чистый голос произнес:
– Московское время двадцать часов. Приступаем к трансляции оперы «Борис Годунов» из зала Большого театра…
Как зачарованные, просидели мы весь вечер, до полуночи, слушая музыку, пение… И когда донесся издалека шум аплодисментов, горячо аплодировали и мы, незримые, далекие слушатели.
С этого дня в доме нашем стало веселей, как бы людней и просторней. С раннего утра до полуночи оживляло наше жилище пение и музыка, далекий человеческий голос, рассказывающий о жизни нашей родины, о новостях нашей страны.
«Говорит Москва!..»
Каждый день мы слышали эту фразу, и каждый раз она нас волновала. Если бы увидеть Москву! Кремль, Красную площадь… ее улицы, дома и сады…
Шли годы…
Люба из маленькой девочки выросла в красивую стройную девушку. Сестра унаследовала все красивое, женственное от матери, а ум, доброту, благородство – от отца. Мать, уезжая, оставила почти весь свой гардероб. Сначала приходилось перешивать ее одежду, с годами же платья, костюмы матери стали Любе впору.
И мне становились впору костюмы отца. Я вырос, на щеках у меня появился пушок. Настал день, когда я впервые взялся за бритву.
Годы и горе преждевременно украсили сединой голову отца. Но он по-прежнему деятелен, много трудится, занимается с нами, по желанию Ахмета и Фомы Кузьмича читает им лекции… Подолгу сидит он у себя в кабинете, в бывшей комнате Дубовых, над рукописями и чертежами.
– Это что, папа? – спросила однажды Люба, рассматривая чертежи.
– Это проекты больших, сложных машин. Когда мы уедем отсюда, я передам их государству.
– А я думала…
– Что ты думала, доченька? – улыбнулся отец, гладя Любу по головке, по ее темно-каштановым волнистым волосам.
– Я думала, это чертежи аэростата, воздушного шара…
– Чтобы улететь отсюда? Ах ты, моя мечтательница! – рассмеялся отец. – Будет у нас и воздушный шар. Мы одолеем этот каменный барьер, отделивший нас от мира. Будет, дайте срок!








