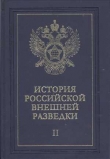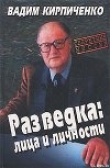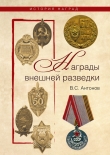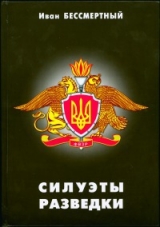
Текст книги "Силуэты разведки"
Автор книги: Иван Бессмертный
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Будни «легала»
Виталий Васильевич Крамаренко в восьмидесятые, в пик холодной войны, а значит – в период наибольшего противостояния с американцами, пять с половиной лет был в «командировке» в одной из азиатских стран. Подробности его работы на техническое направление советской разведки еще и сегодня не могут быть обнародованы. Не является секретом только информация о том, что он – один из очень немногих разведчиков, награжден боевой наградой в мирное время. За что? К сожалению, информация об этом тоже закрыта. Тем не менее, беседа с ним интересна тем, что она проливает свет (частично, конечно) на работу именно легальной резидентуры КГБ СССР за границей.
– Виталий Васильевич, вы начали работать в разведке в то время, когда на смену предвоенному и военному романтизму, когда работающий «в поле» разведчик мог позволить себе импровизации, пришел прагматизм, когда все операции очень жестко планировались, и отход от намеченного плана мог даже повлечь наказание.
– Вы очень четко заметили, что были сотрудники, которые работали «в поле», то есть в странах вероятного противника, и были те, которые сидели в Центре. У них лучше получалось вести руководящие направления. Основная нагрузка, конечно же, ложилась на плечи тех, кто работал «в поле».
Да, конечно, в то время, когда я начал работать, любая операция, любой выход на иностранца, любая дальнейшая работа с ним, – все это, как правило, готовилось и согласовывалось. Бывало, что по несколько раз выстраивалась линия поведения сотрудника, отрабатывалась схема его прикрытия.
Страна, где я работал, была с очень жестким внутренним полицейским режимом. Контрразведка свирепствовала. И потому шаг влево, шаг вправо – это было чревато арестом, выдворением и политическим скандалом. Тем не менее, хотя мы и старались максимально планировать и регламентировать свою работу, ситуации, требующие импровизации и немедленного принятия решения, время от времени возникали. Например, сижу с моим собеседником, веду переговоры, и вдруг он совершенно неожиданно предлагает мне важную информацию. Хотя мы об этом не договаривались. Риск? Безусловно. Не возьмешь – упустишь подвернувшуюся возможность. Возьмешь – а вдруг тебя тут же «возьмут за руку»? Или устроят какую-нибудь провокацию?
Я рискнул и взял. Это была очень нужная нам новейшая технология. Слава Богу, все обошлось. Конечно, меня потом Центр пожурил, что я отклонился от инструкции, но результатом был доволен.
Да, наружное наблюдение доставало нас капитально. Особенно плотным оно было первых полгода, да и потом тоже.
– Вы это почувствовали на себе?
– Да. Получилось так, что я попал на должность, которую занимал наш сотрудник, отозванный Центром в связи с возникшей угрозой провала. Он где-то «прокололся». Видимо, допустил не совсем правильное поведение или же слишком активно, подозрительно действовал. Какие-то основания были. Просто так проводить вербовочную беседу с тобой никто не будет. Словом, его досрочно отправили, и мне, когда я приехал, досталась та же должность, та же машина.
– У вас было дипломатическое прикрытие?
– В том-то и дело, что нет. Если бы было дипломатическое прикрытие, действовать было бы намного проще. Я работал в экономической миссии, и у меня был не зеленый, а синий паспорт. И когда по прибытии контрразведка взяла меня в оборот, какое-то время не было никакой возможности активно действовать. А в это время приезжает из Центра один из руководителей разведки и спрашивает: «Где твои результаты?». Пришлось оправдываться, что в данный момент малейшая активность может повлечь за собой серьезные последствия.
– Расскажите подробнее о «наружке». Как это все делается?
– Она держит тебя в плотном окружении, потом как будто отпускает, но, как только ты чуть-чуть расслабился, опять проявляется. Это «демонстративная наружка». С ней проще. Но была и более скрытая, более профессиональная. Иногда – четыре-пять машин, пешие группы, мотоциклисты.
– От «наружки» приходилось отрываться?
– Нет. Никто не отрывался. Помню, еще перед командировкой, мой преподаватель в Институте Андропова рассказывал про такой случай. Сослуживец моего преподавателя работал в Японии. «Наружка» его достала. Никакой возможности работать. Да еще и начальство давит: «Где результаты?». А тут из-за «наружки» срывается очередная встреча. И он, не долго думая, «заехал» в челюсть одному, другому, третьему… Сбежал и уже без наблюдения провел свою встречу. А через неделю его «встретили» человек пять, – здоровенные, намного выше его. Избили так, что у него больше не возникало желания избивать «наружку».
Один мой коллега тоже решил «похохмить». Выезжает из посольства, подъезжает к машине «наружки», приспускает стекло, свистит и кричит: «Поехали!». Те были в шоке.
– Ну, и каковы были последствия столь экстравагантного поступка?
– Они его так «взяли в оборот», что он на протяжении нескольких месяцев не смог провести ни одной встречи.
– От ваших коллег знаю, что, вскоре после того, как вы приехали в командировку, вам удалось выйти на очень серьезные результаты. В частности, вы заполучили технологии двойного назначения, и они принесли Советскому Союзу миллионные прибыли.
– О своих результатах, так же, как и об успехах своих коллег, я ничего рассказать не смогу.
– Понимаю. Но тогда, если вы не можете рассказать об успехах, давайте поговорим о проблемах.
– Знаете, в те времена, у многих людей, когда они выезжали за рубеж, проявлялись все низменные качества. И вот вам пример. Я начал замечать, что один из наших сотрудников стал вести себя угнетенно. Ну, а на всех нас лежало контрразведывательное обеспечение, именно по линии внутренней безопасности. И когда ты видишь, что человека что-то мучает, то просто автоматически проявляешь интерес. Тем более, что человек просится ко мне в машину, чтобы я его подвез. «Да у тебя же, – говорю, – своя машина есть». «Что-то она неисправна». Садится сзади, вжимается в сидение, чтобы его вообще не было видно. Вдруг за машиной увязывается «наружка». За мной ее не было, значит – за ним. «Ну, – думаю, – все ясно».
– А пытались вербовать людей, в основном на компромате – задокументированные взятки, посещения публичных домов?
– Да, как и везде. В данном случае – человек работал по линии экономической миссии, у него были хорошие контракты, и где-то, видно, он взял взятку. Я в это не вникал, потому что это была совершенно не моя тема. Не знаю, чем закончилась та история, но, во всяком случае, до конца командировки ему доработать не удалось, его отправили раньше.
– Скажите, а наша контрразведка за рубежом – это присмотр за своими же разведчиками?
– Да, у нас был офицер безопасности. У него – широкий круг обязанностей. И мы согласовывали с ним буквально все, вплоть до проверочных маршрутов. Ему докладывали также обо всех неблаговидных поступках сотрудников. А ситуации были такие, что диву даешься. Мне особенно запомнился один экстраординарный случай. Один сотрудник экономической миссии, не разведчик, учудил вот что. Командировка закончилась, пришло время возвращаться в Союз, а он отказывается. Нам позвонили из гостиницы и сообщили, что, мол, ваш соотечественник ведет себя вызывающе. Мы срочно прибыли туда. Оказывается, он напился, притащил в номер травку, девочек, вел себя шумно и, что самое неприятное, начал орать, что возвращаться в Союз не будет. И вот тут уже все наши «стояли на ушах». Нужно было понять – что происходит? Кто стоит за этой ситуацией? Вроде бы он проводил переговоры, и до какого-то времени все было под контролем, а потом произошел срыв.
– И чем закончилась та ситуация?
– К нему в номер вошел наш офицер безопасности. Через пять минут инцидент был исчерпан. Все мы, в том числе и наш сорвавшийся товарищ, сели в машину и уехали в свою миссию.
– Это же, кроме разведки, вам приходилось выполнять определенный объем работы и по должности– прикрытию?
– Для того, чтобы нормально вести разведку, нужно как минимум 95 процентов работать именно по линии прикрытия. Во-первых, это дает тебе собственно прикрытие, легализует твое пребывание. Во-вторых, дает тебе массу знакомств. Это, в основном, официальные контакты. Их очень трудно будет потом использовать для разведки.
Но с другой стороны среди них и среди их окружения появляются люди, которых ты потом уже начинаешь брать в разработку. Бывает, что во время официальной встречи человек вдруг говорит: «А вот мой человек работает на такой-то фирме, он сможет нам помочь».
– Почти во всех посольствах некоторые технические должности занимают местные жители. Они тоже задействуются разведкой?
– Нет, их мы не вербовали. Они у нас на вахте стояли, работали уборщиками, водителями. Но кто они такие – Бог его знает. Очень велика была вероятность, что именно на этом деле могут прихватить. Очень часто эти люди работают на местную контрразведку. У нас всегда были с ними нормальные отношения. И для зашифровки мы «светили» перед ними некоторые свои знакомства – второстепенные, не имеющие ни малейшего отношения к разведке. А что такое контрразведывательное изучение человека? Это сложный, трудоемкий процесс. И если ты даешь ему 30–40 контактов в месяц, а местная контрразведка всех их будет проверять, то на второй месяц они уже забодаются. И чем больше тут даешь этих контактов, темлучше для тебя.
– Как вам удалось начать работу при столь пристальном наблюдении контрразведки?
– Первое время пребывания – это был цирк. Многие местные деятели приходили ко мне сами. Они предлагали все, что угодно. Как только узнали, что в миссии появился новый человек – тут же начали визиты. Один предлагает ракету, другой – какую-то совершенно не нужную нам технологию, третий говорит: «Я ваш друг, за деньги могу многое для вас сделать». Были эти контакты, как правило, бесполезными. Чтобы получить действительно нужную тебе информацию, нужно как минимум обзавестись собственными источниками. При этом с чужими, то есть завербованными кем-то, я никогда не работал. Сам находил, проверял, вербовал, и сам получал от них материалы. Здесь для меня было важно вот что. Ты видишь этого человека, так или иначе, но он должен задать тебе какие-то вопросы. И таким образом у тебя складывается о нем какое-то мнение. Тогда ты просишь его добыть то, что тебе нужно, обсуждаешь условия. Некоторые мои источники работали на идеологической основе, они придерживались левых взглядов, и им нравился Советский Союз. Некоторые работали за деньги. Среди моих информаторов были владельцы крупных фирм, строительных, компьютерных. А еще – молодые ученые-технологи.
Главное было – не попасться. Иногда для прикрытия я брал с собой на встречу кого-то из работников миссии, человека «чистого», то есть того, кто не является сотрудником КГБ. Очень важно было уметь себя контролировать, ведь по ходу дела нам довольно часто приходилось выпивать. Как правило, на встречи я брал с собой записывающую «технику». Хотя она и миниатюрная, все равно ее наличие при тебе представляет опасность. Не дай Бог, тебя с ней прихватили бы. Это было бы прямым доказательством твоей принадлежности к спецслужбе.
– Как мне сказали ваши коллеги, в свое время вы получили очень хорошую спецподготовку.
– Мне повезло. Когда я учился в институте, у меня было два великих учителя – Юрий Н., в свое время он работал с Абелем, и Анатолий Яцков, осужденный в Штатах за добычу секретов атомной бомбы. С Яцковым мы каждый день встречались, постоянно общались, но я не знал тогда, чем он занимался раньше, не знал, какой это выдающийся разведчик. Он рассказывал о способах ведения научно-технической разведки, о том, с какими ситуациями ему приходилось стыкаться в работе. И только потом, уже когда работал, я узнал, кто он. Приятно было узнать, что в девяностые годы ему присвоено звание Героя России.
– Если вы своим учителем назвали Яцкова, значит, вы училисьв Москве?
– Да, в Краснознаменном институте имени Андропова.
– А до этого у вас, наверное, уже была какая-то гражданская специальность?
– Авиационная техника.
– Чему учили вас в Институте Андропова?
– Прежде всего, очень сильно изучались иностранные языки. И не только. Там была разносторонняя подготовка. В частности, я научился играть в теннис. Потом это мне очень пригодилось, когда по долгу службы я стал посещать Американский клуб.
– В той стране, где вы работали, противостояние с американцами было?
– О, там была одна из наибольших их резидентур. И, конечно же, они искали любые возможности для того, чтобы нас обыграть, начиная от провокаций и заканчивая акциями возмездия. Это был наш главный противник.
– Американцы вели себя нагло?
– Сначала – да. Но потом, когда они начинают чувствовать, что ты можешь дать им отпор, тогда они начинают вести себя на равных, и уже начинается более интеллигентная, интеллектуальная игра. Помню, был такой случай. Один наш сотрудник, видимо, где-то расслабился. Короче говоря, они на него глаз положили. Как-то мы поехали с ним в клуб встречаться с американцами. А те обычно приезжают на своих машинах. И тут, вдруг, оказывается, что один из руководителей их резидентуры явился без машины. Мы с ним посидели, пообщались, выходим на улицу, и он говорит: «Так, кто меня отвезет домой?». И смотрит на моего коллегу: «Я поеду стобой!» И поехали. Потом наш сотрудник все рассказал. И хорошо, что рассказал. Оказалось, американец предлагал – поехали, мол, еще «погудим». Конечно, если бы он согласился, дальше пошла бы уже цепочка. Молодец парень, он сразу во всем сориентировался. Рассказал. Мы продумали оперативное мероприятие и потом для американца запустили «ответку». Конечно, для них прихватить оперативного сотрудника – это было бы невероятным успехом.
– Как было организовано ваше рабочее время? Судя по всему, нагрузки были невероятными.
– Бывало, что домой возвращаешься в три часа ночи, а в восемь утра уже начинается служба. Режим был такой: с 8 до 3–4 часов ты на работе, потом полчаса отдохнул и опять трудится, до позднего вечера. Перед важной встречей – как правило, трехчасовый проверочный маршрут. Ты колесишь по городу, отслеживаешь, нет ли «наружки»: А что делать? Однажды, было, приехал на встречу, посидели в ресторане, поговорили, собеседник уже ушел, я позже выхожу на улицу, вдруг вижу – к ресторану подъезжают две машины, из них выпрыгивают бойцы с автоматами и бегут в тот зал, где мы только что пребывали. Что это было – я так до сих пор и не знаю.
– Экстремальные ситуации часто бывали?
– Не так часто, но были. Например, в силу очень серьезных обстоятельств я пропустил основную встречу. Запасная на грани срыва. Что делать? Решили тупо применить одну классическую схему. Она состоит в том, что с территории посольства одновременно, выезжает больше десяти машин. Наблюдатели при этом обычно теряются. Словом, вывезли меня. Потом, как и положено, я пересел на такси, пару раз его сменил и, убедившись в том, что «хвоста» нет, провел встречу.
– Виталий Васильевич, вот вы закончили московский институт и за рубежом работали от Москвы, потом, вернувшись с командировки, работали в Киеве, в аппарате КГБ Украины. В связи с этим вопрос: какова была роль украинской разведки в системе ПГУ КГБ СССР?
– Роль была грандиозной. Переоценить невозможно. Во-первых, Украина была, как тогда говорили, «кузнецом кадров» для всесоюзной разведки. Во-вторых, многие, очень серьезные и очень важные, операции за рубежом Украина проводила самостоятельно. Украинская техническая разведка тоже была «на уровне». Часть полученных материалов мы, конечно же, передавали в Москву. Но одновременно с этим, довольно внушительный объем научных разработок, технологий, чертежей, которые представлялось возможным реализовать самостоятельно, мы оставляли здесь, в Украине. Их мы передавали в украинские научно-исследовательские институты и оборонные ведомства. Более того, от многих украинских научных учреждений и оборонных ведомств мы получали заказы. И тогда наша работа была еще более эффективной.
И в заключение нашей беседы хотел бы особо отметить: Советский Союз не был ущербным в научно-техническом плане. У нас были великие ученые, в том числе и лауреаты Нобелевской премии. И разведка в общем контексте научно-технической модернизации не было главной. Она играла роль вспомогательную.
Что касается дня сегодняшнего, Службы внешней разведки Украины, то хотелось бы обратить внимание на следующее: в нынешнем мире, мире информационных, психологических войн, в мире войны знаний, очень важно, чтобы руководство страны все-таки более серьезно воспринимало информацию, которую предоставляет ему Служба внешней разведки.
– Виталий Васильевич, большое спасибо за интересное интервью.
Судьба разведчика: Германия, Афган, спецназ…
Геннадий Сергеевич Лобачев – полковник в отставке. С 1961 года служил в органах госбезопасности на должностях офицерского оперативного и руководящего состава. В годы афганской войны руководил командой «Карпаты-1» спецназа КГБ «Каскад». С 1992 года по настоящее время работает в Торгово-промышленной палате Украины начальником управления.
Вот так коротко, буквально в несколько строк вмещается его официальная биография. Но что стоит за этими сухими биографическими данными? Какова судьба этого человека? Об этом и попытаемся рассказать читателю, представив его вниманию довольно объемное интервью с полковником Лобачевым.
Но прежде предоставим слово о Геннадии Лобачеве его боевому другу, коллеге по участию в афганских событиях, полковнику запаса СБУ Владимиру Покутному. Эти штрихи к портрету Г. С. Лобачева дают некоторое представление о том, насколько он колоритная личность сегодня.
«Прослышав, что Геннадий Лобачев в свое время командовал спецназом в Афганистане, – говорит Владимир Покутный, – командир военного гарнизона земли Верхняя Австрия и сотрудники полиции города Линца попросили его выступить с воспоминаниями о тех событиях. Геннадий Сергеевич сделал краткий доклад на немецком языке, а затем еще несколько часов отвечал на вопросы. По окончании встречи его пригласили поприсутствовать на национальных соревнованиях австрийских военных по стрельбе из штатного оружия. Всего в соревнованиях принимали участие более 200 стрелков, носящих погоны. Во время соревнований командиру предложили пострелять. Без полагающихся пробных он сделал серию из 10 выстрелов. После каждого выстрела наблюдающий в зрительную трубу офицер с нарастающим удивлением фиксировал, в основном: цейн (десять), цейн, цейн… Результат – 98 очков – поверг присутствующих в легкий шок. На следующий день утром в гостиницу явилась группа генералов и вручила полковнику кубок, диплом и денежную премию».
И еще: полковник Лобачев никогда не появляется на людях при своих наградах. Орден Красной звезды, серебряная медаль ГДР «Братство по оружию», высший знак отличия ТПП Украины «Золотой Меркурий», много других медалей и отличий свидетельствуют о его замечательном жизненном пути.
В начале нашего разговора прошу его рассказать о том, где он родился, где учился, как попал в органы госбезопасности.
– Родился в Луганске, 29 марта 1936 года. После окончания школы поступил в Киевский политехнический институт на механический факультет, в группу химического машиностроения. Учился почти на «отлично». Преддипломную практику проходил на киевском заводе «Большевик». И после зашиты диплома, он у меня был реальный – одна из разработок завода «Большевик», меня взяли на известное на весь Союз предприятие. Тогда при заводе создавался проектно-конструкторский институт, и меня приняли в конструкторский отдел. Проработал там почти три года, а потом поступило сразу два предложения. Одно – идти служить в органы госбезопасности, второе – работать инструктором промышленного отдела ЦК комсомола. После долгих раздумий и совета с отцом, а он всегда был для меня авторитетом, дал согласие служить в органах госбезопасности.
– Вам, наверное, пришлось еще доучиваться, получать специальную подготовку?
– Да, меня сразу же направили учиться в Москву, в так называемую школу № 101. Потом, спустя годы, этот вуз был переименован в Краснознаменный институт КГБ СССР имени Ю.В.Андропова.
– Расскажите, пожалуйста, коротко об учебе в этом таинственном высшем учебном заведении.
– Все там для меня было ново. Помню, перед началом занятий – собеседование. Меня спрашивают, чем я увлекаюсь в жизни. Говорю, мне очень нравится моя гражданская специальность – конструкторское дело, и, если будущая работа в органах будет хоть как-то пересекаться с техникой, с конструированием, – это будет здорово.
– Ну, и как, в будущем понадобились вам знания, приобретенные в политехническом институте?
– Вначале да, но в дальнейшем – в очень незначительной степени.
– Как вы себя чувствовали в этой 101-й школе?
– Нормально. Попал в «немецкую» группу. «Вы по внешнему виду очень смахиваете на немца, – сказали мне, – будете учить немецкий язык и специализироваться на немецкой тематике. А английский совершенствуйте». Два года я там старательно учился. Осваивал язык и, конечно же, получал специальную оперативную подготовку.
Все у меня получалось. На каком-то этапе я понял, что ко мне присматриваются для возможной подготовки в качестве нелегала. Но я косвенным образом дал понять, что это не для меня. Легальная разведка – это одно, нелегальная – совсем другое. А я довольно объективно и четко оцениваю свои способности и возможности.
– Куда вас распределили по окончании 101-й школы?
– Попросился в Киев. А уже тут меня «трудоустроили под крышу» в Академию наук. Вот где пригодились мои технические знания! Там я стал работать научным сотрудником-консультантом в секторе спецработ, где все исследования – секретные и совсекретные. Курировал все химические проекты. В том числе, – ракетное топливо и ракетостроение. Имел удовольствие познакомиться с Янгелем, с Королевым, с Келдышем и другими видными учеными, которые работали в этом направлении.
– Скажите, а в Академии наук знали, что вы являетесь действующим офицером госбезопасности?
– О моем положении в Президиуме Академии наук знали всего несколько человек – начальник 1-го отдела, начальник отдела кадров, естественно, сам Президент Академии наук Борис Евгеньевич Патон, Главный ученый секретарь и начальник сектора спецработ. Вот круг людей, которые в силу служебной необходимости знали.
У меня был особый режим работы. Никто меня от работы в аппарате КГБ не освобождал. В Академии работал полный рабочий день, а всю основную комитетскую работу приходилось делать вечером. Тогда это было нормальной практикой. Допоздна не только я один сидел, но и многие другие сотрудники, даже те, которые не «под крышей» работали.
Если ты работаешь с нелегалом
– Как сложилась дальше ваша судьба? Знаю, что, спустя несколько лет, в 1969 году вас направили в ГДР. Вы работали там в легальной резидентуре?
– Да, это была легальная резидентура, аппарат Уполномоченного КГБ СССР при МГБ ГДР.
– Чем вы там занимались? Понимаю: легко спросить– трудно ответить, и тем не менее…
– По прибытии туда сразу же был направлен в Герскую разведгруппу. Вся ГДР была разделена на округа, и в каждом округе была своя разведгруппа.
Что могу рассказать о той работе? Как известно, разведка – это добывание секретов. Военных, политических, экономических, научно-технических. Для этого приобретаются источники. Кто-то под подписку, кто-то – без нее. Кто-то «втемную», кто-то «всветлую». Всем сотрудникам разведгрупп в округах, какой бы работой они не занимались, обязательно давалась так называемая «Линия «Н» – нелегальная разведка. Работа по этому направлению предполагает подбор кандидатов для работы в нелегальной разведке и решение вопросов их документирования.
– Вот об этом подробнее.
– Каждому нелегалу сплетается (разрабатывается) «легенда». То есть вымышленная биография. И под каждый временной этап этой «легенды» должны быть документы подтверждения. Если нелегал попадает в поле зрения контрразведки и начинается проверка, его «легенда» должна подтверждаться документально. И потом, конечно, предстояла работа с выведенным «в поле» нелегалом. Секретность – она везде секретность. И если ты работаешь с нелегалом, то уже чисто по-человечески с ним становишься близким, как бы срастаешься с ним душой, ведь мы оба делаем одно общее дело. И ты уже стараешься сделать все, подстраховать, чтобы он ни при каких обстоятельствах не «прокололся». А если он вдруг «загорелся», необходимо вовремя его «выдернуть». Нелегалы – это очень и очень серьезная категория людей, особенно, если они – наши соотечественники.
– Вы работали «под крышей»?
– Никакой «крыши» не было.
– Но вы же не представлялись немцем: «Геннадий Лобачев, советский разведчик»?
– Нет, конечно. Герская разведгруппа находилась на территории Советско-германского акционерного общества «Висмут», которое занималось добычей урановой руды. Прикрывался иногда этой «фирмой».
– Сколько лет вы проработали в Германии?
– Обычно подобная командировка длится три, максимум четыре года. Я же проработал шесть лет.
– У вас, наверное, были серьезные источники?
– Было несколько перспективных приобретений по линии научно-технической разведки, несколько источников из числа сотрудников криминальной полиции, очень сильных оперативных работников. Они сами для себя приобретали вспомогательную агентуру. Самое главное было для нас – сохранить их от самих немцев. Гедеэровцы очень ревностно относились к малейшим нашим успехам. Вот если они знают о каком-либо нашем источнике – вроде бы все нормально. Но если не знают… А нам, конечно же, интереснее было иметь свою агентуру, напрямую работающую на нас.
Сложилось так, что лучшие результаты получились у меня по нелегальному направлению, – по подбору кандидатов и, особенно, – по линии документации.
Во главе спецназа КГБ
– По возвращении из ГДР вы несколько лет работали в Первом управлении КГБ Украины. Потом была, наверное, самая главная ваша загранкомандировка – вы возглавляли одну из команд спецназа КГБ в Афганистане.
– За прошедшие 26 лет «афганская одиссея» постоянно живет в моей памяти, теперь, правда, реже, но все же приходит в сны. После возвращения из Афганистана долго еще схватывался среди ночи в смутной тревоге, что не могу найти под подушкой оружие. А снились мне чаще всего почему-то полеты на вертолете, выполняющем боевые виражи.
– В последнее время у нас, в Украине, по конъюнктурным соображениям и в угоду националистическим силам все чаще предпринимаются попытки переписать историю.
– Вообще-то ничего нового в этом нет. Мы это уже проходили. У нас и раньше история громадной страны корректировалась в угоду каждому новому политическому лидеру.
– Поэтому по прошествии многих лет свидетельства очевидцев афганской драмы должны сыграть не последнюю роль в честной и объективной подаче исторических фактов. До сих пор в афганских событиях остается много белых пятен, и, возможно, только наши дети и внуки разберутся в тех событиях глубже, чем мы.
– Общеизвестно, что любая армия по собственной инициативе не воюет – она только выполняет волю высшего государственного и политического руководства своей страны. Правда, за это приходится расплачиваться не ему, руководству, а тем, кто воюет, и довольно часто, если не своей жизнью, то жизнью и здоровьем своих боевых товарищей, горем жен и матерей, сиротством детей.
– Геннадий Сергеевич, как вы и ваш друзья – «афганцы» чувствуете себя сегодня?
– По данным Украинского союза ветеранов Афганистана, в Украине проживает 160 тысяч участников той войны, 3 тысяч 2 8 0 украинцев погибло, 6 тысяч стали инвалидами, 711 сирот остались без надежной государственной поддержки, и им помогают только сами бывшие воины. На сегодняшний день многие семьи «афганцев» не имеют своих квартир, а инвалиды – достаточно медпрепаратов, протезов и инвалидных колясок. Приходится продолжать войну, только на этот раз врагами стали болезни и бедность, многие неплохие в прошлом солдаты оказались неспособными биться на житейском фронте в одиночку.
Каждый переворот заканчивался насильственной смертью
– Прежде, чем мы поговорим об участии в афганской войне возглавляемого вами отряда спецназначения «Карпаты-1», давайте сделаем небольшой экскурс в историю, чтобы обрисовать для наших читателей тот исторический контекст, в котором состоялся ввод советских войск в Афганистан.
– Вначале позволю себе одну крамольную мысль: афганцы большие любители повоевать, преследуя при этом и меркантильные интересы. Они извечно были в первую очередь воинами, а уже потом скотоводами и земледельцами. Для мальчишки первой игрушкой становились пустые гильзы, а то и боевые патроны. Гордый, независимый и свободолюбивый народ вообще не привык кому-либо подчиняться, поэтому все правители Афганистана предпочитали жить в дружбе с вождями кочевых племен, а правителей в стране сменилось немало, и каждый переворот заканчивался насильственной смертью очередного эмира или короля. Так что решение вопросов власти и политики кровавым путем – дело в Афгане обычное.
– Но в последние годы, перед вводом советских войск, ситуация там особо обострилась.
– Да, это так. И точкой отчета здесь можно считать 1973 год. Тогда группа афганских офицеров свергла с престола находившегося на лечении в Европе короля Захир Шаха Мохаммеда, занимавшего престол около 40 лет, и передала всю полноту власти его двоюродному брату Мохаммеду Дауду, который до этого более 10 лет занимал пост премьер-министра. Дауд после переворота провозгласил Афганистан республикой, а себя – президентом. С того времени в стране не затихал водоворот заговоров, путчей, переворотов. Все события тех лет связывали, и небезосновательно, с «рукой Кремля», так как каждый из новоиспеченных «вождей» начинал строить свой социализм – это было тогда так модно. И как результат: в Афганистане на политическую арену выдвинулась грозная сила исламского фундаментализма, которая поклялась огнем выжечь с земли Аллаха «московских ставленников». Уже к началу 80-х годов на территории сопредельного Пакистана при прямой поддержке правительства и американцев началось зарождение исламского радикального движения, получившего позднее название «Талибан». К идеологическому и финансовому пестованию талибов приложила руку Саудовская Аравия, но особенно старались американцы, о чем позднее здорово пожалеют, когда в афганском вопросе «наступят на наши грабли».
Многое изменила Апрельская революция 1978 года, когда к власти пришла созданная еще в 1965 году НДПА – Народно-демократическая партия Афганистана во главе с поэтом Нур Мохаммедом Тараки, сразу же заявившая о своей приверженности марксистско-ленинской идеологии и построению социализма.