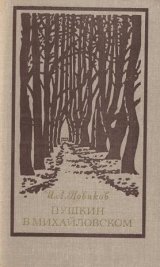
Текст книги "Пушкин в Михайловском"
Автор книги: Иван Новиков
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Но каждый почти из гневных его и укоряющих возгласов наталкивался на глухую стену непонимания. Отойдя от первого испуга, порой выдвигал Сергей Львович и до смешного курьезные доводы:
– Но как же, скажи, не развращаешь ты Льва и сестру, когда не дальше как в прошлый четверг я читал им Мольера, а ты вошел и сказал, перебивая отца: «Кажется, туча прошла, едем в Тригорское!»
В другое бы время Пушкин весело захохотал при таких обвинениях, но теперь было ему не до смеху, и запальчиво он возражал:
– Нет, это вы развращаете Льва, и уже по-настоящему!
– Чем это?
– А тем, что вы и его подвергаете тайным допросам: что я говорил да от кого эти письма… Вам не довольно того, что вы сами прочли письмо от Раевского? Не отпирайтесь! Я вам могу доказать.
– Лежало письмо… Я уважаю Раевских… Несколько фраз… Пустяки. А ты… когда это было?.. Да третьего дня! Помнишь, Надин? Ольга сидела в столовой, а ты проходишь вдруг мимо, стыдно сказать, в белых подштанниках…
– И тем развращаю сестру?
– И тем развращаешь сестру! А равно и своим афеизмом.
В конце концов Сергей Львович не мог отрицать одного: что предложение Пещурова было им принято.
Пушкин, помедлив, воскликнул:
– И только подумать, что вы – мой отец! Как могло это статься? Вас запугали…
Старшие Пушкины оба молчали, а Александр, уже отгорев, почувствовал, что продолжать было б напрасно. В душе его была горечь и пустота. Так долго откладывал он разговор… вот наконец он состоялся… и что же? Да ничего! Как если бы именно говорил в пустоту…
Но, прежде чем вовсе покинуть родителей, он повторил еще раз с последней внушительностью:
– Этого больше быть не должно! Я требую этого и говорю вам в последний раз.
Он хотел повернуться и выйти, по теперь, когда все миновало, объяснение прошло, – самое трудное оказалось уйти, сделать простой поворот; и ноги как бы онемели. После того необычного, что только что было, именно самое обыкновенное стало особенно трудным. Однако же Пушкин круто повел плечом и тем преодолел эту свою мороку; он вышел из комнаты, не произнеся больше ни слова.
Льва уже не было, но за дверями в коридоре ждала его Ольга. На бледных обычно щеках ее разлит был горячий румянец.
– Я останусь с тобой! Они тебя не понимают… Я останусь с тобой! – твердила она, и на глазах ее были слезы.
Пушкин сжал руку сестры; и рука была горяча. Впрочем, он мало что в эту минуту соображал. Объяснение с отцом потрясло его. Как ни мало они были близки и как ни был в раздражении Пушкин горяч, все же такой разговор сына с отцом произошел в первый раз; это было крушением всего уклада семьи, где повышали голос всегда одни только старшие. Молчание родителей глухо давило его, и оттого он даже с каким-то освобождением испустил вздох из стесненной груди, когда послышался крик отца. Ольга, совсем как тогда у Ганнибала, в испуге прижалась к нему.
– Ничего… ничего… – говорил Александр, одною рукой обнимая ее, а другой проводя сжатыми пальцами по вдруг завлажневшему лбу. – Ничего!
Было слышно, как Сергей Львович с силой толкнул у себя оконную раму. Последний и крайний испуг его возник оттого, что ему показалось, будто бы Александр их снаружи запер на ключ. Это повергло его в минутное оцепенение, и, когда оно минуло, он рванулся к окну.
– Люди! Сюда! – раздался его громогласный, отчаянный визг, и сразу же во всех концах дома послышался шум: да, поднялась беготня, как если бы в лесной муравейник сунули палку.
На кухне рубили котлеты, и ровное туканье это также внезапно замолкло, сменившись на миг тишиной, а затем громко захлопали двери: все, как видно, устремились сюда…
– Уйдем! – И Ольга насильно почти увела с собой брата.
Впрочем, им по дороге попались уже и дворовые девушки, бросившие свои кружева и вышиванья и бежавшие на дикий вопль барина, как бегут, повинуясь зову набата.
В комнату Ольги Пушкин заглядывал редко. У нее была чистота, белизна, образа; полочка книг.
– Ты не боишься? – И он распахнул настежь окно.
За окном была тишина. Все тот же нахохленный мокрый индюк, что в первое утро после приезда напомнил отца, по-осеннему никло копался в навозе.
Пушкин стоял, вдыхая прохладу и напряженно прислушиваясь ко множеству звуков, ходивших по дому и сливавшихся в общий неразборчивый гул. Но вот и опять, надо всем поднимаясь, все покрывая, послышался голос отца. Он, видимо, был теперь уже в коридоре и, верно, махая руками, кричал – прерывисто, тонко:
– Он меня бил!.. Он замахнулся!.. Он хотел вот сюда!.. Он мог бы ударить, прибить!
Пушкин не верил ушам. Самая обыкновенная человеческая злость – на трусость, на глупость, на клевету – с огромною силой охватила его. Он забыл и про Ольгу и со всей полнотою экспрессии, хоть и негромко, вдруг произнес за окно «русский титул». Это бывало с ним редко, но это всегда освежало. Однако же Ольга как будто не поняла пли не вовсе расслышала, потому что невинно она переспросила:
– Что ты сказал?
– Ты разве здесь? – обернулся к ней брат. – Да, я просил… Будь так добра, принеси мне стакан воды.
Когда сестра вышла, он дал себе волю, и его хорошо расслышал индюк под окном, немедленно давший свой отзыв. Так на некоторое время и оставался он единственным собеседником Пушкина, пока не возвратилась Ольга Сергеевна со стаканом воды.
Глава восьмая В Тригорском
«Государь император высочайше соизволил меня послать в поместье моих родителей, думая тем облегчить их горесть и участь сына. Неважные обвинения правительства сильно подействовали на сердце моего отца и раздражили мнительность, простительную старости и нежной любви его к прочим детям. Решился для его спокойствия и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства Вашего превосх…»
Так Пушкин писал в тот самый день Адеркасу, псковскому губернатору, перебравшись совсем к Прасковье Александровне Осиповой, пока не уедут родители или каким-либо иным способом не разрешится дальнейшая его судьба. Он был поставлен в необходимость куда-то деваться, и Прасковья Александровна с радостью предоставила ему убежище у себя.
По дороге в Тригорское Пушкин обдумал свое положение и ясно представил себе полную его безвыходность. То, что отец при людях кричал тяжкие свои обвинения, грозило лишением чести, суровою карой. Тогда и решился он на этот отчаянный шаг. Но у него выбора не было.
Прасковью Александровну он попросил отправить эту бумагу во Псков. Она энергично пыталась его образумить. Но Пушкин не слушал советов. Он и на нее рассердился.
– Чего же хотите вы? Чтоб меня арестовали и посадили в тюрьму? Если вам жаль лошадей, я найму у мужиков телегу или сам отправлюсь пешком!
Он был в большом возбуждении и, когда писал Адеркасу, порою вставал, мочил полотенце и прикладывал к горячему лбу. Но тут, в разговоре с Прасковьей Александровной, он все же опомнился и, наклонившись к руке ее, просил извинения.
– Как мог я сказать эту глупость про лошадей, что вам, может быть, жаль… Прогоните меня.
В ответ и она целовала его в горячий висок, вдыхая его особенный запах волос. Казалось бы: мир, но через минуту Пушкин снова шумел и требовал послать верхового без замедления.
И верховой был отправлен. Пушкин сам передал ему пакет для губернатора. Осипова же строптивого гостя своего больше не уговаривала: верховой получил точный и строгий ее наказ. И этот наказ был таков: в дороге не торопиться; во Пскове с бумагой ни к кому не являться: пробыть там три дня и вернуться назад, объяснив, что запоздал из-за распутицы и что губернатора не было в городе, а чиновникам важной бумаги не решился доверить: и, наконец, таить это все как строжайшую тайну. Так хотела она выиграть время.
По ее же совету Пушкин немного спустя написал и Жуковскому. Письмо это вышло также взволнованным.
Рассказав происшедшую сцену и передав все отцовские выкрики, Пушкин спрашивал старшего друга: «Перед тобою не оправдываюсь. Но чего же он хочет для меня с уголовным своим обвинением? рудников сибирских и лишения чести? Спаси меня хоть крепостию, хоть Соловецким монастырем. Не говорю тебе о том, что терпят за меня брат и сестра, – еще раз спаси меня».
Пушкину снова пригрезились ужасы юности, как собирались его высылать в Сибирь или на Соловки. Тогда его спас, через Карамзина, Чаадаев, – теперь прибегал он к Жуковскому, которому вовсе недавно писал, полностью тогда еще не открываясь; однако ж и в том письме он уже слал поклоны Карамзиным, точно предчувствуя, что скоро опять бури зашумят над головой…
И, уже кончив письмо, приписал: «Поспеши: обвинение отца известно всему дому. Никто не верит, но все его повторяют. Соседи знают. Я с ними не хочу объясняться – дойдет до правительства, посуди, что будет. Доказывать по суду клевету отца для меня ужасно, а на меня и суда нет. Я вне закона». И уже совсем под конец признавался, что написал и губернатору.
Прасковья Александровна утратила в эти дни сладкий свой деревенский сон. На все лады прикидывала она создавшееся положение и искала из него выхода. Это было много трудней, чем любое, хотя бы и самое сложное, хозяйственное дело. В одном она не раскаивалась: что затормозила письмо. Посоветовав Пушкину обратиться к Жуковскому, она и сама написала ему, хоть и не была с ним знакома.
В этом письме говорила она о Пушкине как о человеке, который «действует прежде, а обдумывает после», а о просьбе его к Адеркасу – что она «все то сделала, что могла, чтобы предупредить следствие оной». «…Помогите ему там, где вы; а я, пользуясь несколько его дружбою и доверенностью, постараюсь если не угасить вулкан, то по крайней мере направить путь лавы безвредно для него…»
В планы свои относительно письма Пушкина к губернатору она посвятила и Льва, который наконец уезжал, получив назначение, в Петербург. Да и сам Александр велел ему побывать непременно и у Жуковского. На проводы брата домой он не собирался. Они порешили, что Лев по пути заедет в Тригорское.
Наступили дни ожидания, но Пушкин не переставал работать. Лев увозил для печати первую главу «Онегина», и Пушкин приводил в порядок свои примечания. Под впечатлением посещения Петра Абрамовича он написал теперь и о прадеде, помянув и Лагань, плывущую следом за братом.
В эти тревожные дни размышлял он по-прежнему и о побеге, даже, может быть, больше, чем когда-либо: это одним ударом разрубало весь узел. Но странное дело: ко всем этим мыслям, ставшим уже привычными и почти постоянными, примешивалось теперь и некоторое раздумье.
Так брату писал на прощанье:
Презрев и голос укоризны,
И зовы сладостных надежд,
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд.
. . . . .
Благослови побег поэта.
И тут же внезапно усталой рукой чертил о себе:
Умолкнет он под небом дальним
Один. . печальным
Угаснет в чуждой стороне.
Тут было, конечно, и личное: отрезать себя от всяких возможностей когда-нибудь встретиться… Страстная жажда увидеть Элиз порой бушевала в нем с такою же силой, как порывистый ветер в лесу, когда возвращался от Ганнибала. Ссылка и ссора с отцом, потрясение дружбы, разлука с любимой женщиной – все это рождало порою мгновенную мысль даже о самоубийстве. Так было с ним всего еще раз – в Петербурге, когда граф Федор Иванович Толстой-Американец распустил про него слух, что его пригласили в Тайную канцелярию и там высекли. Он и теперь вспоминает об этом, готовясь к дуэли с клеветником. Но если б тогда он это сделал, он только подтвердил бы тем самым позорившую его молву. Не было ли бы отчасти то же самое и теперь?..
Но было, кроме того, и нечто другое, что не позволяло ему так собою распорядиться. Это, может быть, было б легко там, в Петербурге, когда личная жизнь его шумела и пенилась в узком бокале; там разбивали не раз на попойках такие бокалы, внимая печально-веселому звону стекла… Теперь же и самая жизнь крепко держала его, он связан был с нею тысячью нитей и прежде всего своею работой. Так же казалось порою легко и на юге – шагнуть и отплыть из неласковой отчизны своей. Но и тогда уже он, в стихах своих «К морю», крепко задумывался: что же найдет он за рубежом? Он всегда страстно хотел путешествовать с другом своим Чаадаевым, к которому чувствовал настоящее уважение, как ни к кому, быть может, другому, и теперь только так и мыслил себе запретное это путешествие: поехать прямо к нему… Но одно дело путешествовать и другое – проститься с отчизной навек. Что мог он там делать? Он увез бы с собой единственно пафос борьбы, скованной здесь; но и там – не звучал ли бы он в пустоте?
Он отнюдь не хотел себя ограничивать. Эта стихия борьбы, и борьбы политической именно, также просила свободы для своего проявления, но ведь единственный меч его – слово, стихи! И он размышлял: можно ли было вовсе ему покинуть отечество, оторваться от своего родного и милого, – не вырвешь ли вместе с тем с корнем и собственную – именно творческую жизнь? И самая эта отчизна, быть может, к нему обернувшаяся и еще посуровей, чем раньше, не отпускает и дышит одновременно и каким-то теплым дыханием. И разрешение ли это вопроса: покинуть ее, когда вот и этот простор, и предвкушаемая рабочая тишина зовут его к творчеству, сосредоточенному и большому?
И как еще надо во всем разобраться? А разобраться для Пушкина значило: мыслить в процессе работы, и мыслить именно образами.
Все это, конечно, не сразу и не полностью, ложилось в сознание: слишком оно было занято острой борьбой, душевным тем неуютом и беспорядком, в котором, как тучи, громоздясь одна на другую, теснились: и ревность, и подозрения, и горечь гонения, и едкие мысли о славе, о женской любви, и оскорбления отца, и неразрешенный конфликт… Такова была его «скука». Но глубже, как бы под землей, откуда на свет еще не пробились едва прораставшие зерна, уже ощутимо рождалось предчувствие богатых творческих дней.
Шла осень – пора, когда Пушкину особенно крепко работалось; пора, когда жаркое лето сменялось уже предвкушением мороза; так было и у него: уже была на пороге тишина одиночества, исполненная буйной внутренней жизни. И на грани этих двух стихий, сопутствующих всякому творчеству – внутреннего огня чувства и мысли и холодного ясного мастерства, – было похоже на то, как поначалу отпотевает стекло, позже, в дыханье мороза, давая уже и узоры тропических знойных цветов. Это спокойное формирование и дозревание образов, в которые вливается мысль и самая жизнь, Пушкин уже и теперь ощущал в полную меру, невзирая на все кочевое свое неустройство.
Так уже и теперь эта его боевая приподнятость и настороженность вливались и в широкое русло «Онегина». И странное дело, здесь сразу же дыхание становилось свободнее, легче, и невольно он ослаблял напряжение своей тетивы, которое делало его уединенные выпады подобными именно полету стрелы.
За эти горячие деревенские дни он набросал и сатиру на милых девиц, его окружавших:
Но ты, губерния Псковская,
Теплица юных дней моих,
Что может быть, страна пустая.
Несносней барышень твоих?
Эту строфу, однако же, он поленился отделать и вообще несносных барышень пожалел… Да и то сказать: ведь бывали минуты, когда казались они гораздо милее.
Впрочем, и все окружающее в широте онегинских строф становилось отчасти как бы лишь эпизодом, и дуновение легкого юмора проносилось над строками, как ветерок. Так бегло он вспомнил и того самого Толстого-Американца, для встречи с которым готовился, стреляя из пистолета едва ли не каждое утро; так помянул и родных:
Гм! Гм! Читатель благородный,
Здорова ль ваша вся родня?
И, рассказав, что такое «родные» и как надо ласково с ними обходиться – «о рождестве их навещать», – он и с ними расставался беззлобно-легко:
Чтоб остальное время года
Не думали о нас они…
Итак, дай бог им долги дни.
Шутливые строки он посвятил и самой Воронцовой – милой мучительнице. Правда, любовь надежнее дружбы, родства, но и она непрочна:
К тому ж и мнения супруга
Для добродетельной жены
Всегда почтенны быть должны…
«Онегин» кипел, переливался и искрился, и он был так же широк и вместителен, как и чаша озер и всего горизонта с этими водами, лесами, полями и небом над ним. Богаче «Онегина» и шире окрестного мира был только сам Пушкин. Он был и все это, и еще поднимался над этим; больше того, он умел подниматься и над собою самим.
Александр каждый день ждал возвращения посланца из Пскова, но свой распорядок дня почти не менял: и в Тригорском все так же до обеда работал, лишь выходя пострелять (на охоту он никогда не ходил и знал лишь одни пистолеты), после обеда ездил верхом, вечером все вместе болтали или сражались в дурачки, а то и в короли, слушал музыку, пение. Погода все время стояла дурная.
Ссора была у всех на виду, как обнаженная рана, но в доме о ней старались не говорить. В другие же думы свои Пушкин никого не пускал, и разве одна лишь Прасковья Александровна кое-что знала и кое о чем подозревала. С нею и вообще Пушкин всегда говорил и доверчивее, и более серьезно, чем с другими: пожалуй что, между всех женщин усадьбы она одна была по-настоящему от природы умна. Бывало, он с ней горячо рассуждал и о восстании греков, об Ипсиланти, о мерах правительства и о цензурном уставе (как раз он писал и стихотворное послание цензору), даже о Каменке и о друзьях, обретенных там.
Временно эти их разговоры угасли. Но все ж почти ежедневно к ней выходил Александр поболтать и рассеяться. Она была рада, что он не говорит больше о крепости и об отце. Может быть, как-нибудь все и обойдется! Старшие Пушкины дулись на нее, она это знала, но и вообще-то не слишком серьезно к ним относилась: они отчасти смешили ее своей бесхозяйственностью и нарочитой всегдашней приподнятостью. Как Александр был на них не похож! Он был и самый простой, и какой же особенный!
Он был простой. В последние дни в их разговорах даже возникла интимность особого рода. Часто теперь почему-то он говорил с нею о детях, да и не только о детях, но и о родах – о трудности их, и как вообще это бывает, даже о сроках и о наследственности: как часто выходят в отца и кто чаще – девочки или мальчики.
Все это были отголоски его сокрытых дум. Черный ребенок и белая мать все продолжали тревожить его воображение: «Ты – Ганнибал!» Досель он ни разу об этаких странных вещах не помышлял, да и вообще мысль о ребенке впервые была для него практическим личным вопросом.
И так для себя непривычно Пушкин порою теперь вспоминал и о разной другой детворе (всё это были девочки): и о сиротке Софианос, любимице своей – маленькой гречанке, у которой отец погиб в битве с турками при местечке Скуляны; и о девочке Гурьевой, тяжело заболевшей перед самым его отъездом из Одессы; и у Веры Федоровны спрашивал о здоровье ее детей, которых она привезла поправляться на юг. Правда, при этом отчасти он и лукавил. Наденьку Вяземскую прозвал он в Одессе Мили, это было созвучно со словом миленькая, как он матери и объяснил, но это же было и сокращением слова миледи, как называл за глаза Воронцову. Вера Федоровна тогда же вывела его на чистую воду, и, спрашивая о здоровье Мили, ничуть он не сомневался, что она хорошо поймет эту двойственность горячего запроса… Такие условности и полунамеки были обычны для их переписки.
Пушкин утром работал, как и обычно, и молодежь, заскучав, ушла по грибы. Однако ему нынче плохо писалось, он все поджидал, что Лев, отбывавший в столицу сегодня, заедет проститься. Но и вообще мысли его были рассеянны. Он почему-то все вспоминал Кишинев. Как же привык он к этому городку! Часто ему не хватало и Инзова. С ним были связаны по только ведь анекдоты тамошнего его бытия или отеческие аресты; и не одно даже тепло и благодушие, шедшее от этого спокойного и ясного, как летний закат, человека. У Инзова был свой круг интересов и философского, и морального свойства. Благородство французских идей конца восемнадцатого века преломлялось в нем с особою русской душевною мягкостью. И он был верен тому, во что верил. Кажется, это был единственный человек из тех, кого знал Пушкин, у которого в доме ни одного слуги не было из крепостных, – все были вольнонаемные. Он часто о нем беседовал с Прасковьей Александровной, и сейчас его тоже потянуло к своей гостеприимной хозяйке.
Точно бы он угадал. Ему плохо писалось, ей плохо работалось. В гостиной она сидела одна. Работа лежала на столике рядом, по руки бездействовали. Тишина во всем доме склоняла к раздумью. Как он угадал, что вошел!
Пушкин вошел, помолчал, походил и остановился на отдалении.
– Вот: кому трудно с отцом, а ей без отца очень трудно. Когда меня, можно сказать, передавали от Инзова к Воронцову, я, расставаясь с Иваном Никитичем, о ней ему говорил, чтобы не забывал и помог.
– Вы все об этой девчурке своей, о Софиапос?
– Вы угадали, о ней. Ну, а кому трудно с отцом?
– Вот уж этого, пожалуй что, я и не отгадаю, – не без лукавства улыбнулась Осипова.
– Странное дело, – сказал Пушкин, садясь и уронив руки между колен. – О стариках и о детях я думаю как-то похоже. Да и в природе начало сходно с концом: заря и заря.
Прасковья Александровна сначала хотела было продолжить разговор об отце, ей очень хотелось, чтобы примирение все же как-нибудь состоялось: ведь и Сергей Львович близок к тому, чтобы его назвать стариком… Но Александр Сергеевич окончил так неожиданно! «Заря и заря», утро и вечер – это как рамка, что объемлет собою всю жизнь. Невольно подумалось ей и о себе, и она уже слышит порою дыхание этого вечера… и это ей кое-когда нелегко. А вот он, молодой, словно бы понимает все возрасты… Что за человек! Прасковья Александровна Пушкиным любовалась.
– И он подал мне мысль, Иван Никитич: девочку надо бы в Петербург, в Смольный. Что же, и хорошо, я бы ее там навещал… Ведь буду же снова когда-нибудь я в Петербурге! Я о ней написал и Жуковскому еще из Одессы, весною. Он обещал похлопотать, а кончил все же советами мне самому…
– Нравоучением?
– «Чертик, будь ангелом!» – он мне так написал.
Оба они рассмеялись.
– Правда, что это было как раз накануне моих именин. Но я все о том же ему и отсюда, вовсе недавно, писал. Надеюсь, что он в конце концов тронет-таки сердце Марии…
– Вы уже и самое императрицу по имени… запросто.
– А что ж, и она женщина, – улыбнулся Пушкин.
И понемногу они разболтались. Пушкин и оживился и повеселел. Еще вчера от нечего делать они стали считаться свойством. Свойство это было очень простое: родная сестра ее Лиза, у которой все лето гостил и уехал оттуда прямо в Дерпт, к брату, второй ее сын Мишенька Осипов, была замужем за Яковом Исаковичем Ганнибалом, двоюродным дядею Пушкина. Но Александру, видимо, хотелось рассеяться, и он принялся, как и вчера, приплетать от себя кучу всяких побочных имен, путаясь в них, конечно, нарочно, но все же отчасти как бы всерьез. Потом перешли опять на Кишинев, как Екатерина Хрнстофоровна Крупенская (у которой и жила девочка Софианос), когда сама воспитывалась в Смольном, уверяла, что происходит из славного царского рода Комненов. Оба они болтали, смеялись, как если бы вовсе и не было никаких тягостных осложнений, и сама Прасковья Александровна забыла и думать о каком-либо собственном вечере и о закате…
Ненастье прошло. Сегодняшний день был тихий и солнечный, ровный. Одно из окон было даже отворено, и оттуда глядел просторный уже по-осеннему, весь облетевший сад. Пушкин на этом северном фоне был особенно ярок. Казалось, что знойное лето и юг, хотя и прикровенно, но оттого, может быть, особенно жарко и полно, дышали сквозь его смуглую кожу. Прасковье Александровне удалось-таки его разговорить! Но когда он принялся вспоминать, как, бывало, надоедали плацинды и каймаки у всех других кишиневских друзей и какой зато у Крупенских подавался хороший русский обед, в ней пробудилась хозяйка:
– А опенки в сметане вы любите?
– Да, отчего ж…
– Я с ними послала телегу и две большие корзины. Хотите, пойдемте навстречу?
Но в ту же минуту на террасе раздались, вперебивку со смехом, молодые девичьи голоса, и тотчас же вбежала Евпраксия.
– Мамочка, мама! Пушкин!.. Как же мы хорошо нагулялись! – И она закружилась но комнате, раздувая легкую юбку.
Девушки все раскраснелись, они были веселы: рады, что много грибов и что сразу напали на Пушкина. Анна прямо к нему подошла и, минуя мать, протянула небольшой букетик последних осенних цветов; тут были тощеньких два василька, живокость, тмин, белая кашка и горстка ромашек.
– Это для вас.
У нее были тихие дни. Романа никакого пока не выходило, но она была счастлива и как-то спокойна, что Пушкин у них и спит под одной с ними кровлей. Мать подобрала недовольно губу. Лицо ее стало суровей, но в эту минуту внезапно она, чуть побледнев, стала красивой по-настоящему. Пушкин внимательно на нее поглядел, но от дочери принял цветы.
– А что вам приготовила я-а! – шепотком протянула Евпраксия и сделала рожицу преуморительную.
– А где же грибы? – промолвила сдержанно мать. – Мы опоздаем их жарить к обеду. Александр Сергеевич их любит.
– Ох… Опенок – возы! Вот столько! – И, дурачась, Евпраксия показала руками впереди живота и даже поколыхалась: так тяжело было тащить!..
Со двора как раз донеслись скрипы телеги. Верно, там Валериан сидел над добычей, охраняя корзины с грибами. Он был шалун, но и следил за добром по-хозяйски.
Пушкин Анну поблагодарил за цветы, но, хорошенько не зная, что с ними делать, полурассеянно их положил на подоконник. Однако же в нем все возрастало это ощущение вновь обретенной легкости. Погожий осенний денек, сменивший ненастье, нежаркое солнце в открытом окне, юность, принесшая запахи леса: как дуновением ветра, все это смывало в нем горечь тайных его размышлений. Непроизвольно почувствовал он прозрачную ясную осень и себя на земле, и было прекрасно дышать этим солнцем прохлады.
Обе сестры были очень милы, он им улыбался, но между тем отводил глаза и на Алину. Девушка эта всегда занимала его воображение. Над ней он немного подшучивал, случалось, и вместе смеялись, но чувствовал неизменно, что вот у нее – успеха он не имел. Так и сейчас – спокойная, ровная, странно она привлекала его. От долгой ходьбы и от смолистого осеннего воздуха она зарозовела, как все, и если матовая обычная ее белизна очень к ней шла, то кровь, прилившая к коже, делала ее еще больше хорошенькой и совсем не холодной – напротив… Тут бы как раз и подойти, но Пушкин уже ощущал знакомую робость. Это всегда было признаком неподдельного движения чувства… И он с ним не боролся.
От Прасковьи Александровны не укрылось и тайное это смущение, ничем почти вовсе не выраженное. Она и сама взволновалась и… ревновала. За ней, в свою очередь незамечаемая, со всей свежестью юного любопытства следила Евпраксия.
Но вот раздалось на террасе чье-то пыхтенье, и показалась корзина в дверях, за ней Валериан. Мальчик похож был на деловитого муравья, толкавшего перед собой огромную тяжесть. Мускулы его были напряжены, щеки пылали. Он не утерпел, чтобы не похвастаться перед матерью, и, рискуя, что она на него заворчит, притащил-таки одну корзину сюда. В ручку был всунут большущий пук осенней багряной листвы: веточки клена, осины.
Евпраксия мигом забыла свои наблюдения и, выхватив этот древесный букет, поднесла его Пушкину, проделав при этом глубокий и затейливый реверанс. Он ее обнял вместе со всеми этими ветками.
– Вот теперь уж, наверное, вы стали толще меня!
Он ее часто дразнил этой ее полнотой. На минуту их лица, затерявшись в прохладной листве, сблизились больше, чем это было видно со стороны… Но случилось так вовсе нечаянно и совсем простодушно.
Легкому напряжению, создававшемуся в комнате, теперь-то, казалось бы, и разрядиться, но внезапно на сцену выступил Валериан. Когда все любовались грудами нежных, по плотных, холодноватых грибов, мальчик вдруг выпалил Пушкину прямо в лицо – к истинному ужасу старших:
– А мы повстречали в лесу Сергей Львовича! А нам Сергей Львович сказал…
– Валериан, не выдумывай! – строго поглядела на него Anna.
– А я бы выдумать так не сумел. Все слышали, как он говорил… – И замолчал, наклонившись бычком и пристально разглядывая собственные ноги.
– Ну и что же? – спросил мрачно Пушкин. – Что ж именно говорил Сергей Львович в лесу близким соседям?
– Да вы знаете сами! – И Валериан, красный, надувшийся, поднял глаза и быстро договорил: – Что вы непристойно махали руками… да как вы осмелились…
– Ну, знаешь, довольно! – оборвал его Пушкин и отвернулся к окну; было заметно, как у него вспыхнули уши.
Итак, передышка была вовсе короткой: горячая ссора с отцом снова его настигала, усугублялась. И оттого, что известие это пало внезапно в минуту умиротворения, действие его было особенно острым. Пушкин, как бы от боли, повел плечами и крепко сжал пальцы низко опущенных рук.
– Что щиплешься? Дура! – вдруг закричал Валериан на Зизи; но мать так взглянула на мальчика, что он мигом замолк.
Тогда, среди неловкого общего молчания, вступила Алина и спокойно сказала:
– Он просил передать, что вам есть письмо. Оно у него.
Пушкин порывисто обернулся. Этого еще недоставало! А что, ежели это письмо от Воронцовой? И оно – у отца! И как его взять у него, как вообще быть после всего, что между ними произошло и что… продолжалось? Да, отец продолжал неистовую свою болтовню.
Но вот он нечаянно встретился взглядом с Прасковьей Александровной. Его поразило, что стояла она, опершись щекой па ладонь: как деревенская баба, провожающая сына в рекруты.
– Я пойду, – сказал Пушкин и направился на террасу.
Он так был взволнован и занят мрачными своими мыслями, что даже не простился. Впрочем, в дверях он обернулся.
– Постойте, а можно на вашей телеге?
– Конечно…
Прасковья Александровна хотела бы его удержать, спросить, не вернется ли к ним, сказать, что сама пошлет за письмом… но не посмела. В Пушкине было то самое напряжение, которое порою и старого дядьку его делало немым.
В таком же молчанье и все вышли его проводить; все, кроме Алины. Она осталась в гостиной, подошла к клавесину и заиграла из «Сороки-воровки». Это была хорошо знакомая Пушкину сцена, как беглый солдат приходит на тайное свидание к дочери, а та при судье, забывшем дома очки, читает приказ об аресте отца, изменяя его приметы… Это никак не было связано прямо с его состоянием, но горячая напряженность положения, звуков пронзила его, и он быстро вскочил на телегу.
Но не за одну только музыку Пушкин был благодарен Алине. Ему вообще было бы лучше, если б из дому за ним не вышел никто. Ему было мучительно, что какая-то часть его «я» словно бы всем приоткрывалась. Ощущение это было и чисто физическим, как если бы в обществе вдруг обнаружилось, что был одет чересчур по-домашнему… Укрыться скорей!








