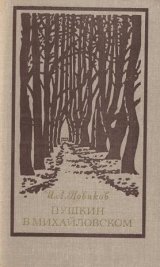
Текст книги "Пушкин в Михайловском"
Автор книги: Иван Новиков
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Лев хотел обернуться на скрип, но, поскользнувшись, чуть не упал.
– Что ж ты вернулся? Или сробел?
– Нет, он как кот через траву – резво бежит на свидание! А у тебя тут как в Тартаре…
– Ах, Александр! А я думал, что это Вульф воротился…
И они принялись болтать наперебой. Александр ему живописал свои псковские дни, Лев не скупился в ответ: врал и прикрашивал.
– Что, батюшка очень небось беспокоился?
Лев растирал брату спину.
– Ужасно боялся! Ставни сам затворял. И по ночам выходил на крыльцо – слушать, не едут ли…
– Кто?
– Арестовать всю семью! Не крепко так?
– Нет, ничего! Можно и крепче. Так что же отец? Эти огромные лужи на полу и то, как он чуть не упал, повернувшись, – все это Льва вдохновило:
– Да что! Нынче все жаловался. Староста, видишь, пришел и наседал о каких-то делах… – И он стал представлять Сергея Львовича: – «О каких-то делах, мелочах, для которых, ты знаешь ведь, Лев, я не рожден. Сам посуди. Крыша промокла где-то в сарае. Что? Протекает? Так подотри! Я-то при чем? Или, видишь ты, пала корова. Вовремя надо было смотреть, так сказать, поддержать, чтобы не падала!»
Пушкин, весь в мыле, громко смеялся.
– Ну, ну, довольно, пожалуй. А то как бы и мне не упасть. «Подотри!»
Одевались они долго и не спеша. Лев поверял Вульфовы тайны, или, вернее, догадки о них. Разговор между братьями шел открытый, мужской. Пушкин и сам заметил уже у Алексея эти «глаза с поволокой, роток с позевотой», как говорится в русском присловье: примета дурная. А между тем Алексей ему нравился. Это был чистенький юноша, красивый, воспитанный; порою он говорил даже вовсе не глупо, и притом о вещах, малознакомых Пушкину. Может быть, было все это откуда-нибудь и нахватано, по речь была ясной и интересной.
– Так-то, брат Лев, – сказал Пушкин, потягиваясь. – Помнишь, как я тебя остерегал от холодной «обезьяньей любви»? А это похуже. Нельзя эту штуку носить только тут, – и он тронул свои лоб. – Нельзя, не то загниет.
Пушкина ждал разогретый обед, после был чай. Мед был действительно великолепный и между хрупкими сотами выступал, как янтарь.
К чаю, гуляя, пожаловала и Ольга Сергеевна. Этот путь для нее был не близок, и она не такая частая гостья. Все ее шумно приветствовали. Пушкин ее принялся тормошить и расспрашивать. Он без внимания оставил замечание сестры, что его дома заждались, но с интересом отнесся к тому, что отец ездил сегодня к Пещурову.
– В гости?
– Нет, зачем-то тот сам присылал: просил, чтобы папа приехал.
– Значит, по делу?
– Не знаю. Псков замолчал – что-то Опочка заговорила, – заметил Пушкин, а Лев тотчас принялся представлять, как «гавкает» их предводитель дворянства Пещуров, тот самый, о котором, вспомнив его, Анна сказала: «Тоска!»
Интереснее всех была за чаем Алина. Пушкин с любопытством сегодня глядел на нее. Говорят, она вся в отца: тот был высокого роста и худощав, скромен безмерно, но отлично сложен. Розовый ротик ее очерчен был тонко и грациозно, длинные пальцы – как нарисованные; и у нее был к тому же один неповторимый, ее именно жест: когда внимательно что-нибудь слушала, легко поднимала левую руку ко рту, губы слегка размыкались, и она клала на них указательный палец. Это было бездумно кокетливо: точно бы и призывала и запрещала. Рядом с ней Алексей переминался с ноги на ногу под столом и плавно и медленно поводил томными, красиво очерченными глазами. Он молчал и томился.
И Анна была несколько возбуждена. Пушкин, сидевший с ней рядом, много шутил и все вспоминал – многозначительно, – как козлики лбами поцеловались. Но, конечно, в тот вечер ему нравилась больше Алина, и он забавлялся, смущая ее.
– Как хорошо в парке у мостика! – говорил он соседке, но так, чтоб Алина не пропустила ни слова. – Я когда-нибудь сяду там с книгой и вам назначу свидание. Придете ли?
– Нет, – отвечала Анна, зардевшись, и добавляла кокетливо: – Я вас боюсь.
– Надо быть посмелей, – и глядел при этом на Вульфа; тот опускал глаза и принимался тереть ладонь о ладонь.
– В жмурки! – диктаторским тоном приказала внезапно Евпраксия, как только встали из-за стола.
Пушкин ее поддержал, и маленького деспота послушались все: в жмурки так в жмурки!
– Как ты сказал? – спросил Вульф.
– Я сказал: «Будь посмелей!»
– То есть?
– А то вот и есть! – ответил загадочно Пушкин, намекая глазами на многое.
Сумерки шли от реки, прохладою веяло с пруда. Дуб на пригорке, еще молодой, но уже умевший насупить крепкую крону, колыхал над водой своими широкими лапами важно и многозначительно. Далеко, кругами, ширясь и замирая, плыли звуки от дома: выкрики, смех, всплески ладоней. Прасковья Александровна сидела одна на скамье у пруда. В играх участия она не принимала и слушала издали. Чувства ее в этот вечер двоились. Ей было приятно по-настоящему, что вся молодежь эта шумела на воле, как только что отроившийся рой, что там веселились так простодушно, но было и грустно, что она здесь одна и никто ее, верно, даже не вспомнит. Она не любила подобных своих состояний и, как всегда, нашла себе выход, минуя разноречивые чувства, и мысли ее без особых усилий потекли по привычному руслу…
Хозяйство! Вот где она была полновластна: здесь все от нее исходило и к ней возвращалось, тут все заботы были – ее, удачи и неудачи – ее. Затеяла строить новый дом – большой, настоящий, совсем не такой, как этот полусарай, оставшийся от покинутой парусинной фабрики. Брало сомнение, хватит ли сил. Урожай был хорош, это правда, но… И потекли бесконечные «но»… Иные зачеркивались, с другими – трудней, и все же, как бы то ни было, волновавшие звуки теперь ее не досягали, ибо внутри была водворена тишина.
Она даже вздрогнула, когда кто-то на лету на нее наскочил. Быстрые руки обняли шею, и горячие, мокрые щеки толкнулись в лицо. Евпраксия задыхалась от бега и всхлипывала.
– Зизи, что с тобой? Перестань!
Это было так непривычно для матери. Бедовая девочка не баловала ее своей лаской. Но Евпраксия к ней прибежала совсем как ребенок, а куда же еще ребенку в обиде бежать, если не к матери?
– Ты плачешь? Да что? Расскажи!
– Пушкин… кричал… Перстень… отняли! Он мне принес показать, а я думала – он подарил!
– Да кто подарил? Какой еще перстень?
– Лев подарил! А перстень от павы…
– Не понимаю. А кто же кричал?
– Пушкин кричал! – И она затопала от обиды ногами. Долго Прасковья Александровна ничего не могла понять. Но понемногу все прояснилось. Лев принес перстень, который ему подарила какая-то будто бы пава-венецианка. А перстень оказался вовсе не его, а Александра Сергеевича. И когда после жмурок стали играть в фанты, тут-то она и дала его как свой фант. А Лев его стал отнимать, а она не давала. А он говорит: не дарил, а только хотел показать… А Пушкин увидел и рассердился, и начал кричать.
– На тебя… он кричал?
– Зачем на меня! На брата сердился, а мне его жалко, Левушку… из-за меня! Мне Левушку жа-а-алко!
– Не плачь. Это их дело.
– И, кажется, камушек выпал, как мы возились, или что-то погнулось. Я убежала.
От дома давно уже слышалось:
– Где ты! Зизи! Зизи!
Евпраксия не отвечала и все еще жалась к матери.
– Все пустяки. Вытри глаза, и пойдем. Никто на тебя не кричал.
– Еще бы! Пусть бы они только попробовали! – И она отошла, оправляя помятое платьице.
Позже смеялись над этой маленькой драмой. Но Пушкин действительно внезапно и сильно вскипел и выругал Льва. У того еще долго был виноватый и отчасти испуганный вид.
– А перстень-то, Лев мне сказал, оказался волшебный. Александру Сергеевичу морская волшебница его подарила, – еще не совсем успокоенная, шептала Евпраксия Анне; та сильно бледнела и не спускала глаз с Пушкина.
Все это, правда, могло быть и неприятно Прасковье Александровне, но Пушкин, как только вошла она на террасу, был уже вовсе другой. У него блестели глаза, и он веселее был вдвое, точно действительно коснулась его та рука, что подарила ему талисман.
– Простите! Простите меня! Я, кажется, эту малютку перепугал.
И он целовал руки хозяйки и высоко за локти подкинул Евпраксию. Девочка сжалась в комок и была тяжелее обычного, но глаза ее уже поблескивали огоньком удовольствия. Все снова быстро наладилось.
– Я, видишь ли, как-то им врал, – оправдывался дорогою Лев, – что будто бы мне такой перстень красавица одна подарила.
– Ты соврал только одно: что подарили тебе, – перебил его брат.
– Зизи ко мне все приставала… Я и принес показать, пока тебя не было. Я у тебя увидал подходящий…
– Что ж, ты лазил ко мне?
– Честное слово, я даже не знал, что он есть у тебя. А он лежал на столе, просто как желудь!
– Значит, другой кто-нибудь лазил… Как это скучно!
– Не я, – кратко промолвила Ольга Сергеевна.
– Знаю. А писем мне не было?
– Нет.
Пушкин вздохнул и замолчал. Но перстень был с ним, и что-то опять в душе подымалось, звучало: снова Одесса, Елизавета Ксаверьевна… и как ему подарила тот перстень.
У самого дома Лев подольстился:
– Ты, значит, не сердишься? Я тебе сам поправлю его.
Ответ был неожиданный:
– Нет, не сержусь. Я даже тебе благодарен.
Так и осталось для Льва совсем непонятным, за что ему брат был благодарен.
Родители спали. Пушкин и этому рад. Он быстро прошел в свою комнату и сразу разделся. Лечь было приятно, однако же он не тотчас уснул. Дорога его затомила, баня и мед, пожалуй, разнежили, брат рассердил, но странная крепость росла изнутри. Его подымало. Он начал твердить стихи свои «К морю», но эти стихи перебивались другими: волны ложились в них мягче, и возникало видение залива, как если бы не было море беспредельно далеко, а мирно плескалось вот тут, за окном… И невозможное становилось возможным. Он развернул томик Парни и быстро напал на историю с Прозерпиной. Улыбка скользнула по его настороженным губам, готовым что-то шепнуть. Но скоро его стало легонько покачивать, и он незаметно уснул.
Опять была баня, похожая на Тартар, и облака ходили по ней. И отбывал мрачный бог Аида и с ним равнодушная и ревнивая супруга его. Но… все переменилось, и несбыточное стало действительностью: перстень был с ним, она была с ним…
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы…
Все мешалось во сне, и снова все возникало в изумительно ясных, прозрачных струях. Мелодический звон их отдается в ушах, когда первый луч солнца пронзает сонную быль —
И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает
Сновидений ложный рой.
Пушкин в постели. Глаза его кажутся пусты. Он смотрит далеко, но это «далеко» – внутри; взоры его обращены в себя. Он чертит огрызком пера короткие быстрые строки начала стихов, концы их, и через все бьется, как пульс, жаркая интонация ночи. Пушкин пишет свою «Прозерпину».
Глава пятая Письма
Дни идут за днями. Осень дышит в стекло по утрам, и струйки холодной воды сбегают прерывисто, судорожно: похоже на слезы. Но позднее солнце наводит порядок: дали опять прозрачно светлы и легки облака. Так и хмурость в душе сменяется творческой ясностью.
Заалел бородавчатый бересклет, и сережки его – как огоньки в редеющей чаще лесов. Жухнут увядшие травы, и один только мох еще, кажется, ярче на солнце горит изумрудным огнем. Тянут на юг перелетные птицы, и паучки-путешественники реют на паутиновых своих коврах на высоте, далеко озирая ландшафт. А вот человеку – не дано путешествовать…
Пушкину тесно в семье, скучно порой и в Тригорском. Не все же ведь фанты да жмурки!
Скучно в семье: отец в меланхолии и раздражительности сильнее обычного; невесела и Надежда Осиповна, ей уже хочется в Петербург, она не любит деревни и не выносит шума дождя. Но это бы что! Пушкин стал замечать, что отец каждый раз особенно зорко следит, чтобы не пропустить почту. Он выходил па балкон и принимал ее не иначе, как в собственные руки. При этом он подозрительно живо интересовался, почему это нет писем для Александра.
Писем действительно не было. Правда, что Пушкин никому – и Раевским в спешной записке, отправленной в Киев с Андрюшею Подолинским, – не дал нового адреса. И, однако же, в один ясный денек бабьего лета он получил первую весточку, пробившую заветную черту его бытия. Это было письмо от Вяземской, направленное ею через псковского губернатора. Оно миновало отца. Никому бы и ни за что не показал он эти милые строки. Это была первая весть из Одессы…
Пушкин вышел из дому и в лесу еще раз перечитал душистый листок. Письмо было необычно для Веры Федоровны. То, что никак не ложилось в слова при разговоре и разве слегка лишь, быть может, угадывалось во взглядах и интонациях, дышало открыто на этих страничках в неровных строках и еще того более явно меж строк. Это было глубокое неприкровенное чувство, которое безопасно может быть высказано лишь на таком большом расстоянии…
О Воронцовой не было ни единого звука, и Пушкин понимал, что в таком письме, естественно, не оказалось ей места. Он был странно взволнован. Но еще более необычным было одно ощущение: одновременно он чувствовал себя старше княгини Веры и мысленно читал ей дружеское нежное наставление. Так говорил бы, пожалуй, Онегин с Татьяной в ответ на ее признание. Больше того: само письмо Вяземской определенно напоминало именно послание Тани. Он ей читал эти строки еще у моря, в Одессе… Он колебался тогда, как заставить русскую девушку писать не по-французски и каково должно быть самое это признание.
Письмо Татьяны к Онегину было написано раньше, чем было нужно по ходу романа, но только теперь он как раз к нему подошел: это было удивительным совпадением.
Письмо Татьяны предо мною:
Его я свято берегу.
Читаю с тайною тоскою
И начитаться не могу.
Однако же письма Веры Федоровны он не сберег. Он не хотел компрометировать милого друга: он чувствовал домашнюю слежку – и за собою, и в особенности за своей перепиской, раз она возникала, и уничтожил этот листок на той же прогулке.
В речке купали овец и, выкупав, стригли на берегу. Это веселое зрелище открылось ему, едва он вышел из лесу. Все женское население усадьбы было собрано здесь. Веселые брызги сияли на солнце, возгласы, крики были еще веселей. Пушкин не сразу заметил, что на склоне сидит и наблюдает сам Сергей Львович. Он быстро сбежал уже нa половину дороги и только тогда признал серый ночной колпак отца. «Он, должно быть, уверен, что это к нему очень идет!» – подумалось Пушкину, и он было замедлил шаги, но потом опять почти побежал: э, все равно! И еще какая-то озорная мысль мелькнула в уме: он тронул в кармане письмо.
Ты гуляешь? – спросил небрежно отец.
– Да.
– А я слежу за хозяйством.
Сын улыбнулся: взоры отца от него не укрылись. Связанные по ногам веревками, овцы были добычею пожилых обстоятельных женщин, ловко отгибавших меж пальцами чистую шерсть и наискось, как бы вместе с оттянутой кожей, перерезавших ее широкими ножницами. Это можно было б еще, пожалуй, назвать и «хозяйством», по веселая борьба девушек с овцами, плесканье в воде, и как порой, вырвавшись, уплывало животное, вытянув узкую морду и откинув рога, а за нею скакала в волнах быстрая босоножка, плеща руками, брызгаясь, смеясь и крича, – это скорей походило па некую мифологическую игру. Так, верно, это воспринимал и сам Сергей Львович, весь ушедший в созерцание: взоры его устремлялись, конечно, сюда.
Но игра продолжалась порой и на суше. У хорошенькой Оли Калашниковой, как взглянула, выходя из воды, на молодого барина, видно, ослабла рука, и взбудораженная пленница ее, почуяв под ногами привычную землю, стремительно вырвалась и поскакала по лугу. Девушка бросилась следом. Открытые ноги ее сверкали на солнце, билась коса за спиной, а мокрое платье на быстром бегу облипало всю ее стройную молодую фигуру. Овца оказалась из резвых, и Оленьке пришлось-таки погоняться за нею. Пушкин следил за состязанием в беге и ловкости. Ни Воронцовой, ни Вяземской, ни самой отдаленной мысли о них не существовало в эту минуту. Точно бы легким ветерком веяло на него от этой стремительной юности, ладных движений и легкого бега. Пушкин неслышно вздохнул, точно в ответ на тот ветерок, и продолжал не отрываясь глядеть. Но вот, наконец, поймала, нагнулась, полуобняла и ведет ее на берег. Волосы Оленьки светились на солнце, влажно сняли глаза, щеки пылали. Смущенье и радость составляли сейчас живое ее очарование.
Что-то заставило Пушкина оглянуться: быть может, косой, нечаянный, в сторону, Оленькнн взгляд. И, обернувшись, он увидал, что Сергей Львович тоже стоит и глядит, вытянув шею, глаза его сузились в щелки и поблескивают из-под сдвинутых век, как глаза лесного паучка. Неприятно. Пушкин вспомнил: письмо! Он вынул его и разорвал перед отцом – медленно – вдоль и поперек. Тот встрепенулся.
– Что это?
– Это письмо.
– Зачем же ты рвешь? От кого оно?
– От возлюбленной, – И поглядел на отца. – А впрочем, если хотите, от губернатора!
Накопившуюся свою неприязнь и насмешку он не очень даже скрывал. Сергей Львович затрепетал, по сдержался, что было редкостью. Он пожевал безмолвно губами и, стараясь не торопиться, однако же мелко и часто ступая, направился к дому. Пушкину несколько неприятно было остаться так одному: он рассчитывал на другое и приготовился было в ответ на нотацию высказать все, что за эти дни накопилось. Между тем выходило, что он просто обидел отца. Тогда и он пошел прочь, но в обратную сторону, вниз по течению Сороти. Между пальцев его зажато разорванное письмо. Ему было жаль его, но уничтожить необходимо, он сбережет его в памяти. И, остановившись, он окончательно разодрал листок па мелкие части и стал кидать в воду. Река принимала их спокойно и широко, равнодушно. Крохотные кораблики плыли по направлению к Тригорскому и скоро совсем скрылись из глаз. Невольно его потянуло туда, следом за ними… но – скучно порой и в Тригорском! Да и что-то другое еще, помимо сознания, властно направило шаги его к дому, к берегу, где продолжалась стрижка овец. Минутное недовольство собою он погасил и отошел под крылышко няни.
Несколько важно, но и спокойно, легко сидела она между старух, наблюдая за ходом работы и сама выбирая из волны застрявшие в ней летние орепьи (по-няниному). Усмиренные, затихшие овцы лежали вокруг, покашивая покорными своими глазами. Купанье закончилось, и Оленька также возилась теперь с огромными ножницами. Пушкин полуприсел и поболтал со старухами, с няней. Временами, однако, поглядывал он и на девушку. Она приникла к работе со всею старательностью и не поднимала опущенных глаз. Это тоже к ней шло. Но все же (один только раз) он поймал ее взгляд. Глаза были серые и глядели просто и ясно; напоминали они воды реки.
Вечером Пушкин был очень мягок с родителями.
Вульф уезжал. Вакации кончились. Когда он пришел с последним визитом в Михайловское, вся молодежь сопровождала его.
Пушкин к гостям вышел не сразу. Письма ему были большою отрадой, а он только что получил первую весть от лицейского друга – поэта и увальня Дельвига. Целый поток литературных вестей и интересов увлек его. Дельвиг писал о Жуковском и Вяземском, о Баратынском. Он предлагал второе издание «Руслана», и «Пленника», и «Бахчисарайского фонтана». Скромно писал и о себе, благодарил за похвалу и замечания. Обещал скоро приехать. «Только что все приведу в порядок, буду у тебя». Тут Пушкин не мог не рассмеяться: он хорошо знал, как умел его друг барон медленно поспешать. И как приятно: ни слова о ссылке и никаких деклараций о том, что он отнюдь не боится, как бы их переписка его не скомпрометировала! Уверениями подобного рода, бьющими на благородство, было исполнено до краев другое письмо, полученное ужо несколько дней тому назад – от Александра Раевского. Это послание сидело занозою в сердце и не требовало иного ответа, кроме разве стихов, да и то лишь для себя, дабы облегчить душу. А Дельвиг был прост, как лесной ручей. Хоть и ленивец, а хлопотун со своими «Цветами»!
Но, читая письмо его, каждый раз все возвращался Пушкин к началу, где Дельвиг писал: «Прозерпина» не стихи, а музыка: это пенье райской птички, которое, слушая, не увидишь, как пройдет тысяча лет. Эти двери давно мне знакомы. Сквозь них еще в Лицее меня часто выталкивали из Элизея. «Какая искусная щеголиха у тебя Истина!» И Пушкин опять улыбался, целый рой царскосельских историй, на которые намекал барон, возникал в голове… Пушкин любил это время искренней дружбы и беззаботных веселых проказ. Но как же, однако, Дельвиг ошибся, думая, что «Прозерпина» была рождена этими воспоминаниями… Какая же в самом деле «искусная щеголиха» эта истина!
Он был доволен. Открытый до дна в стихах своих, он был в них открыт – для себя. Стихи вырастали, как ветка на дереве, и были полны последнего кровного смысла лишь в сочетании с целым. Для него они были неотделимы от жизни, в них протекала действительно настоящая кровь и бился пульс живого его сердца. Но зачем же так открывать себя другим? И что ж? Какое дело свету до сокровенных этих биений, когда он всем им чужой?
И ему нравилось, чтобы ветку принимали за целое, за отдельность и не искали корней, которые он таил про себя. «Ах, Дельвиг, Дельвиг! Попался и ты! Ты знаешь и чувствуешь эти подземные корни, ибо сам ты поэт, но в темноте под землей ты немного ошибся…» И глаза у Пушкина делались мягкими, и он улыбался добро и длительно.
«Теперь о деньгах», – писал ему Дельвиг. Вот именно, о купле-продаже. Тут таить ему нечего. Даже напротив: бросая свой вызов, он стремился к тому, чтобы быть понятым верно. Еще в первое утро в Михайловском он набросал эту формулу: «Не продается вдохновенье…» Когда вернулся потом из бильярдной, листка на подоконнике не оказалось, его сдуло порывом ветра, но он успел увидать, как кривой садовник Архип тут же его подобрал.
– Ты что это? – невольно спросил его Пушкин.
– А вот цидулка попалась, – ответил Архип, – трубочку ей хорошо раскурить.
«И ничего, – пришло тогда в голову Пушкину. – Вдохновение не продается, а рукопись хоть на раскурку, да пригодилась».
«Для чего же писать? – думал он теперь. – Какой удел я выбираю?» И его опять потянуло было к тетради. Но, видно, не очень: там ждали тригорские… «Надо. Пора…» И он вышел к гостям.
– Дельвиг всем кланяется, – сказал он, обращаясь к домашним. – Всем поименно.
– Где это вы запропали?
– Простите меня, господа, я беседовал с другом.
– Вы беседовали с другом, о чем – неизвестно, – обратилась к нему Анна, когда он пожимал ее руку. – А я беседовала с подругой. И тоже в письме…
– А о чем – неизвестно!
– Очень известно: о вас!
– Кто же вам пишет?
– А ну, отгадайте!
Пушкин не мог отгадать, а Анна сразу не сказывала. Она берегла этот разговор: сейчас было слишком много народу.
Отец был в отменно хорошем настроении. Из Петербурга он получил извещение, что дело со службою Льва продвигалось: все, кого он просил, «поговорили»… И он весело болтал и каламбурил с девушками. Надежда Осиповна глядела на него снисходительно: она строга была только к девкам, которые обретались на дворне.
В центре внимания сегодня был Вульф. Он, как и всегда, несколько был декоративен в узком своем сюртуке, с затянутой талией. Плечи его, приподнятые ватой, классически были недвижны, когда повертывал голову в профиль (зная, что профиль красив). Одною ногой он был уже в Дерпте и охотно распространялся в высоком стиле о профессорах и науках. Алина была грустна и задумчива. Пушкин над нею подтрунивал и говорил, что, как только уляжется пыль за отъезжающим, он сядет у ее ног и не встанет, пока…
Умолчание было нарочито глубокомысленным, и Анна, слушая издали, ловила себя на невольном волнении, а Левушка чуть ревновал даже самое это волнение Анны. Все было как и всегда.
Позже гуляли по парку: с Алиною Вульф, Левушка с быстрой Зизи, с Анною Пушкин. И тут только Анна поведала о полученном ею письме от двоюродной сестры своей, Керн Анны Петровны. Та изливала ей жалобы на ревнивца Родзянку, не показавшего Пушкина, когда он заезжал по дороге в Михайловское, и писала по этому поводу.
«…тысячу… тысячу нежностей, хотя вы никак их и не заслужили. Вот ни настолько!»
Пушкин был так далек в мыслях от Керн! Для него это было большою и яркою неожиданностью, но он скрыл это свое впечатление и отвечал вовсе небрежно:
– Так вот это какая Анна Петровна! Родзянко ее поминал, но не позволил о ней, помнится, брату даже и слова промолвить.
– И молодец. Я вам говорю, что вы этого вовсе не стоите.
– Я вообще грешник известный и попаду после смерти немедленно в ад. И рад был бы попасть, потому что в аду будет пропасть хорошеньких, – но только одно смущает меня: что вы-то, конечно, будете в райских садах. Спасите меня, больше я в ад не хочу!
Так он с нею по виду дурачился, и хоть понимала Анна, что он просто болтает, а все же сердце у ней защемило.
«Спасти тебя! О, как бы хотела! Ото всех отгородить своими руками… отогреть курчавую эту головушку!» И она нежно во тьме глядела на спутника и отдавала в полную его власть свою руку.
Но как бы отдернула, если бы знала…
Для Пушкина лет не существовало. Пять лет? Пустяки! Шел он меж сосен, в потемках, с милою девушкой, но видел, как наяву, не лес, не ее, а большую залу Олениных, залитую светом. При дворе траур, и танцев не было, играли в шарады и фанты. Как крупные рыбы в аквариуме, тяжело проплывали почтеннейший Иван Андреевич Крылов и просто почтенный Иван Матвеевич Муравьев-Апостол. Фант выпал Крылова, и его заставили прочитать одну из его басен. Посадили па стул посередине залы и столпились вокруг. Он обтер круглое свое лицо полной рукой с коротковатыми пальцами, огляделся неспешно, с тихою хитростью, немного прищурив зеленые глазки, покашлял и начал серьезно и внятно:
Осел был самых честных правил…
И тогда же молоденький Пушкин толкнул Алешу Оленина и шепнул ему с радостью, как от находки:
– Это он про моего дядюшку Василия Львовича. Прямо точь-в-точь!
Смешливый Оленин фыркнул на всю залу, так что все оглянулись, по Пушкин успел принять вид совершенно невинный, и про себя у него тотчас же возникла строка:
Мой дядясамых честных правил…
Он и не думал тогда, какая река потечет из этого малого шутливого родничка, где он приравнял дядю-поэта к ослу!
Ему было просто в тот вечер беспричинно весело и легко.
Он пришел к Олениным рано и застал еще маленькую десятилетнюю Анечку, которой наскоро и представил в углу веселого сбитенщика («Ой, сбитень горячий, пьют подьячие!» – «Сбитень-сбитенек, пьет щеголек!») – и будто бы сбитень весь убежал, а сбитенщик сам обварился. Ему запомнилась девочка, и даже сейчас, когда проносилось все это с такой быстротой, как если бы происходило почти что одновременно, он увидал веселую детскую рожицу и как брови ее поднимались от удивления все выше и выше и остановились только тогда, когда ползти уже было некуда…
Так было всегда: ни одна черта прошлого ничуть не стиралась – фраза иль стих, почему-нибудь зацепивший, выражение лиц (небезразличных), походка и голос, запахи, звуки – все чудесно в нем было утаено, в полной готовности вновь зацвести при первом касании памяти…
Но все это было не больше как окружение, фон, на котором внезапно возникла та самая юная генеральша, девятнадцатилетняя, сохранившая все черты молоденькой девушки… И это она писала о нем «тысячи нежностей», и это ее он мог увидеть у Родзянки-предателя…
В шарадах играла в тот вечер она роль Клеопатры и держала корзинку с цветами. Он не без озорства пошутил, что змеею, которая должна укусить ее в грудь, будет вон тот! И показал: двоюродный брат ее Саша Полторацкий, – так явно в нее был он влюблен! Керн осердилась, но и за ужином, сидя поблизости, он осыпал ее веселыми шутками, и это он ей говорил про ад и про рай, про хорошеньких, и что она будет в раю, а стало быть, и ему рая не миновать, – то самое, что повторял сейчас Анне.
Если бы та это знала, как бы отдернула руку и какая б обида пала на сердце! Но Анна не знала, а Пушкин непроизвольно все пожимал ее пальцы.
Все это было тогда за ужином весело, дерзко, легко. И лишь когда разъезжались и Полторацкий, усадив Керн в экипаж, сам сел с нею рядом, а Пушкин стоял на крыльце, провожая, и она коротко глянула на прощанье бархатными своими, грустно-прелестными глазами, – сердце тогда в нем глухо стукнуло – как и сейчас. Глаза эти были и взгляд – как у Бакуниной: первая его детская любовь… Лошади тронули, и как бы все поплыло вместе с ними… как и сейчас.
Пушкин медленно поднял к губам руку Анны и осторожно ее поцеловал.
Воспоминание это было так кратко, но и так полно! Он мигом очнулся и, не отнимая руки своей спутницы, взмахнул обеими, и своей и ее, в воздух – высоко.
– Вечер… хорош, – сказал он. – Но, кажется, все повернули домой. Надо и нам. – И замолчал.
Анна, счастливо затихшая, почувствовала, однако, в эту минуту что-то неладное, но так и не могла до конца разрешить охватившего ее волнения.
Понемногу опять все собрались у крыльца. Последним пришел отъезжавший студент, и несколько раньше Алина. Она необычно была возбуждена, а Вульф имел вид томный и вороватый, но очень довольный. Кажется, беглый совет ему Пушкина понят был им на его собственный лад.
Неугомонная Евпраксия хотела «в горелки», но стало темно. Тогда перешли на другое, спокойное: кидали платок па колени с начатым словом, которое поймавший должен был угадать и закончить. Но и в этой тихой игре произошел маленький глупый казус, имевший, однако, последствия.
Отчаявшись па сегодняшний день в Анне, Лев, по обычаю, возился с Евпраксией. Еще на прогулке он ей наболтал между кучею всяких других пустяков, будто в доме у них появилась какая-то необычайная икра, привезенная специально папаше, и он никому ее не дает, и подбивал Евпраксию за ужином сказать: «Ах, как мне хочется черной икры»
– А вы сами скажите! А вот и не скажете!
– Хотите пари? Если я выиграю, я вас поцелую при всех!
– Еще чего захотели… Мизинчик – пожалуй!
И когда началась игра с киданьем платка, Лев заявил, что он все-таки скажет запретное слово, хотя бы в игре. Ольга Сергеевна это услышала. Она оставалась с родителями: ей не было пары, да и гулять она была не большая охотница. Дома как раз был разговор, и решили икры не подавать. В качестве блюстительницы домашнего мира она вмешалась и тут:
– Пожалуйста, Лев, ты не выдумывай. Папа рассердится.
Но на Льва иногда что-то накатывало. Он уже выдумал трюк и заранее радовался. Сделав преувеличенно серьезный вид, он раздельно и громко провозгласил:
– Чер-ная и-кра.
И, оборвав, точно должно быть еще продолжение, кинул платок на колени Евпраксии.
Все громко захохотали, так это было неожиданно, а Сергей Львович, также принимавший участие в этой игре, почувствовав неприятный намек, недовольно сжал губы и сморщил свой узенький нос.
– Это что же такое? – спросил он. – Целая фраза. Как же кончать?








