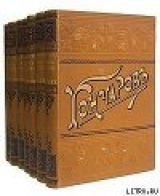
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том. 7"
Автор книги: Иван Гончаров
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 54 страниц)
Тушин многое скрадывал, совестясь «докучать» гостю своими делами, и спешил показать ему, как артисту, лес, гордясь им, как любимым делом.
Вид леса в самом деле поразил Райского. Он содержался, как парк, где на каждом шагу видны следы движения, работ, ухода и науки. Артель смотрела какой-то дружиной. Мужики походили сами на хозяев, как будто занимались своим хозяйством.
– Ведь они у меня, и свои и чужие, на жалованье, – отвечал Тушин на вопрос Райского: «Отчего это?» Пильный завод показался Райскому чем-то небывалым, по обширности, почти по роскоши строений, где удобство и изящество делали его похожим на образцовое английское заведение. Машины из блестящей стали и меди были в своем роде образцовыми произведениями.
Сам Тушин там показался первым работником, когда вошел в свою технику, во все мелочи, подробности, лазил в машину, осматривая ее, трогая рукой колеса.
Райский с удивлением глядел, особенно когда они пришли в контору на заводе и когда с полсотни рабочих ввалились в комнату, с просьбами, объяснениями, обступили Тушина.
Он, пробившись с ними около часа, вдруг сконфузился, что бросил гостя, и вывел его из толпы, извиняясь за эти дрязги, и повез показывать красивые места.
737
Райский так увлекся всей этой новостью дела, личностей, этим заводом, этими массами лесного материала, отправлявшегося по водам до Петербурга и за границу, что решил остаться еще неделю, чтобы изучить и смысл, и механизм этого большого дела.
Однако ему не удалось остаться долее. Татьяна Марковна вызвала его письмом, в котором звала немедленно приехать, написав коротко, что «дело есть».
Тушин напросился ехать с ним, «проводить его», как говорил он, а в самом деле узнать, зачем вызвала Татьяна Марковна Райского: не случилось ли чего-нибудь нового с Верой и не нужен ли он ей опять? Он с тревогой припоминал свидание свое с Волоховым и то, как тот невольно и неохотно дал ответ, что уедет.
«Уехал ли? не написал ли опять к ней? не встревожил ли?» – мучился Тушин, едучи в город.
Райский, воротясь домой, прежде всего побежал к Вере и, под влиянием свежего впечатления, яркими красками начертил ей портрет Тушина во весь рост и значение его в той сфере, где он живет и действует, и вместе свое удивление и рождающуюся симпатию.
В этой простой русской, практической натуре, исполняющей призвание хозяина земли и леса, первого, самого дюжего работника между своими работниками, и вместе распорядителя и руководителя их судеб и благосостояния, он видел какого-то заволжского Роберта Овена!
– А ты мне так мало говорила о его деятельности!.. – заключил он.
Вера с радостью слушала Райского; у ней появился даже румянец. Самая торопливость его передать ей счастливое впечатление, какое сделал на него «медведь» и его берлога, теплый колорит, в который Райский окрасил фигуру Тушина, осмыслив его своим метким анализом, яркая картина быта, хозяйства, нравов, лесного угла, всей местности – всё это почти увлекло и Веру.
Она не без гордости видела в этом очерке Райского косвенную похвалу и себе за то, что тонко оценила и умела полюбить в Тушине – правду простой натуры.
– Брат, – сказала она, – ты рисуешь мне не Ивана Ивановича: я знаю его давно, – а самого себя. Лучше всего то, что сам не подозреваешь, что выходит недурно и твой собственный портрет. И меня тут же хвалишь,
738
что угадала в Тушине человека! Но это нетрудно! Бабушка его тоже понимает и любит, и все здесь…
Она вздохнула, сокрушаясь, кажется, про себя, что не любит его больше, иначе…
Он хотел сказать что-то в ответ, но за ним прислала бабушка и немедленно потребовала его к себе.
– Скажи, пожалуйста, Вера, – спохватился вдруг Райский, – зачем она вызвала меня?
– Не знаю: что-то есть. Она мне не говорит, а я не спрашиваю, но вижу. Боюсь, не опять ли там что-нибудь!.. – прибавила Вера, внезапно охлаждаясь и переходя от дружеского тона к своей грустной задумчивости.
В то время как Райский уходил от нее, Тушин прислал спросить ее, может ли он ее видеть. Она велела просить.
XIX
Бабушка выслала Пашутку и заперла дверь кабинета, когда пришел Райский. Сама она была очевидно расстроена. Райский испугался.
– Не случилось ли чего-нибудь неприятного, бабушка? – спросил он, садясь против нее.
– Что должно было случиться, то и случилось, – печально сказала она, глядя в сторону.
– Скажите скорей, я – как на иголках!
– Старый вор Тычков отмстил нам с тобой! Даже и обо мне где-то у помешанной женщины откопал историю… Да ничего не вышло из того… Люди к прошлому равнодушны – а я сама одной ногой в гробу и о себе не забочусь. Но Вера…
Она вздохнула.
– Что такое?
– Ее история перестает быть тайной… В городе ходят слухи… – шептала Татьяна Марковна с горечью. – Я сначала не поняла, отчего в воскресенье, в церкви, вице-губернаторша два раза спросила у меня о Вере – здорова ли она – и две барыни сунулись слушать, что я скажу. Я взглянула кругом – у всех на лицах одно: «что Вера?» Была, говорю, больна, теперь здорова. Пошли расспросы, что с ней? Каково мне было отделываться, заминать! Все заметили…
739
– Ужели что-нибудь вышло наружу?
– Настоящая беда, слава Богу, скрыта. Я вчера через Тита Никоныча узнала кое-что. Сплетня попадает не в того…
Бабушка отвернулась.
– В кого же?
– В Ивана Ивановича – это хуже всего. Он тут ни сном ни духом не виноват… Помнишь, в день рождения Марфиньки – он приезжал, сидел тут молча, ни с кем ни слова не сказал, как мертвый, и ожил, когда показалась Вера? Гости видели всё это. И без того давно не тайна, что он любит Веру: он не мастер таиться. А тут заметили, что он ушел с ней в сад, потом она скрылась к себе, а он уехал… Знаешь ли, зачем он приезжал?
Райский сделал утвердительный знак головой.
– Знаешь? Ну – вот теперь Вера да Тушин у всех на языке.
– Как же я тут попал? Вы говорите, что Тычков и меня припутал?
– А тебя приплела Полина Карповна! В тот вечер, как ты гулял поздно с Верой, она пошла искать тебя. Ты что-то ей наговорил, – должно быть, на смех поднял – а она поняла по-своему и припутала и тебя! Говорит, что ты влюблен был в Веру, а она будто отбила, «извлекла» тебя из какой-то «пропасти», из обрыва, что ли! Только это и ладит. Что у вас там такое с ней было и о чем ты секретничал с Верой? Ты, должно быть, знал ее тайны и прежде, давно, а от бабушки прятал «ключи»! Вот что и вышло от этой вашей «свободы»!
Она вздохнула на всю комнату.
Райский сжал кулаки.
– Мало было этой старой чучеле! Завтра я ей дам такой сеанс… – сказал он с угрозой.
– Нашел на ком спрашивать! На нее нечего пенять: она смешна и ей не поверили. А тот старый сплетник узнал, что Вера уходила в рожденье Марфиньки с Тушиным в аллею, долго говорила там, а накануне пропадала до ночи и после слегла, – и переделал рассказ Полины Карповны по-своему. «Не с Райским, говорит, она гуляла ночью и накануне, а с Тушиным!..» От него и пошло по городу! Да еще там пьяная баба про меня наплела… Тычков всё разведал…
Татьяна Марковна потупила взгляд в землю: у ней в лице показалась на минуту краска.
740
– А, это другое дело! – серьезно сказал Райский и начал в волнении ходить по комнате. – Ваш урок не подействовал на Тычкова: так я повторю его иначе…
– Что ты затеваешь? Боже тебя сохрани! Лучше не трогай! Ты станешь доказывать, что это неправда и, пожалуй, докажешь. Оно и не мудрено: стоит только справиться, где был Иван Иванович накануне рожденья Марфиньки. Если он был за Волгой, у себя, тогда люди спросят, где же правда?.. с кем она в роще была? Тебя Крицкая видела на горе одного, а Вера была…
Татьяна Марковна опустила голову.
Райский бросился на кресло.
– Что же делать? – сказал он в тоске за Веру.
– Что Бог даст! – в глубокой печали шептала Татьяна Марковна. – Бог судит людей через людей – и пренебрегать их судом нельзя! Надо смириться! Видно, мера еще не исполнилась!..
Опять глубокий вздох.
Райский ходил по кабинету. Оба молчали, сознавая каждый про себя затруднительное положение дела. Общество заметило только внешние признаки какой-то драмы в одном углу. Отчуждение Веры, постоянное поклонение Тушина, независимость ее от авторитета бабушки – оно знало всё это и привыкло.
Но к этому прибавилось какое-то туманное пятно: суетливость Райского около Веры замечена уже была давно и даже дошла до слуха Ульяны Андреевны, которая и намекнула ему об этом в свидании. Крицкая тоже заметила и, конечно, не была скромна на этот счет. Почтительное поклонение Тушина замечали все, и не одна Татьяна Марковна прочила его в женихи Веры.
В городе вообще ожидали двух событий: свадьбы Марфиньки с Викентьевым, что и сбылось, – и в перспективе свадьбы Веры с Тушиным. А тут вдруг, против ожидания, произошло что-то непонятное. Вера явилась на минуту в день рождения сестры, не сказала ни с кем почти слова и скрылась с Тушиным в сад, откуда ушла к себе, а он уехал, не повидавшись с хозяйкой дома.
От Крицкой узнали о продолжительной прогулке Райского с Верой накануне семейного праздника. После этого Вера объявлена была больною, заболела и
741
сама Татьяна Марковна, дом был на заперти: никого не принимали. Райский ходил как угорелый, бегая от всех; доктора неопределенно говорили о болезни…
О свадьбе ни слуху ни духу. Отчего Тушин не делает предложения, или, если сделал, отчего оно не принято? Падало подозрение на Райского, что он увлек Веру: тогда – отчего он не женится на ней? Общественное мнение неумолимо требовало на суд – кто прав, кто виноват – чтобы произнести свой приговор.
И Татьяна Марковна, и Райский чувствовали тяжесть положения и боялись этого суда – конечно, за Веру. Вера не боялась, да и не знала ничего. Не до того ей было. Ее поглощала своя внутренняя тревога, ее язва – и она все силы свои устремила на ее утоление, и пока напрасно.
– Бабушка! – вдруг сказал Райский после долгого молчания, – прежде всего надо вам самим всё сказать Ивану Ивановичу. Как он примет эту сплетню: он ее герой – он и судья, как решит – так и поступите. А его суда не бойтесь. Я теперь знаю его – он решит правильно. Вере он зла не пожелает: он ее любит – я видел это, хотя мы о ней ни слова не сказали. Он мучается ее участью больше, нежели своей. В нем разыгрывается двойная трагедия. Он и сюда приехал со мной, потому что растревожился вашим письмом ко мне… конечно, за нее. А потом уж я побываю у Полины Карповны, а может быть, повидаюсь и с Тычковым…
– Я не хочу, чтоб ты виделся с Тычковым!
– Бабушка, нельзя оставить!..
– Я не хочу, Борис! – сказала она так решительно и строго, что он наклонил голову и не возразил более ни слова. – Ничего хорошего из этого не выйдет. Ты сейчас придумал, что нужно сделать: да, сказать прежде всего Ивану Ивановичу, а потом увидим, надо ли тебе идти к Крицкой, чтобы узнать от нее об этих слухах и дать им другой толк или… сказать правду! – прибавила она со вздохом. – Посмотрим, как примет это Иван Иванович. Попроси его ко мне, а Вере не говори ни слова. Она ничего не знает – и дай Бог, чтоб не узнала!
Райский ушел к Вере, а к Татьяне Марковне, на смену ему, явился Тушин.
742
XX
Татьяна Марковна внутренно смутилась, когда Тушин переступил порог ее комнаты. Он молча, с опущенными глазами, поздоровался с ней, тоже перемогая свою тревогу, – и оба в первую минуту не глядели друг на друга.
Им приходилось коснуться взаимной раны, о которой до сих пор не было намека между ними, хотя они взаимно обменивались знаменательными взглядами и понимали друг друга из грустного молчания. Теперь предстояло стать открыто лицом к лицу и говорить.
Оба молчали. Она пока украдкой взглядывала на него и замечала перемены, какие произошли в нем в эти две-три недели: как осанка у него стала не так горда и бодра, как тускло смотрит он в иные минуты, как стали медленны его движения. И похудел он, и побледнел.
– Вы от Веры теперь? – спросила она наконец. – Как вы нашли ее?
– Ничего… она, кажется, здорова… покойна…
Татьяна Марковна вздохнула.
– Какой покой! Ну пусть уж она: а вам сколько беспокойства, Иван Иванович! – тихо проговорила она, стараясь не глядеть на него.
– Что мои беспокойства! Надо успокоить Веру Васильевну.
– Бог не дает, не судьба! Только стала оправляться она, и я было отдохнула от домашнего горя, пока оно крылось за стенами, а теперь перешло и за стены…
Тушин вдруг навострил уши, как будто услышал выстрел.
– Иван Иванович, – решительно заговорила Татьяна Марковна, – по городу сплетня ходит. Мы с Борюшкой погорячились и сорвали маску с лицемера Тычкова: вы знаете. Мне бы и не под лета, да он уж очень зазнался. Терпенья не было! Теперь он срывает маску с нас…
– С вас? С кого – с вас?
– Обо мне он что-то молол – его не слушали: я мертвая… а о Вере…
– О Вере Васильевне?
Тушин привстал.
– Садитесь, Иван Иваныч, – сказала Татьяна Марковна, – да, о ней. Может быть, так и надо… может быть, это – возмездие. Но тут припутали и вас…
743
– Меня: рядом с Верой Васильевной?
– Да, Иван Иванович, – и вот где истинное наказание!
– Позвольте же узнать, что говорят?
Татьяна Марковна передала ему слух.
– В городе заметили, что у меня в доме неладно: видели, что вы ходили с Верой в саду, уходили к обрыву, сидели там на скамье, горячо говорили и уехали, а мы с ней были больны, никого не принимали… вот откуда вышла сплетня!
Он молча слушал и хотел что-то сказать, она остановила его.
– Позвольте, Иван Иванович, кончить: это не всё. Борис Павлыч… вечером, накануне дня рождения Марфиньки… пошел искать Веру…
Она остановилась.
– Что же дальше? – спросил Тушин нетерпеливо.
– За ним потащилась Крицкая: она заметила, что Борюшка взволнован… У него вырвались какие-то слова о Верочке… Полина Карповна приняла их на свой счет. Ей, конечно, не поверили – знают ее – и теперь добираются правды, с кем была Вера, накануне рождения, в роще… Со дна этого проклятого обрыва поднялась туча и покрыла всех нас… и вас тоже.
– Что же про меня говорят?
– Что и в тот вечер, накануне, Вера была там, в роще, внизу, с кем-то… говорят – с вами.
Она замолчала.
– Что же вам угодно, чтоб я сделал? – спросил он покорно.
– Надо сказать, что было: правду. Вам теперь, – решительно заключила Татьяна Марковна, – надо прежде всего выгородить себя: вы были чисты всю жизнь, таким должны и остаться… А мы с Верой, после свадьбы Марфиньки, тотчас уедем в Новоселово, ко мне, навсегда… Спешите же к Тычкову и скажите, что вас не было в городе накануне, и, следовательно, вы и в обрыве быть не могли…
Она замолчала и грустно задумалась. Тушин, сидя, согнулся корпусом вперед и, наклонив голову, смотрел себе на ноги.
744
– А если б я не так сказал?.. – вдруг подняв голову, отозвался он.
– Как знаете, Иван Иванович: так и решайте. Что другое могли бы вы сказать?
– Я сказал бы Тычкову, – да не ему: я с ним и говорить не хочу, а другим – что я был в городе, потому что это – правда: я не за Волгой был, а дня два пробыл у приятеля здесь – и сказал бы, что я был накануне… в обрыве – хоть это и неправда, – с Верой Васильевной… Прибавил бы, что… делал предложение и получил отказ, что это огорчило меня и вас, так как вы были – за меня, и что Вера Васильевна сама огорчилась, но что дружба наша от этого не расстроилась… Пожалуй, можно намекнуть на какую-нибудь отдаленную надежду… обещание подумать…
– То есть, – сказала Татьяна Марковна задумчиво, – сказать, что было сватовство, не сладилось… Да! если вы так добры… можно и так. Но ведь не отстанут после, будут ждать, спрашивать: скоро ли, когда? Обещание не век будет обещанием…
– Забудут, Татьяна Марковна, особенно если вы уедете, как говорите… А если не забудут… и вы с Верой Васильевной будете всё тревожиться… то и принять предложение… – тихо досказал Тушин.
Татьяна Марковна изменилась в лице.
– Иван Иванович! – сказала она с упреком, – за кого вы нас считаете с Верой? Чтобы заставить молчать злые языки, заглушить не сплетню, а горькую правду, – для этого воспользоваться вашей прежней слабостью к ней и великодушием? И потом, чтоб всю жизнь – ни вам, ни ей – не было покоя! Я не ожидала этого от вас!
– Напрасно! никакого великодушия тут нет! А я думал, когда вы рассказывали эту сплетню, что вы за тем меня и позвали, чтоб коротко и ясно сказать: «Иван Иванович, и ты тут запутан: выгороди же и себя и ее вместе!» Вот тогда я прямо, как Викентьев, назвал бы вас бабушкой и стал бы на колени перед вами. Да оно бы так и должно быть! – сказал он уныло. – Простите, Татьяна Марковна, а у вас дело обыкновенно начинается с старого обычая, с старых правил, да с справки о том, как было, да что скажут, а собственный ум и сердце придут после. Вот если б с них начать, тогда бы у вас этой печали не было, а у меня было бы меньше седых волос, и Вера Васильевна…
Он остановился, как будто опомнившись.
745
– Виноват! – вдруг понизив тон, перешедший в робость, сказал он. – Я взялся не за свое дело. Решаю и за Веру Васильевну – а вся сила в ней!
– Вот видите, без моего «ума и сердца», сами договорились до правды, Иван Иванович! Мой «ум и сердце» говорили давно за вас, да не судьба! Стало быть, вы из жалости взяли бы ее теперь, а она вышла бы за вас – опять скажу – ради вашего… великодушия… Того ли вы хотите? Честно ли и правильно ли это и способны ли мы с ней на такой поступок? Вы знаете нас…
– И честно, и правильно, если она чувствует ко мне, что говорит. Она любит меня, как «человека», как друга: это ее слова, – ценит, конечно, больше, нежели я стою… Это большое счастье! Это ведь значит, что со временем… полюбила бы – как доброго мужа…
– Иван Иванович, вам-то что этот брак принес бы!.. сколько горя!.. Подумайте! Боже мой!
– Я не мешаюсь ни в чьи дела, Татьяна Марковна, вижу, что вы убиваетесь горем, – и не мешаю вам: зачем же вы хотите думать и чувствовать за меня? Позвольте мне самому знать, что мне принесет этот брак! – вдруг сказал Тушин резко. – Счастье на всю жизнь – вот что он принесет! А я, может быть, проживу еще лет пятьдесят! Если не пятьдесят, хоть десять, двадцать лет счастья!
Он почесал голову почти с отчаянием, что эти две женщины не понимают его и не соглашаются отдать ему в руки то счастье, которое ходит около него, ускользает, не дается и в которое бы он вцепился своими медвежьими когтями и никогда бы не выпустил вон.
А они не видят, не понимают, всё еще громоздят горы, которые вдруг выросли на его дороге и пропали, – их нет больше: он одолел их страшною силою любви и муки!
Ужели даром бился он в этой битве и устоял на ногах, не добыв погибшего счастья? Была одна только неодолимая гора: Вера любила другого, надеялась быть счастлива с этим другим – вот где настоящий обрыв! Теперь надежда ее умерла, умирает, по словам ее («а она никогда не лжет и знает себя», подумал он), – следовательно, ничего нет больше, никаких гор! А они не понимают, выдумывают препятствия!
746
«А их нет, нет, нет!» – с бешенством про себя шептал Тушин – и почти злобно смотрел на Татьяну Марковну.
– Татьяна Марковна! – заговорил он, вдруг опять взяв высокую ноту, горячо и сильно. – Ведь если лес мешает идти вперед, его вырубают, море переплывают, а теперь вон прорывают и горы насквозь, и всё идут смелые люди вперед! А здесь ни леса, ни моря, ни гор – ничего нет: были стены и упали, был обрыв и нет его! Я бросаю мост чрез него и иду, ноги у меня не трясутся… Дайте же мне Веру Васильевну, дайте мне ее! – почти кричал он, – я перенесу ее через этот обрыв и мост – и никакой черт не помешает моему счастью и ее покою – хоть живи она сто лет! Она будет моей царицей и укроется в моих лесах, под моей защитой, от всяких гроз и забудет всякие обрывы, хоть бы их были тысячи!! Что это вы не можете понять меня!
Он встал, вдруг зажал глаза платком и в отчаянии начал ходить по комнате.
– Я-то понимаю, Иван Иванович, – тихо, сквозь слезы, сказала Татьяна Марковна, помолчав, – но дело не во мне…
Он вдруг остановился, отер глаза, провел рукой по своей густой гриве и взял обе руки Татьяны Марковны.
– Простите меня, Татьяна Марковна, я всё забываю главное: ни горы, ни леса, ни пропасти не мешают – есть одно препятствие неодолимое: Вера Васильевна не хочет, стало быть – видит впереди жизнь счастливее, нежели со мной…
Изумленная, тронутая Татьяна Марковна хотела что-то возразить, он остановил ее.
– Виноват опять! – сказал он, – я не в ту силу поворотил. Оставим речь обо мне, я удалился от предмета. Вы звали меня, чтоб сообщить мне о сплетне, и думали, что это обеспокоит меня, – так? Успокойтесь же и успокойте Веру Васильевну, увезите ее, – да чтоб она не слыхала об этих толках! А меня это не обеспокоит!
Он усмехнулся.
– Эта нежность мне не к лицу. На сплетню я плюю, а в городе мимоходом скажу, как мы говорили сейчас, что я сватался и получил отказ, что это огорчило вас, меня и весь дом… так как я давно надеялся… Тот уезжает завтра или послезавтра навсегда (я уж справился) – и всё забудется. Я и прежде ничего не боялся, а теперь
747
мне нечем дорожить. Я всё равно что живу, что нет, с тех пор как решено, что Вера Васильевна не будет никогда моей женой…
– Будет вашей женой, Иван Иванович, – сказала Татьяна Марковна, бледная от волнения, – если… то забудется, отойдет… (Он сделал нетерпеливый, отчаянный жест…) если этот обрыв вы не считаете бездной… Я поняла теперь только, как вы ее любите…
Она еще боялась верить слезам, стоявшим в глазах Тушина, его этим простым словам, которые возвращали ей всю будущность, спасали погибшую судьбу Веры.
– «Будет?» – повторил и он, подступив к ней широкими шагами, и чувствовал, что волосы у него поднимаются на голове и дрожь бежит по телу. – Татьяна Марковна! не маните меня напрасной надеждой: я не мальчик! Что я говорю – то верно, но хочу, чтоб и то, что сказано мне, – было верно, чтоб не отняли у меня потом! Кто мне поручится, что это будет, что Вера Васильевна… когда-нибудь…
– Бабушка поручится: теперь – это всё равно, что она сама…
Тушин блеснул на нее благодарным взглядом и взял ее руку.
– Но погодите, Иван Иванович! – торопливо, почти с испугом, прибавила она и отняла руку, видя, как Тушин вдруг точно вырос, помолодел, стал, чем был прежде. – Теперь я – уж не как бабушка, а как женщина, скажу: погодите, рано, не до того ей! Она еще убита, дайте ей самой оправиться! Не тревожьте, оставьте ее надолго! Она расстроена, не перенесет… Да и не поймет вас, не поверит теперь вам, подумает, что вы в горячке, хотите не выпустить ее из рук, а потом одумаетесь. Дайте ей покой. Вы давеча помянули про мой ум и сердце; вот они мне и говорят: погоди! Да, я бабушка ей, а не затрону теперь этого дела, а вы и подавно… Помните же, что я вам говорю…
– Я буду помнить одно слово: «будет» и им пока буду жить. Видите ли, Татьяна Марковна, что сделало оно со мной, это ваше слово?..
– Вижу, Иван Иванович, и верю, что вы говорите не на ветер. Оттого и вырвалось у меня это слово: не принимайте его слишком горячо к сердцу – я сама боюсь…
748
– Я буду надеяться… – сказал он тише и смотрел на нее молящими глазами. – Ах, если б и я, как Викентьев, мог когда-нибудь сказать: «бабушка»!
Она сделала ему знак, чтоб он оставил ее, и когда он вышел, она опустилась в кресло, закрыв лицо платком.








