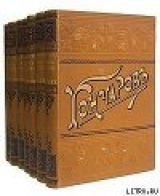
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том. 7"
Автор книги: Иван Гончаров
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 54 страниц)
IV
Райский обогнул весь город и из глубины оврага поднялся опять на гору, в противоположном конце от своей усадьбы. С вершины холма он стал спускаться в предместье. Весь город лежал перед ним как на ладони.
Он с пристрастным чувством, пробужденным старыми, почти детскими воспоминаниями, смотрел на эту кучу разнохарактерных домов, домиков, лачужек, сбившихся в кучу или разбросанных по высотам и по ямам, ползущих по окраинам оврага, спустившихся на дно
181
его, домиков с балконами, с маркизами, с бельведерами, с пристройками, надстройками, с венециянскими окошками или едва заметными щелями вместо окон, с голубятнями, скворечниками, с пустыми, заросшими травой, дворами. Смотрел на искривленные, бесконечные, идущие между плетнями, переулки, на пустые, без домов, улицы, с громкими надписями: «Московская улица», «Астраханская улица», «Саратовская улица», с базарами, где навалены груды лык, соленой и сушеной рыбы, кадки дегтю и калачи; на зияющие ворота постоялых дворов, с далеко разносящимся запахом навоза, и на бренчащие по улице дрожки.
Было за полдень давно. Над городом лежало оцепенение покоя, штиль на суше, какой бывает на море, штиль широкой, степной, сельской и городской русской жизни. Это не город, а кладбище, как все эти города.
Он не то умер, не то уснул или задумался. Растворенные окна зияли, как разверзтые, но не говорящие уста; нет дыхания, не бьется пульс. Куда же убежала жизнь? Где глаза и язык у этого лежащего тела? Всё пестро, зелено, и всё молчит.
Райский вошел в переулки и улицы: даже ветер не ходит. Пыль, уже третий день нетронутая, одним узором от проехавших колес лежит по улицам; в тени забора отдыхает козел, да куры, вырыв ямки, уселись в них, а неутомимый петух ищет поживы, проворно раскапывая то одной, то другой ногой кучу пыли.
Собаки, свернувшись по три, по четыре, лежат разношерстной кучей на любом дворе, бросаясь, по временам, от праздности, с лаем на редкого прохожего, до которого им никакого дела нет.
Простор и пустота – как в пустыне. Кое-где высунется из окна голова с седой бородой, в красной рубашке, поглядит, зевая, на обе стороны, плюнет и спрячется.
В другое окно, с улицы, увидишь храпящего на кожаном диване человека, в халате: подле него на столике лежат «Ведомости», очки, и стоит графин квасу.
Другой сидит по целым часам у ворот, в картузе, и в мирном бездействии смотрит на канаву с крапивой и на забор на противоположной стороне. Давно уж мнет носовой платок в руках – и всё не решается высморкаться: лень.
182
Там кто-то бездействует у окна, с пенковой трубкой, и когда бы кто ни прошел, всегда сидит он – с довольным, ничего не желающим и нескучающим взглядом.
В другом месте видел Райский такую же, сидящую у окна, пожилую женщину, весь век проведшую в своем переулке, без суматохи, без страстей и волнений, без ежедневных встреч с бесконечно-разнообразной породой подобных себе, и не ведающую скуки, которую так глубоко и тяжко ведают в больших городах, в центре дел и развлечений.
Райский, идучи из переулка в переулок, видел кое-где семью за трапезой, а там, в мещанском доме, уж подавали самовар.
В безлюдной улице за версту слышно, как разговаривают двое, трое между собой. Звонко раздаются голоса в пустоте и шаги по деревянной мостовой.
Где-то в сарае кучер рубит дрова, тут же поросенок хрюкает в навозе; в низеньком окне, в уровень с землею, отдувается коленкоровая занавеска с бахромой, путаясь в резеде, бархатцах и бальсаминах.
Там сидит, наклоненная над шитьем, бодрая, хорошенькая головка и шьет прилежно, несмотря на жар и всех одолевающую дремоту. Она одна бодрствует в доме и, может быть, сторожит знакомые шаги…
Из отворенных окон одного дома обдало его сотней звонких голосов, которые повторяли азы и делали совершенно лишнею надпись на дверях: «Школа».
Дальше набрел он на постройку дома, на кучу щепок, стружек, бревен и на кружок расположившихся около огромной деревянной чашки плотников. Большой каравай хлеба, накрошенный в квас лук да кусок красноватой соленой рыбы – был весь обед.
Мужики сидели смирно и молча, по очереди опускали ложки в чашку и опять клали их, жевали, не торопясь, не смеялись и не болтали за обедом, а прилежно, и будто набожно, исполняли трудную работу.
Райскому хотелось нарисовать эту группу усталых, серьезных, буро-желтых, как у отаитян, лиц, эти черствые, загорелые руки, с негнущимися пальцами, крепко вросшими, будто железными, ногтями, эти широко и мерно растворяющиеся рты и медленно жующие уста, и этот – поглощающий хлеб и кашу – голод.
183
Да, голод, а не аппетит: у мужиков не бывает аппетита. Аппетит вырабатывается праздностью, моционом и негой, голод – временем и тяжкой работой.
«Однако какая широкая картина тишины и сна! – думал он, оглядываясь вокруг, – как могила! Широкая рама для романа! Только что я вставлю в эту раму?»
Он мысленно снимал рисунок с домов, замечал выглядывавшие физиономии встречных, группировал лица бабушки, дворни.
Всё это пока толпилось около Марфиньки. Она была центром картины. Фигура Беловодовой отступила на второй план и стояла одиноко.
Он медленно, машинально шел по улицам, мысленно разрабатывая свой новый материал. Все фигуры становились отчетливо у него в голове, всех он видел их там, как живыми.
«Что, если б на этом сонном, неподвижном фоне – да легла картина страсти! – мечтал он. – Какая жизнь вдруг хлынула бы в эту раму! Какие краски… Да где взять красок и… страсти тоже?..»
«Страсть! – повторил он очень страстно. – Ах, если б на меня излился ее жгучий зной, сжег бы, пожрал бы артиста, чтоб я слепо утонул в ней и утопил эти свои параллельные взгляды, это пытливое, двойное зрение! Надо, чтоб я не глазами, на чужой коже, а чтоб собственными нервами, костями и мозгом костей вытерпел огонь страсти, и после – желчью, кровью и потом написал картину ее, эту геенну в людской жизни. Страсть Софьи… Нет, нет! – холодно думал он. – Она “выше мира и страстей”. Страсть Марфиньки!» – он засмеялся.
Оба образа побледнели, и он печально опустил голову и равнодушно глядел по сторонам.
«Да, из них выйдет роман, – думал он, – роман, пожалуй, верный, но вялый, мелкий, – у одной с аристократическими, у другой с мещанскими подробностями. Там широкая картина холодной дремоты в мраморных саркофагах, с золотыми, шитыми на бархате, гербами на гробах; здесь – картина теплого летнего сна, на зелени, среди цветов, под чистым небом, но всё сна, непробудного сна!»
Он пошел поскорее, вспомнив, что у него была цель прогулки, и поглядел вокруг, кого бы спросить, где живет учитель Леонтий Козлов. И никого на улице: ни
184
признака жизни. Наконец он решился войти в один из деревянных домиков.
На крыльце его обдал такой крепкий запах, что он засовался в затруднении, которую из трех бывших там дверей отворить поскорее. За одной послышалось движение, и он вошел в небольшую переднюю.
– Кто там? – с изумлением спросила пожилая женщина, которая держала в объятиях самовар и готовилась нести его, по-видимому, ставить.
– Не можете ли вы мне сказать, где здесь живет учитель Леонтий Козлов? – спросил Райский.
Она с испугом продолжала глядеть на него во все глаза.
– Кто там? – послышался голос из другой комнаты, и в то же время зашаркали туфли и показался человек, лет пятидесяти, в пестром халате, с синим платком в руках.
– Вот учителя какого-то спрашивает! – сказала одурелая баба.
Господин в халате тоже воззрился с удивлением на Райского.
– Какого учителя? Здесь не живет учитель… – говорил он, продолжая с изумлением глядеть на посетителя.
– Извините, я приезжий, только сегодня утром приехал, и не знаю никого: я случайно зашел в эту улицу и хотел спросить…
– Не угодно ли пожаловать в комнату? – ласково пригласил хозяин войти.
Райский последовал за ним в маленькую залу, где стояли простые, обитые кожей стулья, такое же канапе и ломберный столик под зеркалом.
– Прошу садиться! – просил он. – Вы какого учителя изволите спрашивать? – продолжал он, когда они сели.
– Леонтия Козлова.
– Есть купец Козлов, торгует в рядах… – задумчиво говорил хозяин.
– Нет, Козлов, учитель древней словесности, – повторил Райский.
– Словесности… нет, не знаю… Вам бы в гимназии спросить – она там на горе…
«Это я и сам знаю», – подумал Райский.
– Извините, – сказал он, – я думал, что всякий его знает, так как он давно в городе.
185
– Позвольте… не он ли у председателя учит детей? Так он там и живет: бравый такой из себя…
– Нет, нет – этот не бравый! – с усмешкой заметил Райский, уходя.
Вышедши на улицу, он наткнулся на какого-то прохожего и спросил, не знает ли он, где живет учитель Леонтий Козлов.
Тот подумал немного, оглядел с ног до головы Райского, потом отвернулся в сторону, высморкался в пальцы и сказал, указывая в другую сторону:
– Это, должно быть, там, на выезде, за мостом: там какой-то учитель живет.
К счастию Райского, прохожий кантонист вслушался в разговор.
– Эх, ты: это садовник! – сказал он.
– Знаю, что садовник, да он учитель, – возразил первый. – К нему господа на выучку ребят присылают…
– Им не его надо, – возразил писарь, глядя на Райского, – пожалуйте за мной! – прибавил он и проворно пошел вперед.
Райский следовал за ним из улицы в улицу, и, наконец, вожатый привел его к тому дому, откуда звонко и дружно раздавались азы.
– Вот школа, вон и учитель сам сидит! – прибавил он, указывая в окно на учителя.
– Да это совсем не то! – с неудовольствием отозвался Райский, бесясь на себя, что забыл дома спросить адрес Козлова.
– А то еще на горе есть гимназия… – сказал кантонист.
– Ну, хорошо, спасибо, я найду сам! – поблагодарил Райский и вошел в школу, полагая, что учитель верно знает, где живет Леонтий.
Он не ошибся: учитель, загнув в книгу палец, вышел с Райским на улицу и указал, как пройти одну улицу, потом завернуть направо, потом налево.
– Там упретесь в садик, – прибавил он, – тут Козлов и живет.
«Да, долго еще до прогресса! – думал Райский, слушая раздававшиеся ему вслед детские голоса и проходя в пятый раз по одним и тем же улицам и опять не встречая живой души. – Что за фигуры, что за нравы, какие явления! Все, все годятся в роман: все эти штрихи, оттенки,
186
обстановка – перлы для кисти! Каков-то Леонтий: изменился или всё тот же ученый, но недогадливый младенец? Он – тоже находка для художника!»
И вошел в дом.
V
Леонтий принадлежал к породе тех, погруженных в книги и ничего, кроме их, не ведающих ученых, живущих прошлою или идеальною жизнию, жизнию цифр, ипотез, теорий и систем, и не замечающих настоящей, кругом текущей жизни.
Выводится и, кажется, вывелась теперь эта любопытная порода людей на белом свете. Изида сняла вуаль с лица, и жрецы ее, стыдясь, сбросили парики, мантии, длиннополые сюртуки, надели фраки, пальто и вмешались в толпу.
Редко где встретишь теперь небритых, нечесаных ученых, с неподвижным и вечно задумчивым взглядом, с одною, вертящеюся около науки речью, с односторонним, ушедшим в науку умом, иногда и здравым смыслом, неловких, стыдливых, убегающих женщин, глубокомысленных, с забавною рассеянностью и с умилительной младенческой простотой, – этих мучеников, рыцарей и жертв науки. И педант науки – теперь стал анахронизмом, потому что ею не удивишь никого.
Леонтий принадлежал еще к этой породе, с немногими смягчениями, какие сделало время. Он родился в одном городе с Райским, воспитывался в одном университете.
Глядя на него, еще на ребенка, непременно скажешь, что и ученые, по крайней мере такие, как эта порода, подобно поэтам, тоже – nascuntur1. Всегда, бывало, он с растрепанными волосами, с блуждающими где-то глазами, вечно копающийся в книгах или в тетрадях, как будто у него не было детства, не было нерва – шалить, резвиться.
Потешалась же над ним и молодость. То мазнет его сажей по лицу какой-нибудь шалун, Леонтий не догадается
187
и ходит с пятном целый день, к потехе публики, да еще ему же достанется от надзирателя, зачем выпачкался.
Даст ли ему кто щелчка или дернет за волосы, ущипнет, – он сморщится, и вместо того, чтоб вскочить, броситься и догнать шалуна, он когда-то соберется обернуться и посмотрит рассеянно во все стороны, а тот уж за версту убежал, а он почесывает больное место, опять задумывается, пока новый щелчок или звонок к обеду не выведут его из созерцания.
Съедят ли у него из-под рук завтрак или обед, он не станет производить следствия, а возьмет книгу посерьезнее, чтобы заморить аппетит, или уснет, утомленный голодом.
Промыслить обед, стащить или просто попросить – он был еще менее способен, нежели преследовать похитителей. Зато если ошибкой, невзначай, сам набредет на съестное, чужое ли, свое ли – то непременно, бывало, съест.
Как, однако, ни потешались товарищи над его задумчивостью и рассеянностию, но его теплое сердце, кротость, добродушие и поражавшая даже их, мальчишек в школе, простота, цельность характера, чистого и высокого, – всё это приобрело ему ничем не нарушимую симпатию молодой толпы. Он имел причины быть многими недоволен – им никто и никогда.
Выросши из периода шалостей, товарищи поняли его и окружили уважением и участием, потому что, кроме характера, он был авторитетом и по знаниям. Он походил на немецкого гелертера, знал древние и новые языки, хотя ни на одном не говорил, знал все литературы, был страстный библиофил.
Фактические знания его были обширны и не были стоячим болотом, не строились, как у некоторых из усидчивых семинаристов в уме строятся кладбища, где прибавляется знание за знанием, как строится памятник за памятником, и все они порастают травой и безмолвствуют.
У Леонтия, напротив, билась в знаниях своя жизнь, хотя прошлая, но живая. Он открытыми глазами смотрел в минувшее. За строкой он видел другую строку. К древнему кубку приделывал и пир, на котором из него пили, к монете – карман, в котором она лежала.
188
Часто с Райским уходили они в эту жизнь. Райский как дилетант – для удовлетворения мгновенной вспышки воображения, Козлов – всем существом своим; и Райский видел в нем в эти минуты то же лицо, как у Васюкова за скрипкой, и слышал живой, вдохновенный рассказ о древнем быте или, напротив, сам увлекал его своей фантазией – и они полюбили друг в друге этот живой нерв, которым каждый был по-своему связан с знанием.
Леонтий впадал в пристрастие к греческой и латинской грамоте и бывал иногда сух, казался педантичен, и это не из хвастовства, а потому, что она была ему мила, она была одеждой, сосудом, облекавшим милую, дорогую, изученную им и приветливо открывавшуюся ему старую жизнь, давшую начало настоящей и грядущей жизни.
Он любил ее, эту родоначальницу наших знаний, нашего развития, но любил слишком горячо, весь отдался ей, и от него ушла и спряталась современная жизнь. Он был в ней как будто чужой, не свой, смешной, неловкий.
Леонтий был классик и безусловно чтил всё, что истекало из классических образцов или что подходило под них. Уважал Корнеля, даже чувствовал слабость к Расину, хотя и говорил с усмешкой, что они заняли только тоги и туники, как в маскараде, для своих маркизов: но всё же в них звучали древние имена дорогих ему героев и мест.
В новых литературах, там, где не было древних форм, признавал только одну высокую поэзию, а тривиального, вседневного не любил; любил Данте, Мильтона, усиливался прочесть Клопштока – и не мог. Шекспиру удивлялся, но не любил его; любил Гёте, но не романтика-Гёте, а классика, наслаждался римскими элегиями и путешествиями по Италии больше, нежели «Фаустом», «Вильгельма Мейстера» не признавал, но знал почти наизусть «Прометея» и «Тасса».
Он шел смотреть Рафаэля, но авторитета фламандской школы не уважал, хотя невольно улыбался, глядя на Теньера.
Он был так беден, как нельзя уже быть беднее. Жил в каком-то чуланчике, между печкой и дровами, работал при свете плошки, и если б не симпатия товарищей, он не знал бы, где взять книг, а иногда белья и платья.
189
Подарков он не принимал, потому что нечем было отдарить. Ему находили уроки, заказывали диссертации и дарили за это белье, платье, редко деньги, а чаще всего книги, которых от этого у него накопилось больше, нежели дров.
Всё юношество кипело около него жизнью, строя великолепные планы будущего: один он не мечтал, не играл ни в полководцы, ни в сочинители, а говорил одно: «Буду учителем в провинции», – считая это скромное назначение своим призванием.
Товарищи, и между прочим Райский, старались расшевелить его самолюбие, говорили о творческой, производительной деятельности и о профессорской кафедре. Это, конечно, был маршальский жезл, венец его желаний. Но он глубоко вздыхал в ответ на эти мечты.
– Да, прекрасно, – говорил он, вдумываясь в назначение профессора, – действовать на ряды поколений живым словом, передавать всё, что сам знаешь и любишь! Сколько и самому для себя занятий, сколько средств: библиотека, живые толки с собратами, можно потом за границу, в Германию, в Кембридж… в Эдинбург, – одушевляясь, прибавлял он, – познакомиться, потом переписываться… Да нет, куда мне! – прибавлял он, отрезвляясь, – профессор обязан другими должностями, он в советах, его зовут на экзамены… Речь на акте надо читать… Я потеряюсь, куда мне! нет, буду учителем в провинции! – заключал он решительно и утыкал нос в книгу или тетради.
Все более или менее обманулись в мечтах. Кто хотел воевать, истреблять род людской, не успел вернуться в деревню, как развел кучу подобных себе и осовел на месте, погрузясь в толки о долгах в опекунский совет, в карты, в обеды.
Другой мечтал добиться высокого поста в службе, на котором можно свободно действовать на широкой арене, и добился места члена в клубе, которому и посвятил свои досуги.
Вот и Райский мечтал быть артистом, и всё «носит еще огонь в груди», всё производит начатки, отрывки, мотивы, эскизы и широкие замыслы, а имя его еще не громко, произведения не радуют света.
Один Леонтий достиг заданной себе цели и уехал учителем в провинцию.
190
Пришло время расставаться, товарищи постепенно уезжали один за другим. Леонтий оглядывался с беспокойством, замечал пустоту и тосковал, не зная, по непрактичности своей, что с собой делать, куда деваться.
– И ты! – уныло говорил он, когда кто-нибудь приходил прощаться.
Редкий мог не заплакать, расставаясь с ним, и сам он задыхался от слез, не помня ни щипков, ни пинков, ни проглоченных насмешек и не проглоченных, по их милости, обедов и завтраков.
Наконец надо было и ему хлопотать о себе. Но где ему? Райский поднял на ноги всё, профессора приняли участие, писали в Петербург и выхлопотали ему желанное место в желанном городе.
Там, на родине, Райский, с помощью бабушки и нескольких знакомых, устроили его на квартире, и только уладились все эти внешние обстоятельства, Леонтий принялся за свое дело, с усердием и терпением вола и осла вместе, и ушел опять в свою, или лучше сказать чужую, минувшую жизнь.
Татьяна Марковна не совсем была внимательна к богатой библиотеке, доставшейся Райскому, книги продолжали изводиться в пыли и в прахе старого дома. Из них Марфинька брала изредка кое-какие книги, без всякого выбора: как, например, Свифта, «Павла и Виргинию», или возьмет Шатобриана, потом Расина, потом роман мадам Жанлис, и книги берегла, если не больше, то наравне с своими цветами и птицами.
Прочими книгами в старом доме одно время заведывала Вера, то есть брала, что ей нравилось, читала или не читала, и ставила опять на свое место. Но всё-таки до книг дотрогивалась живая рука, и они кое-как уцелели, хотя некоторые, постарее и позамасленнее, тронуты были мышами. Вера писала об этом через бабушку к Райскому, и он поручил передать книги на попечение Леонтия.
Леонтий обмер, увидя тысячи три волюмов – и старые, запыленные, заплесневелые книги получили новую жизнь, свет и употребление, пока, как видно из письма Козлова, какой-то Марк чуть было не докончил дела мышей.
191
VI
Леонтий был женат. Эконом какого-то казенного заведения в Москве держал между прочим стол для приходящих студентов, давая за рубль с четвертью медью три, а за полтинник четыре блюда. Студенты гурьбой собирались туда.
Их привлекали не одни щи, каша, лапша, макароны, блины и т. п. из казенной капусты, крупы и муки, не дешевизна стола, а также и дочь эконома, которая управляла и отцом и студентами.
Она была очень молоденькая в ту эпоху, когда учились Райский и Козлов, но, несмотря на свои шестнадцать или семнадцать лет, чрезвычайно бойкая, всегда порхавшая, быстроглазая девушка.
У ней был прекрасный нос и грациозный рот, с хорошеньким подбородком. Особенно профиль был правилен, линия его строга и красива. Волосы рыжеватые, немного потемнее на затылке, но чем шли выше, тем светлее, и верхняя половина косы, лежавшая на маковке, была золотисто-красноватого цвета: от этого у ней на голове, на лбу, отчасти и на бровях, тоже немного рыжеватых, как будто постоянно горел луч солнца.
Около носа и на щеках роились веснушки и не совсем пропадали даже зимою. Из-под них пробивался пунцовый пламень румянца. Но веснушки скрадывали огонь щек и придавали лицу тень, без которой оно казалось как-то слишком ярко освещено и открыто.
Оно имело еще одну особенность: постоянно лежащий смех в чертах, когда и не было чему и не расположена она была смеяться. Но смех как будто застыл у ней в лице и шел больше к нему, нежели слезы, да едва ли кто и видал их на нем.
Студенты все влюблялись в нее, по очереди или по нескольку в одно время. Она всех водила за нос и про любовь одного рассказывала другому и смеялась над первым, потом с первым над вторым. Некоторые из-за нее перессорились.
Кто-то догадался и подарил ей парижские ботинки и серьги, она стала ласковее к нему: шепталась с ним, убегала в сад и приглашала к себе по вечерам пить чай.
Другие узнали и последовали тому же примеру: кто дарил материю на платье, под предлогом благодарности за хлопоты о продовольствии, кто доставал ложу, носили
192
ей конфекты, и Улинька стала одинаково любезна почти со всеми.
Тут развернулись ее способности. Если кто, бывало, станет ревновать ее к другим, она начнет смеяться над этим, как над делом невозможным, и вместе с тем умела казаться строгой, бранила волокит за то, что завлекают и потом бросают неопытных девиц.
Она порицала и осмеивала подруг и знакомых, когда они увлекались, живо и с удовольствием расскажет всем, что сегодня на заре застали Лизу, разговаривающую с письмоводителем чрез забор в саду, или что вон к той барыне (и имя, отчество, и фамилию скажет) ездит всё барин в карете и выходит он от нее часу во втором ночи.
Соперников она учила, что и как говорить, когда спросят о ней, когда и где были вчера, куда уходили, что шептали, зачем пошли в темную аллею или в беседку, зачем приходил вечером тот или другой – всё.
Леонтий, разумеется, и не думал ходить к ней: он жил на квартире, на хозяйских однообразных харчах, то есть на щах и каше, и такой роскоши, чтоб обедать за рубль с четвертью или за полтинник, есть какие-нибудь макароны или свиные котлеты, – позволять себе не мог. И одеться ему было не во что: один вицмундир и двое брюк, из которых одни нанковые для лета, – вот весь его гардероб.
Но Райский раза три повел его туда. Леонтий не обращал внимания на Ульяну Андреевну и жадно ел, чавкая вслух и думая о другом, и потом робко уходил домой, не говоря ни с кем, кроме соседа, то есть Райского.
И некрасив он был: худ, задумчив, черты неправильные, как будто все врознь, ни румянца, ни белизны на лице: оно было какое-то бесцветное.
Только когда он углубится в длинные разговоры с Райским или слушает лекцию о древней и чужой жизни, читает старца-классика, – тогда только появлялась вдруг у него жизнь в глазах, и глаза эти бывали умны, оживлены.
Но где Улиньке было заметить такую красоту? Она заметила только, что у него то на вицмундире пуговицы нет, то панталоны разорваны или худые сапоги. Да еще странно казалось ей, что он ни разу не посмотрел на нее пристально, а глядел как на стену, на скатерть.
193
Этого еще никогда ни с кем не случалось, кто приходил к ней. Даже и невпечатлительные молодые люди, и те остановят глаза прежде всего на ней.
А этот ни на нее, ни на кухарку Устинью не взглянет, когда та подает блюда, меняет тарелки.
А Устинья тоже замечательна в своем роде. Она – постоянный предмет внимания и развлечения гостей. Это была нескладная баба, с таким лицом, которое как будто чему-нибудь сильно удивилось когда-то, да так на всю жизнь и осталось с этим удивлением. Но Леонтий и ее не замечал.
Уж у Улиньки не раз скалились зубы на его фигуру и рассеянность, но товарищи, особенно Райский, так много наговорили ей хорошего о нем, что она ограничивалась только своим насмешливым наблюдением, а когда не хватало терпения, то уходила в другую комнату разразиться смехом.
– Какой смешной этот Козлов у вас! – говорила она.
– Он предобрый! – хвалил его кто-нибудь.
– Преумный, с какими познаниями: по-гречески только профессор да протопоп в соборе лучше его знают! – говорил другой. – Его адъюнктом сделают.
– Высокой нравственности! – прибавлял с увлечением третий.
Однажды – это было в пятый или шестой раз, как он пришел с Райским обедать – он, по рассеянности, пересидел за обедом всех товарищей; все ушли, он остался один и задумчиво жевал какое-то пирожное из рису.
Он не заметил, что Ульяна Андреевна подставила другую полную миску, с тем же рисом. Он продолжал машинально доставать ложкой рис и класть в рот.
Она тихонько переменила третью, подложив еще рису, и сама из-за двери другой комнаты наблюдала, как он ел, и зажимала платком рот, чтоб не расхохотаться вслух. Он всё ел.
«“Добрый!” – думала она, – собак не бьет! Какая же это доброта, коли он ничего подарить не может! “Умный!” – продолжала она штудировать его, – ест третью тарелку рисовой каши и не замечает! Не видит, что всё кругом смеются над ним! “Высоконравственный!”..»
194
Она подумала, подумала над этим эпитетом, почесала себе пальцем темя, осмотрела рассеянно свои ногти и зевнула.
– На нем, кажется, и рубашки нет: не видать! Хороша нравственность! – заключила она.
Он всё ел.
«Эк жрет: и не взглянет!» – думала она и не выдержала, принялась хохотать.
Он услыхал смех, очнулся, растерялся и стал искать фуражку.
– Не торопитесь, доедайте, – сказала она, – хотите еще?
– Нет… нет… Я домой… – говорил он стыдливо, не глядя на нее, и совался из угла в угол, отыскивая фуражку.
А Улинька давно схватила ее с окна и надела на себя.
– Где ж она? Кто-нибудь из ваших унес, – сказала она.
– Не может быть… – говорил Леонтий, бросая туда и сюда рассеянные взгляды, – свою бы оставил, а то нет никакой…
«Везде глядит, только не на меня, – медведь!» – думала она.
– Нет ли какой-нибудь шапки? – спросил он, – тут недалеко, я дойду как-нибудь.
– Куда вы? Рано: пойдемте в сад! Может быть, фуражку сыщем, – звала она… – Не затащил ли кто-нибудь туда, в беседку?
Он машинально пошел за ней, и когда они прошли шагов десять по дорожке, он взглянул случайно на нее и увидел свою фуражку. Кроме фуражки, он опять ничего не заметил…
– Ах! – обрадовался он, – это вы…
Тут только он взглянул на нее, потом на фуражку, опять на нее и вдруг остановился с удивленным лицом, как у Устиньи, даже рот немного открыл и сосредоточил на ней испуганные глаза, как будто в первый раз увидал ее. Она засмеялась.
«Насилу разглядел!» – подумала она и надела на него фуражку.
– Что ж вы стали? Идите со мной, – сказала она.
– Мне пора! – отвечал он, не двигаясь с места.
– Куда пора? Успеете – я не пущу вас.
195
Она быстро опять сняла у него фуражку с головы; он машинально обеими руками взял себя за голову, как будто освидетельствовал, что фуражки опять нет, и лениво пошел за ней, по временам робко и с удивлением глядя на нее.
– Отчего вы к нам обедать не ходите? Приходите завтра, – сказала она.
– Дорого! – отвечал он.
– Дорого! Разве вы… так бедны? – с любопытством спросила она.
– Да, я очень… – отвечал он, потупясь.
Он было застыдился своей бедности, потом вдруг ему стало стыдно этой мелкой черты, которая вдруг откуда-то ошибкой закралась к нему в характер.
– Я очень беден, – сказал он, – разве вам не говорил Райский, что мне иногда за квартиру нечем заплатить: вы видите?
Он показывал ей полинявший и отчасти замаслившийся рукав вицмундира.
Она равнодушно глядела на изношенный рукав, как на дело до нее не касающееся, потом на всю фигуру его, довольно худую, на худые руки, на выпуклый лоб и бесцветные щеки. Только теперь разглядел Леонтии этот, далеко запрятанный в черты ее лица смех.
– Вы смеетесь надо мной? – спросил он с удивлением. Так неестественно казалось ему смеяться над бедностью.
– И не думала, – равнодушно сказала она, – что за редкость – изношенный мундир? Мало ли я их вижу!
Он недоверчиво поглядел на нее; она действительно не смеялась и не хотела смеяться, только смеялось у ней лицо.
– Вон у вас пуговицы нет. Постойте, не уходите, подождите меня здесь! – заметила она, проворно побежала домой и через две минуты воротилась с ниткой, иглой, с наперстком и пуговицей.
– Стойте смирно, не шевелитесь! – сказала она, взяла в одну руку борт его сюртука, прижала пуговицу и другой рукой живо начала сновать взад и вперед иглой мимо носа Леонтья.
Щека ее была у его щеки, и ему надо было удерживать дыхание, чтоб не дышать на нее. Он устал от этого напряженного положения, и даже его немного бросило в пот. Он не спускал глаз с нее.
196
«Да у ней чистый римский профиль!» – с удивлением думал он.
Через две минуты она кончила, потом крепко прижалась щекой к его груди, около самого сердца, и откусила нитку. Леонтий онемел на месте и стоял растерянный, глядя на нее изумленными глазами.
Это кошачье проворство движений, рука, чуть не задевающая его по носу, наконец прижатая к груди щека кружили ему голову.
Он будто охмелел. От нее веяло на него теплом и нежным запахом каких-то цветов.
«Что это такое, что же это?.. Она, кажется, добрая,– вывел он заключение, – если б она только смеялась надо мной, то пуговицы бы не пришила. И где она взяла ее? Кто-нибудь из наших потерял!»
– Что ж стоите? Скажите «merci» да поцелуйте ручку! Ах, какой! – сказала она повелительно и прижала крепко свою руку к его губам, всё с тем же проворством, с каким пришивала пуговицу, так что поцелуй его раздался в воздухе, когда она уже отняла руку.
Леонтий взглянул на нее еще раз и потом уже никогда не забыл. В нем зажглась вдруг сильная, ровная и глубокая страсть.
– Приходите завтра обедать, – сказала она.
– Дорого! – отвечал он наивно. Но занял у Райского немного денег и пришел. Потом опять пришел.








