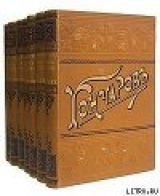
Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том. 7"
Автор книги: Иван Гончаров
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 47 (всего у книги 54 страниц)
X
На другой день после такой бессонной ночи Татьяна Марковна послала с утра за Титом Никонычем. Он приехал было веселый, радуясь, что угрожавшая ей и «отменной девице» Вере Васильевне болезнь и расстройство миновались благополучно, привез громадный арбуз и ананас в подарок, расшаркался, разлюбезничался, блистая складками белоснежной сорочки, желтыми нанковыми панталонами, синим фраком с золотыми пуговицами и сладчайшей улыбкой.
– Обновил к осени фуфайку: поздравьте, – сказал он, – подарок дражайшего Бориса Павловича…
Взглянув на Татьяну Марковну, он вдруг остолбенел и испугался.
Она, накинув на себя меховую кацавейку и накрыв голову косынкой, молча сделала ему знак идти за собой и повела его в сад. Там, сидя на скамье Веры, она два
683
часа говорила с ним и потом воротилась, глядя себе под ноги, домой, а он, не зашедши к ней, точно убитый, отправился к себе, велел камердинеру уложиться, послал за почтовыми лошадьми и уехал в свою деревню, куда несколько лет не заглядывал.
Райский зашел к нему и с удивлением услышал эту новость. Обратился к бабушке, та сказала, что у него в деревне что-то не покойно.
Вера была грустнее, нежели когда-нибудь. Она больше лежала небрежно на диване и смотрела в пол или ходила взад и вперед по комнатам старого дома, бледная, с желтыми пятнами около глаз.
На лбу у ней в эти минуты ложилась резкая линия – намек на будущую морщину. Она грустно улыбалась, глядя на себя в зеркало. Иногда подходила к столу, где лежало нераспечатанное письмо на синей бумаге, бралась за ключ и с ужасом отходила прочь.
«Куда уйти? где спрятаться от целого мира?» – думала она.
Нынешний день протянулся до вечера, как вчерашний, как, вероятно, протянется завтрашний. Настал вечер, ночь. Вера легла и загасила свечу, глядя открытыми глазами в темноту. Ей хотелось забыться, уснуть, но сон не приходил.
В темноте рисовались ей какие-то пятна, чернее самой темноты. Пробегали, волнуясь, какие-то тени по слабому свету окон. Но она не пугалась: нервы были убиты, и она не замерла бы от ужаса, если б из угла встало перед ней привидение, или вкрался бы вор или убийца в комнату, не смутилась бы, если б ей сказали, что она не встанет более.
И она продолжала глядеть в темноту, на проносившиеся волнистые тени, на черные пятна, сгущавшиеся в темноте, на какие-то вертящиеся, как в калейдоскопе, кружки…
Вдруг ей показалось, что дверь ее начинает понемногу отворяться, вот скрыпнула…
Она оперлась на локоть и устремила глаза в дверь.
Показался свет и рука, загородившая огонь. Вера перестала смотреть, положила голову на подушку и притворилась спящею. Она видела, что это была Татьяна Марковна, входившая осторожно с ручной лампой. Она спустила с плеч на стул салоп и шла тихо к постели, в белом капоте, без чепца, как привидение.
684
Поставив лампу на столик, за изголовьем Веры, она сама села напротив, на кушетку, так тихо, что не стукнула лампа у ней, когда она ставила ее на столик, не заскрипела кушетка, когда она садилась.
Она пристально смотрела на Веру: та лежала с закрытыми глазами. Татьяна Марковна, опершись щекой на руку, не спускала с нее глаз и изредка, удерживая вздохи, тихо облегчала ими грудь.
Прошло больше часа. Вера вдруг открыла глаза: Татьяна Марковна смотрит на нее пристально.
– Тебе не спится, Верочка?
– Не спится.
– Отчего?
Молчание. Вера глядела в лицо Татьяны Марковны и заметила, что она бледна.
«Не может перенести удара, – думала Вера, – а притворства недостает, правда рвется наружу…»
– Зачем вы казните меня и по ночам, бабушка? – сказала она тихо.
Бабушка молча смотрела на нее.
Вера отвечала ей таким же продолжительным взглядом. Обе женщины говорили глазами и, казалось, понимали друг друга.
– Не смотрите так, ваша жалость убьет меня. Лучше сгоните меня со двора, а не изливайте по капле презрение… Бабушка! мне невыносимо тяжело! простите, а если нельзя, схороните меня куда-нибудь живую! Я бы утопилась…
– Зачем, Вера, не то говорит у тебя язык, что думает голова?
– А зачем вы молчите? что у вас на уме? Я не понимаю вашего молчания и мучаюсь. Вы хотите что-то сказать и не говорите…
– Тяжело, Вера, говорить. Молись – и пойми бабушку без разговора… если можно…
– Пробовала молиться, да не могу. О чем? чтоб умереть скорей?
– О чем ты тоскуешь, когда всё забыто? – сказала Татьяна Марковна, пытаясь еще раз успокоить Веру, и пересела с кушетки к ней на постель.
– Нет, не забыто! моя вина написана у вас в глазах… Они всё говорят…
– Что они говорят?
– Что нельзя жить больше, что… всё погибло.
685
– Не умеешь ты читать бабушкиных взглядов!
– Я умру, я знаю: только бы скорей, ах, скорей! – говорила Вера, ворочая лицо к стене.
Татьяна Марковна тихо покачала головой.
– Нельзя жить! – с унылой уверенностью повторила Вера.
– Можно! – с глубоким вздохом сказала Татьяна Марковна.
– После… того?.. – обернувшись к ней, спросила Вера.
– После того…
Теперь Вера вздохнула безнадежно.
– Вы не знаете, бабушка… вы не такая!..
– Такая!.. – чуть слышно, наклоняясь к ней, прошептала Татьяна Марковна.
Вера быстро взглянула на нее с жадностью раза два-три, потом печально опустилась на подушки.
– Вы святая! Вы никогда не были в моем положении… – говорила она, как будто про себя. – Вы праведница!
– Грешница! – чуть слышно прошептала Татьяна Марковна.
– Все грешны… но не такая грешная, как я…
– Такая же…
– Что?! – вдруг приподнявшись на локоть, с ужасом в глазах и в голосе, спросила Вера.
– Такая же грешница, как и ты…
Вера обеими руками вцепилась ей в кофту и прижалась лицом к ее лицу.
– Зачем клевещешь на себя? – почти шипела она, дрожа, – чтоб успокоить, спасти бедную Веру? Бабушка, бабушка, не лги!
– Я не лгу никогда, – шептала, едва осиливая себя, старуха, – ты это знаешь. Солгу ли я теперь? Я грешница… грешница… – говорила она, сползая на колени перед Верой и клоня седую голову ей на грудь. – Прости и ты меня!
Вера замерла от ужаса.
– Бабушка… – шептала она и в изумлении широко открыла глаза, точно воскресая, – может ли это быть?
И вдруг с силой прижала голову старухи к груди.
– Что ты делаешь? зачем говоришь мне это?.. Молчи! Возьми назад свои слова! я не слыхала, я их забуду, сочту своим бредом… не казни себя для меня!
686
– Нельзя: Бог велит! – говорила старуха, стоя на коленях у постели и склонив голову.
– Встань, бабушка!.. Поди ко мне сюда!..
Бабушка плакала у ней на груди.
И Вера зарыдала, как ребенок.
– Зачем сказала ты…
– Надо! Он велит смириться, – говорила старуха, указывая на небо, – просить у внучки прощения. Прости меня, Вера, прежде ты. Тогда и я могу простить тебя… Напрасно я хотела обойти тайну, умереть с ней… Я погубила тебя своим грехом…
– Ты спасаешь меня, бабушка… от отчаяния…
– И себя тоже, Вера. Бог простит нас, но Он требует очищения! Я думала, грех мой забыт, прощен. Я молчала и казалась праведной людям: неправда! Я была – как «окрашенный гроб» среди вас, а внутри таился неомытый грех! Вот он где вышел наружу – в твоем грехе! Бог покарал меня в нем… Прости же меня от сердца…
– Бабушка! разве можно прощать свою мать? Ты святая женщина! Нет другой такой матери… Если б я тебя знала… вышла ли бы я из твоей воли?..
– Это мой другой страшный грех! – перебила ее Татьяна Марковна, – я молчала и не отвела тебя… от обрыва! Мать твоя из гроба достает меня за это: я чувствую – она всё снится мне… Она теперь тут, между нас… Прости меня и ты, покойница! – говорила старуха, дико озираясь вокруг и простирая руку к небу. У Веры пробежала дрожь по телу. – Прости и ты, Вера – простите обе!.. Будем молиться!..
Вера силилась поднять ее.
Татьяна Марковна тяжело встала на ноги и села на кушетку. Вера подала ей одеколон и воды, смочила ей виски, дала успокоительных капель и сама села на ковре, осыпая поцелуями ее руки.
– Ты знаешь, нет ничего тайного, что не вышло бы наружу! – заговорила Татьяна Марковна, оправившись. – Сорок пять лет два человека только знали: он да Василиса, и я думала, что мы умрем все с тайной. А вот – она вышла наружу! Боже мой! – говорила как будто в помешательстве Татьяна Марковна, вставая, складывая руки и протягивая их к образу Спасителя, – если б я знала, что этот гром ударит когда-нибудь в другую… в мое дитя, – я бы тогда же – на площади, перед собором, в толпе народа, исповедала свой грех!
686
Вера слушала в изумлении, глядя большими глазами на бабушку, боялась верить, пытливо изучала каждый ее взгляд и движение, сомневаясь, не героический ли это поступок, не великодушный ли замысел – спасти ее, падшую, поднять? Но молитва, коленопреклонение, слезы старухи, обращение к умершей матери… Нет, никакая актриса не покусилась бы играть в такую игру, а бабушка – вся правда и честность!
Вере становилось тепло в груди, легче на сердце. Она внутренно вставала на ноги, будто пробуждалась от сна, чувствуя, что в нее льется волнами опять жизнь, что тихо, как друг, стучится мир в душу, что душу эту, как темный, запущенный храм, осветили огнями и наполнили опять молитвами и надеждами. Могила обращалась в цветник.
Кровь у ней начала свободно переливаться в жилах; даль впереди, всё мало-помалу принимает свой утерянный ход, как испорченные и исправленные рукою мастера часы. Люди к ней дружелюбны, природа опять заблестит для нее красотой.
Завтра она встанет бодрая, живая, покойная, увидит любимые лица, уверится, что Райский не притворялся, говоря, что она стала его лучшей, поэтической мечтой.
Тушин по-прежнему будет горд и счастлив ее дружбой и станет «любить ее еще больше», он сам сказал. С бабушкой они теперь – не бабушка с внучкой, а две подруги, близкие, равные, неразлучные.
Она даже нечаянно начала ей говорить «ты», как и Райскому, когда заговорило прямо сердце, забывшее холодное «вы», и она оставит за собой это право.
Она теперь только поняла эту усилившуюся к ней, после признания, нежность и ласки бабушки. Да, бабушка взяла ее неудобоносимое горе на свои старые плечи, стерла своей виной «ее вину» и не сочла последнюю за «потерю чести». Потеря чести! Эта справедливая, мудрая, нежнейшая женщина в мире, всех любящая, исполняющая так свято все свои обязанности, никого никогда не обидевшая, никого не обманувшая, всю жизнь отдавшая другим, – эта всеми чтимая женщина «пала, потеряла честь»!
Стало быть, ей, Вере, надо быть бабушкой в свою очередь, отдать всю жизнь другим и, путем долга, нескончаемых жертв и труда, начать «новую» жизнь, не
688
похожую на ту, которая стащила ее на дно обрыва… любить людей, правду, добро…
Всё это вихрем неслось у ней в голове и будто уносило ее самое на каких-то облаках. Ей на душе становилось свободнее, как преступнику, которому расковали руки и ноги.
Она вдруг встала…
– Бабушка, – сказала она, – ты меня простила, ты любишь меня больше всех, больше Марфиньки – я это вижу! А видишь ли, знаешь ли ты, как я тебя люблю? Я не страдала бы так сильно, если б так же сильно не любила тебя! Как долго мы не знали с тобой друг друга!..
– Сейчас узнаешь всё: выслушай мою исповедь – и осуди строго или прости – и Бог простит нас…
– Я не хочу, не должна, не смею! Зачем?..
– Затем, чтоб и мне вытерпеть теперь то, что я должна была вытерпеть сорок пять лет тому назад. Я укрыла свой грех! Ты знаешь его, узнает и Борис. Пусть внук посмеется над сединами старой Кунигунды!..
Бабушка прошла раза два в волнении по комнате, тряся с фанатической решимостью головой.
Она опять походила на старый женский фамильный портрет в галерее, с суровой важностью, с величием и уверенностью в себе, с лицом, истерзанным пыткой, и с гордостью, осилившей пытку. Bepa чувствовала себя жалкой девочкой перед ней и робко глядела ей в глаза, мысленно меряя свою молодую, только что вызванную на борьбу с жизнью силу – с этой старой, искушенной в долгой жизненной борьбе, но еще крепкой, по-видимому несокрушимой силой.
«Я не понимала ее! Где была моя хваленая “мудрость” перед этой бездной!..» – думала она и бросилась на помощь бабушке – помешать исповеди, отвести ненужные и тяжелые страдания от ее измученной души. Она стала перед ней на колени и взяла ее за обе руки.
– Ты сама чувствуешь, бабушка, – сказала она, – что ты сделала теперь для меня: всей моей жизни не достанет, чтоб заплатить тебе. Нейди далее: здесь конец твоей казни! Если ты непременно хочешь, я шепну слово брату о твоем прошлом – и пусть оно закроется навсегда! Я видела твою муку: зачем ты хочешь еще истязать себя исповедью? Суд совершился – я не приму ее. Не мне слушать и судить тебя – дай мне только обожать
689
твои святые седины и благословлять всю жизнь! Я не стану слушать: это мое последнее слово!
Татьяна Марковна вздохнула, потом обняла ее.
– Да будет так! – сказала она, – я принимаю твое решение, как Божие прощение, – и благодарю тебя за пощаду моей седины…
– Пойдем теперь туда, к тебе, отдохнем обе, – говорила Вера.
Татьяна Марковна почти на руках донесла ее до дому, уложила в свою постель и легла с ней рядом.
Когда Вера, согретая в ее объятиях, тихо заснула, бабушка осторожно встала и, взяв ручную лампу, загородила рукой свет от глаз Веры и несколько минут освещала ее лицо, глядя с умилением на эту бледную, чистую красоту лба, закрытых глаз и на все, точно рукой великого мастера изваянные, чистые и тонкие черты белого мрамора, с глубоким, лежащим в них миром и покоем.
Она поставила лампу, перекрестила спящую, дотронулась губами до ее лба и опустилась на колени у постели.
– Милосердуй над ней! – молилась она почти в исступлении, – и если не исполнилась еще мера гнева Твоего, отведи его от нее – и ударь опять в мою седую голову!..
Долго после молитвы сидела она над спящей, потом тихо легла подле нее и окружила ее голову своими руками. Вера пробуждалась иногда, открывала глаза на бабушку, опять закрывала их и в полусне приникала всё плотнее и плотнее лицом к ее груди, как будто хотела глубже зарыться в ее объятия.
XI
Проходили дни, и с ними опять тишина повисла над Малиновкой. Опять жизнь, задержанная катастрофой, как река порогами, прорвалась сквозь преграду и потекла дальше, ровнее.
Но в этой тишине отсутствовала беспечность. Как на природу внешнюю, так и на людей легла будто осень. Все были задумчивы, сосредоточены, молчаливы, от всех отдавало холодом, слетели и с людей, как листья с деревьев, улыбки, смех, радости. Мучительные скорби
690
миновали, но колорит и тоны прежней жизни изменились.
У Веры с бабушкой установилась тесная, безмолвная связь. Они, со времени известного вечера, после взаимной исповеди, хотя и успокоили одна другую, но не вполне успокоились друг за друга и обе вопросительно, отчасти недоверчиво, смотрели вдаль, опасаясь будущего.
Переработает ли в себе бабушка всю эту внезапную тревогу, как землетрясение, всколыхавшую ее душевный мир? – спрашивала себя Вера и читала в глазах Татьяны Марковны, привыкает ли она к другой, не прежней Вере и к ожидающей ее новой, неизвестной, а не той судьбе, какую она ей гадала? Не сетует ли бессознательно про себя на ее своевольное ниспровержение своей счастливой, старческой дремоты? Воротится ли к ней когда-нибудь ясность и покой в душу?
А Татьяна Марковна старалась угадывать будущее Веры, боялась, вынесет ли она крест покорного смирения, какой судьба, по ее мнению, налагала как искупление за «грех»? Не подточит ли сломленная гордость и униженное самолюбие ее нежных, молодых сил? Излечима ли ее тоска, не обратилась бы она в хроническую болезнь?
Бабушка машинально приняла опять бразды правления над своим царством. Вера усердно ушла в домашние хлопоты, особенно заботилась о приданом Марфиньки и принесла туда свой вкус и труд.
В ожидании какого-нибудь серьезного труда, какой могла дать ей жизнь со временем, по ее уму и силам, она положила не избегать никакого дела, какое представится около нее, как бы оно просто и мелко ни было, – находя, что под презрением к мелкому, обыденному делу и под мнимым ожиданием или изобретением какого-то нового, еще небывалого труда и дела кроется у большей части просто лень, или неспособность, или, наконец, больное и смешное самолюбие – ставить самих себя выше своего ума и сил.
Она решила, что «дела» изобретать нельзя, что оно само, силою обстоятельств, выдвигается на очередь в данный момент и что таким естественным путем рождающееся дело – только и важно, и нужно.
Следовательно, надо зорко смотреть около, не лежит ли праздно несделанное дело, за которым явится на
691
очередь следующее, по порядку, и не бросаться за каким-нибудь блуждающим огнем, или «миражем», как говорит Райский.
Не надо пуще всего покладывать рук и коснеть «в блаженном успении», в постоянном «отдыхе», без всякого труда.
Она была бледнее прежнего, в глазах ее было меньше блеска, в движениях меньше живости. Всё это могло быть следствием болезни, скоро захваченной горячки: так все и полагали вокруг. При всех она держала себя обыкновенно, шила, порола, толковала со швеями, писала реестры, счеты, исполняла поручения бабушки. И никто ничего не замечал.
– Поправляется барышня, – говорили люди.
Райский замечал также благоприятную перемену в ней и по временам, видя ее задумчивою, улавливая иногда блеснувшие и пропадающие слезы, догадывался, что это были только следы удаляющейся грозы, страсти. Он был доволен, и его собственные волнения умолкали все более и более, по мере того как выживались из памяти все препятствия, раздражавшие страсть, все сомнения, соперничество, ревность.
Вера, по настоянию бабушки (сама Татьяна Марковна не могла), передала Райскому только глухой намек о ее любви, предметом которой был Ватутин, не сказав ни слова о «грехе». Но этим полудоверием вовсе не решилась для Райского загадка – откуда бабушка, в его глазах старая девушка, могла почерпнуть силу, чтоб снести, с не девическою твердостью, мужественно, не только самой – тяжесть «беды», но успокоить и Веру, спасти ее окончательно от нравственной гибели, собственного отчаяния.
А она очевидно сделала это. Как она приобрела власть над умом и доверием Веры? Он недоумевал – и только больше удивлялся бабушке, и это удивление выражалось у него невольно.
Всё обращение его с нею приняло характер глубокого, нежного почтения и сдержанной покорности. Возражения на ее слова, прежняя комическая война с ней – уступили место изысканному уважению к каждому ее слову, желанию и намерению. Даже в движениях его появилась сдержанность, почти до робости.
Он не забирался при ней на диван прилечь, вставал, когда она подходила к нему, шел за ней послушно в
692
деревню и поле, когда она шла гулять, терпеливо слушал ее объяснения по хозяйству. Во всё, даже мелкие отношения его к бабушке, проникло то удивление, какое вызывает невольно женщина с сильной нравственной властью.
А она, совершив подвиг, устояв там, где падают ничком мелкие натуры, вынесши и свое, и чужое бремя с разумом и величием, тут же, на его глазах, мало-помалу опять обращалась в простую женщину, уходила в мелочи жизни, как будто пряча свои силы и величие опять – до случая, даже не подозревая, как она вдруг выросла, стала героиней и какой подвиг совершила.
В дворне после пронесшейся какой-то необъяснимой для нее тучи было недоумение, тяжесть. Люди притихли. Не слышно шума, брани, смеха, присмирели девки, отгоняя Егорку прочь.
В особенно затруднительном положении очутилась Василиса. Она и Яков, как сказано, дали обет, если барыня придет в себя и выздоровеет, он – поставить большую вызолоченную свечу к местной иконе в приходской церкви, а она – сходить пешком в Киев.
Яков исчез однажды рано утром со двора, взяв на свечу денег из лампадной суммы, отпускаемой ему на руки барыней. Он водрузил обещанную свечу перед иконой за ранней обедней.
Но у него оказался излишек от взятой из дома суммы. Крестясь поминутно, он вышел из церкви и прошел в слободу, где оставил и излишек, и пришел домой «веселыми ногами», с легким румянцем на щеках и на носу.
Его нечаянно встретила Татьяна Марковна. Она издали почуяла запах вина.
– Что с тобой, Яков? – спросила она с удивлением. – Ради чего ты…
– Сподобился, сударыня! – отвечал он, набожно склонив голову на сторону и сложив руки горстями на груди, одна на другую.
Он объявил и Василисе, что «сподобился» выполнить обет. Василиса поглядела на него и вдруг стала сама не своя. Она тоже «обещалась», и до этой минуты, среди хлопот около барыни, с приготовлениями к свадьбе, не вспомнила об обете.
693
И вдруг Яков уже исполнил, и притом в одно утро, и вон ходит, полный благочестивого веселья. А она обещалась в Киев сходить!
– Как я пойду, силы нет, – говорила она, щупая себя. – У меня и костей почти нет: всё одни мякоти! Не дойду – Господи помилуй!
И точно у ней одни мякоти. Она насидела их у себя в своей комнате, сидя тридцать лет на стуле у окна, между бутылями с наливкой, не выходя на воздух, двигаясь тихо, только около барыни да в кладовые. Питалась она одним кофе да чаем, хлебом, картофелем и огурцами, иногда рыбою, даже в мясоед.
Она пошла к отцу Василью, прося решить ее сомнения. Она слыхала, что добрые «батюшки» даже разрешают от обета совсем, по немощи, или заменяют его другим. «Каким?» – спрашивала она себя на случай, если отец Василий допустит замен.
Она сказала, по какому случаю обещалась, и спросила: идти ли ей?
– Коли обещалась, как же нейти? – сказал отец Василий. – Надо идти!
– Да я с испуга обещалась, думала, барыня помрет. А она через три дня встала. Так за что ж я этакую даль пойду?
– Да, это не ближний путь, в Киев! Вот то-то, обещать, а потом и назад! – журил он, – нехорошо. Не надо было обещать, коли охоты нет…
– Есть, батюшка, да сил нет: мякоти одолели, до церкви дойду – одышка мучает. Мне седьмой десяток! Другое дело, кабы барыня маялась в постели месяца три, да причастили ее и особоровали бы маслом, а Бог, по моей грешной молитве, поднял бы ее на ноги, так я бы хоть ползком поползла. А то она и недели не хворала!
Отец Василий улыбнулся.
– Как же быть? – сказал он.
– Я бы другое что обещала. Нельзя ли переменить?
– На что же другое?
Василиса задумалась.
– Я пост на себя наложила бы: мяса всю жизнь в рот не стану брать, так и умру.
– А ты любишь его?
– Нет, и смотреть-то тошно! отвыкла от него…
Отец Василий опять улыбнулся.
694
– Как же так, – сказал он, – ведь надо заменить трудное одинаково трудным или труднейшим, а ты полегче выбрала!
Василиса вздохнула.
– Нет ли чего-нибудь такого, чего бы тебе не хотелось исполнить – подумай!
Василиса подумала и сказала, что нет.
– Ну так надо в Киев идти! – решил он.
– Если б не мякоти, с радостью бы пошла, вот перед Богом!
Отец Василий задумался.
– Как бы облегчить тебя? – думал он вслух. – Ты что любишь: какую пищу употребляешь?
– Чай, кофий – да похлебку с грибами и картофелем…
– Кофе любишь?
– Охотница.
– Ну так – воздержись от кофе, не пей!
Она вздохнула.
«Да, – подумалось ей, – и вправду тяжело: это почти всё равно, что в Киев идти!»
– Чем же мне питаться, батюшка? – спросила она.
– Мясом.
Она взглянула на него, не смеется ли он.
Он точно смеялся, глядя на нее.
– Ведь ты не любишь его; ну и принеси жертву.
– Какая же польза: оно скоромное, батюшка.
– Ты в скоромные дни и питайся им! А польза та, что мякотей меньше будет. Вот тебе полгода срок: выдержи – и обет исполнишь.
Она ушла, очень озабоченная, и с другого дня послушно начала исполнять новое обещание, со вздохом отворачивая нос от кипящего кофейника, который носила по утрам барыне.
Еще с Мариной что-то недоброе случилось. Она, еще до болезни барыни, ходила какой-то одичалой и задумчивой и валялась с неделю на лежанке, а потом слегла, объявив, что нездорова, встать не может.
– Бог карает! – говорил Савелий, кряхтя и кутая ее в теплое одеяло.
Василиса доложила барыне. Татьяна Марковна велела позвать Меланхолиху, ту самую бабу-лекарку, к которой отправляли дворовых и других простых людей на вылечку.
695
Меланхолиха, по тщательном освидетельствовании больной, шепотом объявила Василисе, что болезнь Марины превышает ее познания. Ее отправили в клинику, в соседний город, за двести верст.
Сам Савелий отвез ее и по возвращении, на вопросы обступившей его дворни, хотел что-то сказать, но только поглядел на всех, поднял выше обыкновенного кожу на лбу, сделав складку в палец толщиной, потом плюнул, повернулся спиной и шагнул за порог своей клетушки.
Недели через полторы Марфинька вернулась с женихом и с его матерью из-за Волги, еще веселее, счастливее и здоровее, нежели поехала. Оба успели пополнеть. Оба привезли было свой смех, живость, шум, беготню, веселые разговоры.
Но едва пробыли часа два дома, как оробели и присмирели, не найдя ни в ком и ни в чем ответа и сочувствия своим шумным излияниям. От смеха и веселого говора раздавалось около них печальное эхо, как в пустом доме.
На всем лежал какой-то туман. Даже птицы отвыкли летать к крыльцу, на котором кормила их Марфинька. Ласточки, скворцы и все летние обитатели рощи улетели, и журавлей не видно над Волгой. Котята все куда-то разбежались.
Цветы завяли, садовник выбросил их, и перед домом вместо цветника лежали черные круги взрытой земли, с каймой бледного дерна, да полосы пустых гряд. Несколько деревьев завернуты были в рогожу. Роща обнажалась всё больше и больше от листьев. Сама Волга почернела, готовясь замерзнуть.
Но это природа: это само по себе не делает, а только усиливает скуку людям. «А вот – что с людьми сталось, со всем домом?» – спрашивала Марфинька, глядя в недоумении вокруг.
Гнездышко Марфиньки, ее комнатки наверху, потеряли свою веселость. В нем поселилось с Верой грустное молчание.
У Марфиньки на глазах были слезы. Отчего всё изменилось? Отчего Верочка перешла из старого дома? Где Тит Никоныч? Отчего бабушка не бранит ее, Марфиньку: не сказала даже ни слова за то, что вместо недели она пробыла в гостях две? Не любит больше? Отчего Верочка не ходит по прежнему одна по полям и роще?
696
Отчего все такие скучные, не говорят друг с другом, не дразнят ее женихом, как дразнили до отъезда? О чем молчат бабушка и Вера? Что сделалось со всем домом?
Марфиньку кое-как успокоили ответами на некоторые вопросы. Другие обошли молчанием.
– Вера перешла оттого, – сказали ей, – что печи в старом доме, в ее комнате, стали плохи, не держат тепла.
– Тит Никоныч уехал унимать беспорядки в деревне.
– Вера не ходит гулять, потому что простудилась и пролежала три дня в постели, почти в горячке.
Марфинька, услыхав слово «горячка», испугалась задним числом и заплакала.
На вопрос, «о чем бабушка с Верой молчат и отчего первая ее ни разу не побранила, что значило – не любит», Татьяна Марковна взяла ее за обе щеки и задумчиво, со вздохом, поцеловала в лоб. Это только больше опечалило Марфиньку.
– Мы верхом ездили, Николай Андреич дамское седло выписал. Я одна каталась в лодке, сама гребла, в рощу с бабами ходила! – затрогивала Марфинька бабушку, в надежде, не побранит ли она хоть за это.
Татьяна Марковна, будто с укором, покачала головой, но Марфинька видела, что это притворно, что она думает о другом или уйдет и сядет подле Веры.
Марфинька печалилась и ревновала ее к сестре, но сказать боялась и потихоньку плакала. Едва ли это была не первая серьезная печаль Марфиньки, так что и она бессознательно приняла общий серьезно-туманный тон, какой лежал над Малиновкой и ее жителями.
Она молча сидела с Викентьевым: шептать им было не о чем. Они и прежде беседовали о своих секретах во всеуслышание. И редко-редко удавалось Райскому вызвать ее на свободный лепет, или уж Викентьев так рассмешит, что терпенья никакого не станет, и она прорвется нечаянно смехом, а потом сама испугается, оглянется вокруг, замолчит и погрозит ему.
Викентьеву это молчание, сдержанность, печальный тон были не по натуре. Он стал подговаривать мать попросить у Татьяны Марковны позволения увезти невесту и уехать опять в Колчино до свадьбы, до конца октября. К удовольствию его, согласие последовало легко
697
и скоро, и молодая чета, как пара ласточек, с веселым криком улетела от осени к теплу, свету, смеху, в свое будущее гнездо.
Бабушка, однако, заметила печаль Марфиньки и – сколько могла, отвлекла ее внимание от всяких догадок и соображений, успокоила, обласкала и отпустила веселой и беззаботной, обещавши приехать за ней сама, «если она будет вести себя там умно».
Райский съездил за Титом Никонычем и привез его чуть живого. Он похудел, пожелтел, еле двигался, и только увидев Татьяну Марковну, всю ее обстановку и себя самого среди этой картины, за столом, с заткнутой за галстух салфеткой, или у окна на табурете, подле ее кресел, с налитой ею чашкой чаю, – мало-помалу пришел в себя и стал радоваться, как ребенок, у которого отняли и вдруг опять отдали игрушки.
Он, от радости, вдруг засмеется и закроется салфеткой, потрет руки одна о другую с жаром или встанет и ни с того ни с сего поклонится всем присутствующим и отчаянно шаркнет ножкой. А когда все засмеются над ним, он засмеется пуще всех, снимет парик и погладит себе с исступлением лысину или потреплет вместо Пашутки Василису по щечке.
Словом, он немного одурел и пришел в себя на третий день – и тогда уже стал задумчив, как другие.
Круг семьи в Малиновке увеличился одним членом. Райский однажды вдруг явился с Козловым к обеду. Сердечнее, радушнее встречи нельзя нигде и никому оказать, какая оказана была оставленному своей Дидоной супругу.
Татьяна Марковна, с женским тактом, не дала ему заметить, что знает его горе. Обыкновенно в таких случаях встречают гостя натянутым молчанием, а она встретила его шуткой, и этому тону ее последовали все.
– Что это ты (она давно говорила ему это драгоценное «ты»), Леонтий Иванович, забыл нас совсем? Борюшка говорит, что я не умею угостить тебя, что кухня моя тебе не нравится: ты говорил ему?
– Как не нравится: когда я говорил тебе? – обратился он строго к Райскому.
Все засмеялись.
– Да вы нарочно! – улыбнувшись нехотя, сказал Леонтий.
698
Он уж успел настолько справиться с своим горем, что стал сознавать необходимость сдерживаться при людях и прикрывать свою невзгоду условным приличием.
– Да, не был я у вас давно: у меня жена… уехала в Москву… повидаться с родными, – тихо сказал он, глядя вниз, – так я и не мог…
– Вот ты бы у нас пожил, – заметила Татьяна Марковна, – одному скучно дома…
– Я жду ее… боюсь, чтоб без меня не приехала.
– Тебе дадут знать: ведь мимо нас ей ехать. Мы сейчас остановим, как только въедет в слободу. Из окон старого дома видно, когда едут по дороге.
– В самом деле… Да, оттуда видна московская дорога, – с оживлением, подняв на Татьяну Марковну глаза, сказал Козлов и почти обрадовался.
– Право, переезжай к нам…








