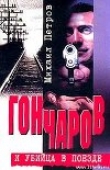Текст книги "Полное собрание сочинений и писем в двадцати томах. Том I."
Автор книги: Иван Гончаров
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 50 страниц)
К моей постели одинокой
Не крался в темноте ночной…
В зале крестный папенька Прасковьи Михайловны играл в одном углу в вист с мужем сестры хозяйки и еще двумя чиновниками, которые были с ним очень почтительны. В другом углу девушка разливала чай. Дамское общество было в гостиной. На диване сидела старшая сестра Прасковьи Михайловны, женщина высокого росту, прямая, как веха, потом хозяйка и еще две какие-то девицы. Около них любезничали два племянника крестного папеньки – один студент, другой юнкер. Дамы сидели, мужчины стояли, потому что негде было сесть. Играли в фанты.
– Вы, конечно, с нами останетесь, с молодыми людьми? – сказала Прасковья Михайловна Ивану Савичу с детскою резвостию, – что вам там делать со стариками? Не прикажете ли варенья? Молчи, Жужу! ах, скверная собачонка! Вы погладьте ее только один раз, а там уж она привыкнет к вам. Вот так.
– Ах! да она кусается! – сказал Иван Савич, отдернув руку.
– Нет-с, никогда.
– Помилуйте! вот, посмотрите, до крови.
– Ах ты дрянь! вот я тебе ужо розгу дам! – сказала Прасковья Михайловна. – Не угодно ли с нами в фанты? Вы будете, хоть… что бы? мы играем в туалет – все вещи разобраны… ну, будьте гребень.
– Да это я взяла! – пропищала одна маленькая девочка.
– Ты, ma ch?re, гребеночка, а они будут частый гребень. Так вы частый гребень.
163
– Очень хорошо-с, – сказал Иван Савич.
Принесли еще два стула, поставили у дверей и стали играть. При словах: барыня спрашивает весь туалет , все бросились менять места. Ивану Савичу не раз доставалось бросаться со всего размаху на диван с камнем внутри. Он быстро вскакивал, а другой или другая, зная хорошо это седалище, проворно, но осторожно садились на его место, а он оставался.
Иван Савич познакомился со всеми. Чиновникам он рассказал про свой образ жизни, и те немало завидовали ему.
– Утром я встаю в десятом часу, – говорил он хвастливо, – иногда хожу в должность, иногда нет, как случится… потом-с часа в три иду гулять на Невский проспект. Там, знаете, весь beau monde10 гуляет тогда, встречаешь множество знакомых, с тем слово, с другим два. Зайдешь к Беранже иностранные газеты прочитать: об испанских делах, о французском министерстве… Так время неприметно и пройдет до обеда.
– А позвольте спросить, кто теперь министром у французов? – спросил крестный.
«Министром? А черт его знает!» – подумал Иван Савич. – Теперь-с… – начал он и остановился.
– Ась? – спросил крестный.
– Теперь… министерство распущено, – вдруг сказал Иван Савич, как будто по вдохновению, – никого нет.
– Стало быть, товарищи управляют, – примолвил тот.
– Там ведь одно министерство, – сказал Иван Савич. – Как, неужели? И один министр?
– Нет-с, много.
– Много! какая диковинка…
И пошли толки о том, как это должно быть неудобно.
– Потом, – продолжал Иван Савич, – иду обедать к Леграну или к Дюме. Тут соберутся приятели, покутим, вечер в театре: так и жуируем жизнию…
– Вот живут-то! э! – сказал с завистью один чиновник, – пожил бы так! а то в восемь часов иди в должность да и корпи до пяти! Заживо умрешь.
– Что должность: сухая материя! – примолвил Иван Савич. – Жизнь коротка, сказал один философ: надо жуировать ею.
164
Иван Савич признан был всем обществом за любезного, фешенебельного и вообще достойного молодого человека. Крестный особенно был ласков с ним.
Иван Савич благодарил его за дозволение бывать у его крестницы по четвергам.
– Сам я не надеялся получить это позволение, – начал Иван Савич, – Прасковья Михайловна так боязливы…
– Ась?
– Прасковья Михайловна так боязливы…
– Оно не то что боязлива, извольте видеть… – отвечал крестный, – а того… получила от отца фундаментальное воспитание. Мать была, правда, баловница, – не тем будь помянута, – да умерла рано; а покойник-то отец, мой сослуживец, уж коллежский советник, – вот он был строг, не любил баловать. Он ее и приучил к аккуратности и воздержанию. Не будь его, смоталась бы, чисто смоталась бы девка. Да он, – царство ему небесное, – был с правилами человек и ей внушил. А то она…
– Что такое? – спросил Иван Савич.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
После этого вечера Иван Савич решился прийти и не в четверг. Его встретили градом упреков и в то же время сняли со стула шаль и ридикюль, чтобы очистить ему место. Он повторял эти визиты в неделю раз, потом чаще и чаще. Прием всегда был одинаковый. Наконец однажды он решился приступить к объяснению. Был зимний вечер. Всё было тихо кругом. Кухарка спала у себя в кухне. Горничная ушла к соседям в гости. Сама Прасковья Михайловна сидела на диване и шила в пяльцах. Иван Савич сначала сидел напротив ее, потом у него в голове мелькнули какие-то соображения, и он сел рядом с ней на диване, так что ему был виден затылок и вся спина соседки. Он открыл, что косыночка не доходила вплоть до платья и часть плеча оставалась обнаженною. Он уж был откровенен с Прасковьей Михайловной, говорил ей о дружбе, о любви, – не к ней, а вообще. Она сначала зажимала уши, кричала, потом не зажимала ушей и не кричала, но зато ничего не отвечала, так что Ивана Савича брало зло. Он решился заговорить о любви к ней. Для этого-то он и пересел рядом, чтобы, в случае неблагосклонного приема своих объяснений, избегнуть грозных взоров оскорбленной добродетели.
165
– Прасковья Михайловна! – сказал он.
– Чего изволите?
– Вы… бывали влюблены?
– Что вы это? опомнитесь: ведь я девушка.
– Так что же? разве девушки не влюбляются?
– Не должны! – сказала она строго, – пока ни за кого не помолвлены.
А сама так и сновала иглой, то вверх, то вниз.
– Да ведь любовь иногда не ждет помолвки.
– Об этом и думать не должно! – сказала она.
– Ну да неужели вам никто не нравился?
Молчание.
– Прасковья Михайловна!
– Чего изволите?
– Неужели вы не любили никогда?
Молчание.
«Экая дубина! – подумал Иван Савич, – хоть бы что-нибудь… хотя бы плюнула. Брякнуть ей о писаре разве? да нет, подожду, еще что будет».
– А я думал… – начал он, – я надеялся, что, может быть… я удостоюсь… что постоянная моя внимательность будет награждена…
– Что это сегодня как будто на вас нашло? – сказала она. – Бог знает что вы говорите! Не пора ли вам домой? десятый час.
– Зачем мне домой! что я там стану делать?
– Заниматься науками.
– Нет-с, я не уйду, пока не выскажу… всего… я… вы… мы… знаете, Прасковья Михайловна, любовь двух душ есть такая симпатия… это, так сказать, жизненный бальзам. Почему бы? скажите, – о, скажите хоть одно слово!
Она молчала.
«Ну видано ли этакое дерево?» – думал он. – Вы камень, вы лед… почему бы вам не разделить с человеком счастия? почему не пожуировать? Жизнь коротка, сказал один философ…
– Ах, что вы? – вскричала она, закрыв лицо руками. – Боже мой! если б увидали…
166
– О, разделите это чувство, несравненная Прасковья Михайловна! – кричал Иван Савич, – которое бушует в моей груди… вы не знаете, как я страдаю… одна мысль быть подле вас, жить вечно с вами приводит меня… О! вы не понимаете…
– Не говорите, не говорите! – кричала она, зажимая уши. – Боже мой! что вы, что вы? Вечером, я одна… Что подумают?
– Но скажите одно слово, одно, дайте ответ! – говорил Иван Савич, – и я готов ждать хоть до утра…
– Я! ответ! чтоб я теперь дала ответ! Вы не щадите моей скромности! Боже мой! Теперь, вечером, с такими объяснениями… Ответ! Нет, нет, лучше подождите хоть до завтра. Или нет, в среду утром, в двенадцать часов, вы получите ответ…
Иван Савич пришел в восторг.
– Несравненная Прасковья Михайловна! – сказал он, – как благодарить вас?.. о! счастье! Вот что значит жуировать жизнию! Это истинное, высокое, так сказать, сладостное…
Он не вытерпел и поцеловал ее руку.
– Ах! – воскликнула Прасковья Михайловна, и иголка выпала из ее рук. – Что вы сделали? Вы, вы опозорили меня… Как! так рано, прежде моего ответа! Это ужасно! Приходите в среду, я вас жду, а теперь уйдите, уйдите!
Она убежала в спальню и заперлась.
«В среду так в среду, – подумал Иван Савич. – Да что ж она испугалась так? не всё ли равно, что сегодня, что через три дня…»
На третий день после того Авдей доложил Ивану Савичу, когда этот воротился из должности, что дворник зачем-то пришел.
– Что ты, любезный? – спросил Иван Савич, вышедши в переднюю.
Дворник глупо улыбался, кланялся, держа обеими руками шапку, но ничего не говорил.
– Что тебе надо?
– Проздравить вашу милость пришел.
– С чем? – спросил с удивлением Иван Савич.
Дворник опять начал кланяться, улыбаться.
– Авдей! с чем это он меня поздравляет?
– Не могу знать! – отвечал Авдей.
– С добрым делом: с скорым вступлением в законный брак, батюшка!
– Что-о?
– В законный брак…
– Как? с кем? что ты? с ума, что ли, сошел?
– Никак нет, батюшка. Слышь, с верхней нашей жиличкой, Прасковьей Михайловной…
167
– Как!
Иван Савич остолбенел.
– Кто ж тебе сказывал? – спросил он.
– Соседка Прасковьи Михайловны давеча встретила меня. «Что, говорит, у вас скоро свадьба?» – да и рассказала… слышь, завтра помолвка будет… Еще приказчик от меховщика, что напротив нас, сказывал: вишь, сегодня сама Прасковья Михайловна была там. Они давно торговали у них мех, да всё не решались, а тут, слышь, сама сказала, что не завтра, так послезавтра возьмет: к свадьбе, говорит, надо, чтоб поспело; мясоеду немного остается. А давеча и сама кухарка говорила, что к завтрему кулебяку пекут: слышь, утром помолвка… Да что греха таить! приходил какой-то барин с крестом, спрашивал: и как вы живете и всё этакое…
Дворник поклонился и опять стал улыбаться.
– Чай, квартирку-то другую возьмете? – примолвил он. – У нас скоро очистится вон там; выгоняем жильца: в срок не платит; славно бы…
– Стой! стой! – закричал Иван Савич и, взяв дворника за плечи, оборотил спиной и вытолкнул вон.
Потом обратился к Авдею:
– А! что ты скажешь, Авдей?
– Не могу знать!
– Только и слышишь от тебя: не могу знать! Сделай милость, моги хоть раз: ну?
– Не могу… – начал Авдей.
Иван Савич и его, точно так же как дворника, вытолкал вон. Он долго ходил по комнатам взад и вперед и по временам к чему-то прислушивался.
– Да, да, точно, – ворчал он, – наверху скребут пол, чистят – так! дворник не соврал! Да и вон кухарка пронесла огромную чашку муки, множество яиц: кулебяка будет! Вон и сама Прасковья Михайловна; о коварная змея! с девкой идет. Девка несет кулек: оттуда торчит телячья нога, зелень. Сама несет узел с чем-то… провизии множество… Кому это всё съесть? Ясно, что пир будет. А! так вот она что затевает! Она ошиблась… она думала, что я сделал ей предложение… жениться! То-то она и отложила до послезавтра. Какова! о змея, змея! на-ка поди, что выдумала!
Иван Савич терялся в этих мыслях и час от часу всё более тревожился.
– Что делать? как быть? как же объяснить ей? Ох, неловко: Господи, помоги!
168
Он бил себя кулаком по лбу, метался во все углы, как бы отвратить бурю. Он уже принял два содовых порошка – не помогло! выпил две рюмки мараскину – легче стало. Выпил еще рюмку – и вдруг лицо его прояснело.
– Авдей! Авдей! – закричал он, – поди, поди сюда… Знаешь что?
– Не могу знать!
– Фу-ты, Боже мой! да как ты не догадался, что надо делать? неужели не догадываешься?
Не могу… – начал Авдей.
Иван Савич махнул рукой.
– Слушай! – сказал он. – Так отказаться неловко. Понимаешь? Пойти да объясниться, что я, дескать, не о женитьбе говорил, а так только… не годится. Спросят, что же я предлагал? как я скажу? Выйдет история… И тут она захныкала, что я опозорил ее: поцеловал руку. Великая важность! Так мы, знаешь что? неужели не догадался?
– Не могу знать!
– Мы съедем на другую квартиру.
Авдей встрепенулся.
– Помилуйте, – начал он, – Господи, Создатель! этакую квартиру оставлять! удобство всякое: и сарай особый, и ледничек от хозяина дают. Воля ваша: пожалуйте мне расчет…
– А! тебе хочется, чтоб я в историю попал! лень постараться вывесть из беды!
– Помилуйте…
– Нет тебе денег, пока не отыщешь квартиры.
– Да где ее найдешь?
– Где хочешь. Видишь, житья нет: притесняют. Ищи! завтра же утром чтоб нас не было здесь. И подальше, в другой конец, в Коломну.
– Да хоть денька три подождите.
– Денька три! чтоб нас насильно женили! Слышишь, мех покупают, кулебяку пекут, долбня ты этакая! Съедем, пока не куплен мех, а купят, тогда не отвяжемся… Да постой: мне Бурмин говорил, что у них в доме есть квартира; сходи сейчас же, и, если не занята, завтра же утром и переезжать.
– Знаю, сударь, я эту квартиру: ледника-то нет…
Иван Савич махнул рукой и пошел прочь.
Утром Авдей доложил, что та квартира не занята. Иван Савич опять велел ему переезжать, а сам уехал, сказавши,
169
что он будет к вечеру прямо на новую квартиру. На крыльце он столкнулся с крестным папенькой. Крестный был в белом галстухе, в белом жилете… Он остановил Ивана Савича.
– Крестница сообщила мне радостное известие о вашем предложении и просила моего посредства, – сказал он. – Сегодня она повестила родных: вас ожидают. Священник благословит. Я искренно рад: по собрании ближайших сведений о вас, они оказываются удовлетворительными, и я, не находя никакого с своей стороны препятствия, честь имею… поздравить… а она… будет послушной женой. Отец ей не оставил богатства, но дал, что называется, фундаментальное воспитание и внушил правила…
– Извините… – сказал Иван Савич.
– Ась?
– Извините… я спешу…
– Известное дело: случай такой. Много хлопот… Мое почтение.
Иван Савич бежал без оглядки.
Опять Авдей нагрузил три воза и нагрузился сам вещами своего барина и побрел с лестницы. Вверху думали, что Иван Савич затевает перемену мебели в своей квартире, по случаю предстоящей свадьбы, и были покойны. Но когда Авдей понес с лестницы часы, подсвечники и прочее, там стали подозревать что-то недоброе.
Крестный папенька Прасковьи Михайловны, сестра ее и все остальные гурьбой вышли на лестницу и окружили Авдея.
– Где же барин? – спрашивали они.
– Не могу знать! – отвечал Авдей.
– Скоро ли он воротится?
– Не могу знать!
– Будет ли к нам?
– Не могу знать!
– Будет ли на помолвку?
– Не могу знать!
– Женится ли он? слышно ли? говорил ли кому-нибудь?
– Не могу знать!
– Не для свадьбы ли он нанял новую квартиру?
– Не могу знать! не могу знать! не могу знать! – закричал Авдей, вырвался из круга вопрошателей и опрометью бросился со двора, отдав дворнику ключ.
170
Все остались на лестнице с разинутыми ртами, глядя ему вслед.
– Что же это такое? – сказала Прасковья Михайловна.
Когда дворник рассказал, как Иван Савич принял его поздравление, Прасковья Михайловна упала в обморок.
– Что теперь скажут про меня? – промолвила она, очнувшись. – Крестный, заступитесь за меня: я умру.
– А вот мы отношением обратимся к его начальству, – сказал негодующий крестный. – Да нет, – прибавил он потом горестно, – вывернутся, ей-богу, вывернутся: опять такую же бумагу напишут с крючком. Есть же там этакой! Он докажет про Ивана Савича, что такого лица и на свете нет. Это ему плевое дело. Ах, как пишет! Что же, батюшка! милости просим: не пропадать же кулебяке!
И они сели за стол.
171
1 «Герцогиня Шатору» (фр.)
2 – Граф сказал сейчас что-то смешное? не правда ли? (фр.)
3 тысячу извинений (фр.)
4 – Что он говорит? (фр.)
5 – Но здесь нет фортепьяно (фр.)
6 припев (фр.)
7 – Это мило (фр.)
8 ах! этот граф! (фр.)
9 – Что значит (фр.)
10 высший свет (фр.)
[Балакин А. Ю., Гродецкая А. Г., Туниманов В. А.] Примечания к очерку «Иван Савич Поджабрин» // Гончаров И. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб.: «Наука», 1997. Т. 1. С. 657-673.
Иван Савич Поджабрин(Очерки)
(С. 103-171)
Автограф неизвестен.
Источники текста:
С. 1848. № 1. Отд. I. С. 49-124.
Для легкого чтения: Повести, рассказы, комедии, путешествия и стихотворения современных русских писателей. СПб., 1856. Т. 2. С. 1-115 (ценз. разр. – 22 мая 1856 г.).
Впервые опубликовано: С. 1848. № 1. Отд. I. С. 49-124, с подписью: «Ив. Гончаров» и датой: «1842 г.».
В собрание сочинений впервые включено: 1896. Т. IX.
Печатается по тексту С со следующим исправлением:
С. 147, строка 43: «Иван Савич» вместо: «Он» (по контексту).1
Текст «Современника» в качестве основного выбран по ряду соображений.
Прежде всего известно, что Гончаров (как, впрочем, и другие писатели) был недоволен качеством публикации в сборнике «Для легкого чтения». Сохранилась записка, представленная им в Петербургский цензурный комитет (т. е. по месту его тогдашней службы) перед отъездом в отпуск за границу весной 1857 г.: «Имею честь покорнейше просить господ ценсоров С.-Петербургского ценсурного комитета не дозволять в печать, без моего согласия, моих сочинений в издаваемом книгопродавцем Давыдовым Собрании повестей и другого рода статей под заглавием „Для легкого чтения”. 2 апреля 1857. Ст‹атский› сов‹етник› Иван Гончаров». На этом документе имеются расписки цензоров в том, что они с ним ознакомились, причем самую характерную запись оставил цензор «Для легкого чтения» В. Н. Бекетов: «Меня о сем уже просили многие». Вполне возможно, что Н. А. Некрасов – составитель сборников – не сообщил Гончарову о перепечатке «Поджабрина» или сообщил задним числом.2.
Действительно, набор текста очерка в сборнике, производившийся не с рукописи, а с первой публикации,3 осуществлен неряшливо (ср., например, пропуски слов, обессмысливающие текст (выделены далее курсивом): «Должность проклятая… не дадут заснуть!» (с. 115, строка 23); «– Ваше здоровье, милая Амалия! – закричал ‹…› князь и выпил бокал. – Merci, – отвечала соседка графа. – И я пью ваше» (с. 149, строка 30), и пропуск фразы «– У! какая добродетель! ~ понравиться
657
этакой!..» (с. 160, строка 19), исчезнувшей скорее всего в процессе верстки книги) и носит на себе явные следы определенной (характерной и для других текстов сборников «Для легкого чтения») корректорской правки (замена просторечных форм на литературные («маненько» на «маленько», «дошедши» на «дойдя», «проздравим» на «поздравим» и т. п.) и уменьшительных форм на полные («бутылочка» на «бутылка», «петушка» на «петуха» и т. п.)). Кроме того, обращает на себя внимание правка, сделанная лицом, недостаточно внимательно читавшим текст. Так, во фразе: «Уж с месяц посещал Иван Савич баронессу, но не позволял себе ни малейшего намека на любовь, или, как он говорил, на что-нибудь такое» (с. 146, строка 17) – «он» заменено на «Авдей». Действительно, немного выше эту фразу произносит Авдей (с. 144, строка 17), но еще раньше – сам Иван Савич (с. 129, строка 29). Вероятно, по замыслу автора, лакей должен был просто цитировать излюбленную фразу своего барина, а тот, кто готовил текст к печати, этого не понял. К тому же при подготовке очерка для сборника была устранена только одна из двух неувязок, возникших, скорее всего, из-за цензурного вмешательства в текст «Современника», – фраза о писаре (с. 166, строка 20). Однако осталось упоминание о некой Жозефине (с. 153, строка 6), которая, судя по всему, ранее фигурировала в сцене кутежа у баронессы.4
Можно с уверенностью сказать, что Гончаров не держал корректур сборника. Об этом говорит, в частности, следующее обстоятельство: в приводимом ниже письме к Ю. Д. Ефремовой от 25 октября-6 ноября 1847 г. он сообщал, что старается сократить в наборной рукописи большое количество «восклицательных знаков, наставленных переписчиком черт знает зачем», однако в тексте сборника содержится приблизительно на шестьдесят восклицательных знаков больше, чем в тексте «Современника».
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что набор текста очерка в сборнике осуществлялся с не правленного автором корректурного оттиска журнала, оставшегося в редакции «Современника».5
Работа над «очерками» началась ранее проставленной под ними авторской даты: «1842». М. В. Отрадин отметил: «В тексте есть на этот счет „подсказка”. Приятель Ивана Савича Вася ‹…› приглашает его в театр: “Асенкова в трех пьесах играет” ‹…› В. Н. Асенкова умерла в апреле 1841 года. Если бы „очерки” писались в 1842 году, вряд ли автор упомянул бы в таком комическом контексте только что умершую знаменитую актрису» (Отрадин. С. 5).
658
Жанр произведения Гончаров определил как «очерки» или «очерк»,6 однако не очень на этом определении настаивал. Готовя произведение к публикации в «Современнике», Гончаров отзывается о нем пренебрежительно и называет «рассказом». Он пишет Ю. Д. Ефремовой 25 октября-6 ноября 1847 г.: «Благодарю Вас за участие к моим трудам. И тут утешительного нечего сказать. Нового ничего нет, да сомневаюсь, и будет ли. Есть известный Вам небольшой рассказ, довольно вздорный: он появится в январской книжке. А теперь он пока у меня, я перечитываю его, кажется, в шестой раз, и всё никак не могу истребить восклицательных знаков, наставленных переписчиком черт знает зачем. Мараю, мараю, где-нибудь да останется».7 Судя по этим раздраженным словам, Гончаров тревожился за свой, хотя и «вздорный», рассказ – и, должно быть, поэтому так долго и тщательно готовил его к печати, (вряд ли правка касалась только истребления наставленных переписчиком восклицательных знаков).8
Исследователи, говоря об «Иване Савиче Поджабрине», более всего подчеркивали – имея в виду прежде всего слова самого Гончарова – очерково-нравоописательный характер произведения. Связывая «Ивана Савича Поджабрина» с той традицией «физиологического очерка», «которая стала формироваться в русской литературе в начале нового десятилетия», А. Г. Цейтлин отмечал, что близость рассказа к ней «проявляется во множестве жанровых картин петербургской жизни» (Цейтлин. С. 46-47). В ряде работ ученого было закономерно установлено жанровое, характерологическое и типологическое родство «очерков» с петербургскими физиологическими очерками и «чиновничьими» повестями Гоголя, Некрасова, Достоевского, Буткова, Григоровича.9 К сожалению, Цейтлин в соответствии с жесткими идеологическими предписаниями послевоенного времени неоправданно настаивал на приверженности Гончарова именно к русской традиции, отвергая бесспорные указания Н. К. Пиксанова на некоторые иностранные источники и параллели «Поджабрина» (см.: Пиксанов. Белинский в борьбе за Гончарова. С. 62; Цейтлин. С. 46). Влияние французских и английских нравоописательных очерков, физиологии, фельетонов на генезис «Ивана Савича Поджабрина» несомненно, хотя преувеличивать его, действительно,
659
не следует. Прежде всего очевидно тяготение «очерков» Гончарова к повестям и очеркам о «хлыщах», «жуирах», «франтах», камелиях, кокотках, дамах полусвета И. И. Панаева и других писателей, близких к так называемой «натуральной школе». В «Иване Савиче Поджабрине» преобладают жуиры и прожигатели жизни. Это, видимо, самый близкий к главному герою простодушный и нетребовательный любитель горничных Вася, какой-то офицер, другие его знакомые, которых он, чтобы «задать тону», называет графом Коркиным («славный молодой человек, первый жуир в Петербурге»), бароном Кизелем («Отлично играет на бильярде»), князем Дудкиным (душа жуирствующих молодых людей), а также гости баронессы князь Поскокин, граф Лужин, секретарь посольства m-r Шене и упоминаемые ею приятели граф Петушевский, граф Судков. Иван Савич беззастенчиво врет друзьям о своих «донжуанских» подвигах, и все они уверены, что в кутеже и жуировании и заключается смысл жизни, а труд и даже просто серьезное чтение являются уделом «чудаков». Один из них, вдохновленный рассказами Поджабрина и Васи, восклицает: «Славно мы живем! ‹…› право, славно: кутим, жуируем! вот жизнь так жизнь! завтра, послезавтра, всякий день. Вон Губкин: ну что его за жизнь! Утро в департаменте мечется как угорелый, да еще после обеда пишет, книги сочиняет; просто смерть!., чудак!» (наст. том, с. 132). В том же духе высказывается тучный князь Поскокин, насладившись куплетами Беранже в исполнении Шене («Что за дьявол этот Беранже! пожил и других учит жить: да чего больше? пить, любить, обманывать друг друга: тут вся история и философия рода человеческого» – наст. том, с. 151). А сам Поджабрин то и дело повторяет одну и ту же сентенцию: «Жизнь коротка! надо жуировать жизнию!». Веселый ужин у баронессы Цейх, своего рода кульминация произведения, – сцена, отчасти предвосхищающая загробную «катавасию» в рассказе Ф. М. Достоевского «Бобок». Поджабрин на ужине «знатных» господ выглядит особенно неприглядно: жалкий шут с нелепыми жестами и словами, которого напоили и нарядили дамой. Его обобрали и унизили. Но это мало смущает «пустоголового» героя, вспоминающего с упоением оргию у промышляющей «любовью» баронессы Цейх, приукрашивая «аристократический» ужин, точнее, привирая в стиле Хлестакова («Графы да князья… большой свет… не хочу! Бог с ними! я люблю свободу… ‹…› Вот в последний раз я ужинал вместе с секретарем посольства … что за здоровяк такой! вот жуир-то! звал в Париж» – наст. том, с. 162).
В последнее время такие казавшиеся бесспорными особенности произведения, как очерковость и «физиологическая» нравоописательность, стали оспариваться: «Никак нельзя признать, что герои гончаровских „очерков” определены, детерминированы средой. „Иван Савич Поджабрин” – это не только не физиологический очерк, а – по принципам изображения и раскрытия характеров – нечто очень далекое от „физиологии”».10
«Литературность» «Ивана Савича Поджабрина», особенно гоголевские традиции и приемы, отразившиеся в очерке, помимо Цейтлина
660
отмечали Н. Г. Евстратов (см.: Евстратов. С. 208-211), О. А. Демиховская11 и М. В. Отрадин (см.: Отрадин. С. 7-21), сопоставлявшие, в частности, главного героя произведения с Ковалевым, Поприщиным, Хлестаковым, Подколесиным, а его слугу Авдея – с Осипом из «Ревизора». «Литературность» произведения Гончарова, разумеется, не исчерпывается только гоголевскими приемами, ассоциациями, цитатами. Важным элементом литературной родословной «очерков» являются и басни Крылова. Кроме того, М. В. Отрадин обнаруживает в поджабринских «донжуанских» приключениях «комическое отражение печоринских», «комические или пародийные параллели лермонтовскому роману» (Отрадин. С. 15, 19, 20). Он же предположил, что в Поджабрине – пусть даже «в смешной, нелепой форме» – проявляется «приверженность романтическим ценностям».12
Хотя Иван Савич «книг ‹…› не читал», поступки и речи главного героя поразительно «литературны», а порой и «цитатны». Эта литературная соотнесенность и насыщенность становится доминантной чертой поэтики Гончарова, начиная с ранних повестей «Лихая болесть» и «Счастливая ошибка».
«Иван Савич Поджабрин» является в определенном смысле переходным звеном от светской повести «Счастливая ошибка» к романам писателя. Не случайно Ляцкий проводил параллель между бесславным комическим концом одной из многочисленных любовных авантюр Поджабрина и сюжетными ходами в романе «Обломов»: «История кончилась тем, что дворника вытолкали за дверь, а Иван Савич решил съехать с этой квартиры, к немалому негодованию слуги Авдея, ближайшего родственника обломовского Захара. Они поменялись ролями: там Захар пристает к Обломову с переездом на другую квартиру, а барин упрямится; здесь барин, который, по собственному выражению, любит свободу, приказывает слуге найти новую квартиру и тем „постараться вывести барина из беды". Разговор о квартире „с удобством всяким, и сараем особым, и ледником от хозяина" мог бы служить превосходным вариантом бесед Ильи Ильича с Захаром» (Ляцкий. С. 203-204). Вообще диалоги между Иваном Савичем и Авдеем, являясь непременным и существенным элементом юмористической (комической) стихии «очерков», могут быть с полным правом определены как прелюдия к диалогам Ильи Ильича и Захара в «Обломове». «Храпом», «энергической зевотой» и «кашлем» Авдея начинается «Иван Савич Поджабрин». Монолог Ивана Савича о пыли, паутине и битой посуде («Что ж ты пыль не обтираешь нигде, дурак этакой! (…) это что? это что? а? У меня там везде паутина! Давеча паук на нос сел! Ничего не делаешь! А еще метелку купил! К сапожнику опять забыл сходить? Да ты мне изволь новые чашки на свои деньги купить; я тебе дам бить посуду! Что это за скверный народ такой, ленивый… никуда не годится!» – наст. том, с. 133) даже в деталях близок к речам Обломова. А. Мазон, называя «очерки» посредственной вещью
661
и одновременно полагая, что «Иван Савич Поджабрин» представляет «двойной интерес», также обнаруживает в отношениях Ивана Савича и Авдея «отдаленный эскиз» отношений между Ильей Ильичом и Захаром, «неразлучной пары, которую увековечил Гончаров в „Обломове” (диалоги между барином и слугой, переезд на новую квартиру, уклад и стиль жизни)» (Mazon. P. 93-94). Мазон отчасти прав, обнаруживая в донжуанствующем маленьком чиновнике-жуире слагаемые типа, к которому Гончаров испытывал постоянную антипатию. Но есть в облике Поджабрина черты, сближающие его с идеалистом и мечтателем Александром Адуевым, о чем писал еще В. Ф. Переверзев.13 «Жуир» Гончарова в некотором роде также идеалист, не преследующий корыстолюбивых целей. В Поджабрине «поражает некое простодушие, наивность, почти детскость» (Отрадин. С. 10). Впрочем, простодушие и наивность героя (как и отсутствие корыстных побуждений) происходят из какого-то органического недостатка Поджабрина. Его странная, смешная и «низкая»14 фамилия, которой он сам стыдится (ее никак не может произнести князь Поскокин, и герой вместо фамилии старательно подсказывает ему свое имя и отчество), говорит об ущербности Поджабрина, помимо того, что она ассоциируется с фамилией Подколесин из «Женитьбы» Гоголя. Авторское отношение к герою лишено характерной для Гончарова снисходительности. Он его без обиняков аттестует как бездельника, кутилу и жуира: «Родители оставили ему небольшое состояние и познакомили его с порядочными людьми. Но он нашел, что знакомство с ними – сухая материя, и мало-помалу оставил их. Книг он не читал, хотя учился в каком-то учебном заведении. Но дух науки пронесся над его головой, не осенив ее крылом своим и не пробудив в нем любознательности. Каким он вступил в учебное заведение, таким и вышел, хотя, по заведенному в этом заведении похвальному обычаю, получил по выходе похвальный лист за прилежание, успехи и благонравное поведение» (наст. том, с. 105). Иван Савич пребывает в уверенности, что во Франции существует только одно министерство, которое почему-то распущено. Он ничего не читает и ничего не знает (все, кроме кутежей и жуирования, «сухая материя»), но притворяется человеком основательным, которому не чужды наука и прочие высшие интересы: рекомендует себя постоянным читателем «философических книг», к которым относит сочинения Гомера, Ломоносова и «Энциклопедический лексикон». Речь его – сплошной набор банальностей и пошлостей. К тому же Иван Савич косноязычен: «Она была… как бы это выразить?., милым видением, так сказать, мечтой… разнообразила этак тоску мертвой жизни…»; «тут будет что-то чистое, возвышенное, так сказать, любовь лаконическая…»;