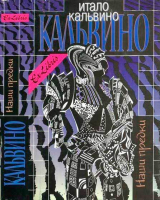
Текст книги "Наши предки"
Автор книги: Итало Кальвино
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Annotation
Итало Кальвино (1923–1985) – самый популярный и читаемый писатель современной Италии. В данный том собрания сочинений Кальвино вошли романы «Раздвоенный виконт» (1951), «Барон на дереве» (1957), «Несуществующий рыцарь» (1959), в 1960 году объединенные автором в цикл «Наши предки». Фантсмагорическая реальность, игра, сказка – основа сюжетов. Чистая и прозрачная проза – составляющая книги. Том снабжен впервые переведенным на русский язык послесловием И. Кальвино.
Художник Михаил Занько.
Раздвоенный виконт
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Барон на дереве
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
Несуществующий рыцарь
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Послесловие I960 г.
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111



Том первый
Наши предки


Раздвоенный виконт

I
 ремя было военное: христиане бились с турками. Мой дядя, виконт Медардо ди Терральба, следовал в лагерь христиан. Вдвоем с оруженосцем по имени Курцио они проезжали богемской равниной. В дымном неподвижном воздухе совсем низко, почти касаясь земли, проносились стаи белых аистов.
ремя было военное: христиане бились с турками. Мой дядя, виконт Медардо ди Терральба, следовал в лагерь христиан. Вдвоем с оруженосцем по имени Курцио они проезжали богемской равниной. В дымном неподвижном воздухе совсем низко, почти касаясь земли, проносились стаи белых аистов.
– Отчего здесь столько аистов? – спросил Медардо. – И куца они летят?
Дядя был новобранец, на службу он пошел, чтобы угодить герцогу, чьи владения граничили с нашими. Лошадью и оруженосцем обзавелся в последнем попавшемся ему на пути христианском замке и теперь спешил в ставку императора.
– На поле битвы они летят, – ответил оруженосец, мрачный как туча. – Теперь от них отбоя не будет.
Медардо вспомнил, что в этих краях появление аиста считается добрым предзнаменованием, хотел было приободриться, но вместо этого еще больше забеспокоился.
– А что им надо, этим голенастым, на поле битвы? – спросил он.
– Теперь они охотятся за человечьим мясом, – ответил оруженосец. – Что прикажете делать, если поля родят одну мякину, а реки обмелели от засухи? Нынче на падаль слетаются не вороны и не стервятники, а цапли, аисты и журавли.
Мой дядя был еще безусым юнцом, в том возрасте, когда все чувства, добрые и злые, слиты воедино, когда любое переживание, самое тяжелое и мучительное, наполнено и согрето любовью к людям.
– А куда подевались вороны и стервятники? – спросил дядя. – Где другие хищные птицы? С ними что приключилось? – Глаза его блестели, он был бледен как мел.
Оруженосец, смуглый усатый солдат, ответил, не отрывая глаз от земли – он вообще никогда не поднимал глаз:
– Они кормились трупами зачумленных, чума прибрала и их.
Он ткнул копьем в сторону чернеющих неподалеку кустов, и виконт, всмотревшись, понял, что это не кусты, а груды перьев да иссохших лап.
– Не разберешь, кто сдох раньше, птица небесная или человек, и кто кого успел сожрать, – добавил Курцио.
Спасаясь от чумы, косившей всех подряд, люди бежали куда глаза глядят, и в чистом поле их настигала смерть. Вся пустынная равнина превратилась в настоящую свалку мертвых тел – мужчины, женщины, нагие, обезображенные бубонами и, самое поразительное, – в перьях: казалось, перьями оделись их ребра и из костлявых рук повырастали черные крылья. Не сразу поймешь, что трупы стервятников смешались с человечьими в одну кучу.
Теперь их путь шел по местам былых сражений. Дядя и оруженосец продвигались вперед черепашьим шагом: начали артачиться лошади – то пытались свернуть в сторону, то вставали на дыбы.
– Что это творится с нашими лошадьми? – спросил Медардо оруженосца.
– Мой господин, – отвечал тот, – ничто так не пугает коня, как вонь от конских кишок.
Поле, где они проезжали, было усеяно лошадиными трупами – одни валялись задрав копыта, другие застыли на коленях и зарылись мордой в землю.
– Почему они в таких странных позах, Курцио?
– Когда лошади вспорют брюхо, – объяснял Курцио, – она что есть сил старается удержать свои потроха. Одни прижимаются брюхом к земле, другие опрокидываются на спину – смерть загребает и тех и других.
– Можно подумать, что на этой войне погибают одни лошади.
– Ятаганом очень сподручно вспарывать брюхо лошадям – он словно нарочно для этого создан. Но наберитесь терпения, скоро дойдем и до людей. Сперва кони, всадники потом… А вон и лагерь.
На горизонте клубился дым, развевались императорские штандарты, торчали верхушки высоких шатров.
Всадники пустили лошадей в галоп. Теперь трупов стало меньше – всех убитых в последнем бою уже успели убрать и похоронить. Только кое-где на стерне валялись то руки, то нога, а чаще всего пальцы.
– Что за чудеса: вот еще один палец форменным образом указывает нам дорогу, – изумился дядя Медардо.
– Пальцы отрубают у мертвецов – те, на которых есть кольца. Да простит Бог осквернителей трупов!
– Кто идет? – Дорогу им преградил часовой в плаще, густо поросшем грибами и мхом, словно ствол столетнего дуба.
– Да здравствует священная императорская корона! – крикнул Курцио.
– Смерть султану! – отозвался часовой. – И прошу вас, если встретите кого-нибудь из начальства, узнайте, скоро ли пришлют мне смену, а то я тут начал в землю врастать.
Над полем, над горами испражнений тучей нависала жужжащая мошкара, и, спасаясь от нее, лошади понеслись во весь опор.
– Дерьмо-то все еще на земле, – заметил Курцио, – а сами воины уже на небесах. – И он перекрестился.
У самого въезда в лагерь дорога по обеим сторонам была уставлена балдахинами, под которыми восседали роскошные пышнотелые дамы в длинных парчовых платьях, с обнаженной грудью; они приветствовали всадников громкими криками и смехом.
– Это куртизанки, – пояснил Курцио, – таких смазливых ни в одном войске нет.
Дядя уже проехал мимо, но все не мог оторвать от них глаз, рискуя свернуть себе шею.
– Берегитесь, господин, – добавил оруженосец, – эти дамы до того грязны и вонючи, что даже турки побрезговали бы такими трофеями. Тараканы, клопы, клещи на них кишмя кишат, а недавно завелись скорпионы и ящерицы.
Всадники миновали место расположения полевой артиллерии. По вечерам бомбардиры варили похлебку из репы прямо на стволах мортир и фальконетов, не успевших остыть после боя.
Подъехали повозки с землей, и орудийная прислуга взялась за сита.
– Порох на исходе, – объяснил Курцио, – но в земле, что с поля сражения, его сколько угодно, можно пополнить наш боезапас.
За артиллерией стояла кавалерия: там среди мириадов мух, увертываясь от копыт и раздавая во все стороны пинки и тумаки, оглушенные ржанием и надрываясь в крике, трудились не покладая рук ветеринары, они, как могли, подправляли четвероногих: сшивали раны, ставили на них смоляные пластыри, перевязывали.
Следом протянулся лагерь пехотинцев. Солнце клонилось к закату, и у каждой палатки сидели воины, опустив голые ноги в лохани с теплой водой. Ножные ванны они принимали, не снимая касок и не расставаясь с пиками, чтобы быть готовыми в любую минуту подняться по тревоге. В высоких шатрах офицеры пудрили себе подмышки и обмахивались веерами.
– Не думайте, что они уж такие неженки, – сказал Курцио, – тут дело принципа: они доказывают, что и в походе чувствуют себя как у Христа за пазухой.
Виконта ди Терральбу немедленно провели к императору. В шатре, все стены которого были увешаны гобеленами и украшены трофеями, монарх, склонившись над картой, составлял планы будущих сражений. На столах громоздились груды карт, и император всаживал в них булавки – подушку с булавками держал перед ним маршал. Карты были так густо утыканы булавками, что за ними ничего не было видно – читая карту, император и его маршалы вытаскивали булавки, а потом втыкали их обратно. Лишние булавки, чтобы не занимать рук, они держали во рту и поэтому объяснялись посредством мычания.
При виде почтительно склонившегося юноши император издал вопросительное мычание и быстро вынул булавки изо рта.
– Рыцарь, только что из Италии, ваше величество, – представили его императору, – виконт ди Терральба, отпрыск знатного генуэзского рода.
– Произвожу его в поручики!
Дядя, звякнув шпорами, встал по стойке «смирно», а все карты, сметенные широким размахом монаршей десницы, оказались на полу.
⠀⠀ ⠀⠀
В ту ночь Медардо, несмотря на смертельную усталость, не мог уснуть. Он час за часом вышагивал перед своей палаткой: перекликались часовые, ржали лошади, солдаты вскрикивали во сне. Медардо смотрел на горящие в небе звезды Богемии, думал о новом своем звании, о завтрашнем сражении, о далекой родине, о шелесте тростника на берегах ее рек. На душе у него было спокойно, он не испытывал ни тревоги, ни страха. Мир казался ему цельным и стройным, Медардо не обращал недоуменных вопросов ни ему, ни себе. И если бы он мог предвидеть страшную участь, уготованную ему, то и она, какой бы горькой ни была, показалась бы ему естественной и закономерной. Его взгляд стремился проникнуть за покрытый мраком горизонт, туда, где, как он знал, располагался вражеский лагерь; скрестив руки и обхватив себя за плечи, он радовался тому, что незнакомая обстановка вовсе не пугает его и он так спокойно и уверенно чувствует себя здесь. Ему казалось, что кровь, пролитая на этой жестокой войне, растекается по земле тысячами рек и ручьев, омывает его, плещется у ног, но не было в нем ни ярости, ни сострадания.
II
 овно в десять утра грянул бой. Верхом на лошади поручик Медардо оглядывал цепь христианского войска, приготовившегося к атаке; его разгоряченное лицо холодил ветер Богемии – пахнуло мякиной, будто с заброшенного гумна.
овно в десять утра грянул бой. Верхом на лошади поручик Медардо оглядывал цепь христианского войска, приготовившегося к атаке; его разгоряченное лицо холодил ветер Богемии – пахнуло мякиной, будто с заброшенного гумна.
– Не вздумайте оборачиваться, господин, – воскликнул Курцио, который по-прежнему следовал за ним по пятам. Теперь он был в чине сержанта. И, как бы извиняясь за начальственный тон, тихонько добавил: – Нельзя перед сражением, плохая примета.
На самом деле он просто боялся, как бы виконт не пал духом – ведь эта вытянувшаяся перед ним цепочка и было все христианское войско, а позади, в резерве, всего-навсего несколько отрядов пехотинцев довольно потрепанного вида.
Но дядя смотрел вдаль, на облако пыли, выраставшее у горизонта, и думал: «Ну вот, это облако и есть турки, настоящие турки, а те, что рядом со мной сплевывают табак, – это наши закаленные в боях воины, а поющая труба – это атака, первая атака в моей жизни, а этот метеор, налетевший с оглушительным свистом и сотрясающий землю – на него с ленивой скукой взирают старые вояки и лошади, – пушечное ядро, первое в моей жизни вражеское ядро. Неужели мне когда-нибудь придется сказать: а вот это последнее?»
Обнажив шпагу, Медардо пустил свою лошадь галопом, он старался не терять из виду императорский штандарт, мелькавший то здесь, то там в дыму сражения; ядра, пущенные своими, проносились над его головой, турецкие – пробивали бреши в христианском войске и вздымали землю дыбом. «Ну где же турки? Где же турки?» – вертелось в голове у виконта. Что может сравниться с удовольствием увидать врага и убедиться, что таким ты его себе и представлял!
Долго ждать не пришлось. Появились турки, да сразу двое. Лошади накрыты попонами, маленькие круглые кожаные щиты, темно-шафрановые полосатые халаты. И тюрбан, и лица цвета охры, и усы – точь-в-точь тот крестьянин из Терральбы, которого прозвали «турок Мике». Один турок упал, другой уложил нашего. Но появлялись все новые и новые – схватились врукопашную. Если ты видел двух турок, можешь считать, что видел их всех. Все одеты одинаково, все похожи как две капли воды. Лица обветренные, упрямые, как у крестьян. В общем, пожалуй, Медардо уже нагляделся на них и мог спокойно возвращаться в Терральбу охотиться на перепелок, как раз поспел бы в самый сезон. Но служба есть служба. И потому он скакал по полю, отбивая удары ятаганов, наехал на низенького пешего турка и заколол его. Увидав, что это дело нехитрое, он решил поискать другого, повыше, на коне, и напрасно, потому что вреднее всех были коротышки. Подлезали под лошадей и одним махом вспарывали им брюхо.
Конь Медардо встал как вкопанный.
– Ты что это! – вскричал виконт.
Подъехал Курцио.
– Взгляните-ка сюда. – И показал ему лошадиные потроха, вывалившиеся на землю. Несчастное животное вскинуло голову на своего хозяина и тут же опустило ее к земле, словно собираясь отведать собственных потрохов, но то была пустая бравада – конь рухнул и сдох. Медардо ди Терральба оказался пешим.
– Возьмите мою лошадь… – предложил Курцио, но, не успев даже договорить, упал с седла, пронзенный турецкой стрелой, и лошадь его понеслась прочь.
– Курцио! – вскричал виконт и подбежал к стенающему на земле оруженосцу.
– Не заботьтесь обо мне, синьор, – прошептал оруженосец, – дай Бог, в лазарете еще не перевелась водка: каждому раненому причитается полный котелок.
Дядюшка бросился в бой. Исход сражения был пока неясен. На поле царила полная неразбериха, но вроде бы наша брала. Во всяком случае, христианам удалось прорвать турецкий строй и окружить некоторые позиции. Дядя вместе с другими отчаянными головами уже был близко к вражеским орудиям, и турки отводили их назад, чтобы перенести огонь. Два турецких артиллериста тащили пушку на колесах. Неповоротливые, бородатые, в халатах до пят, они были похожи на звездочетов. «Сейчас я до них доберусь, тут им и крышка», – твердил дядя. Он был неопытен, да еще охвачен горячкой боя, а потому и думать забыл, что пушки можно атаковать только с фланга или с тыла Он бежал прямо на жерло, размахивая шпагой и рассчитывая насмерть перепугать «звездочетов». Пушка изрыгнула огонь прямо ему в грудь. Медардо ди Терральба взлетел на воздух.
⠀⠀ ⠀⠀
Вечером, с объявлением перемирия, на поле боя выехали две телеги – одна для раненых, другая для убитых. Первичная сортировка происходила прямо на месте: «Этого я заберу, ну а этот твой». Тех, кого еще можно было заштопать, несли к раненым, кто был сплошь изрублен и изрешечен – грузили вместе с мертвецами, чтобы похоронить на освященной земле, а тех, от кого остались лишь клочки да ошметки, бросали на поживу аистам. В то время, ввиду огромных потерь, вышел указ: ранение понимать широко. И потому Медардо, вернее, то, что от него осталось, сочли за раненого и погрузили на соответствующую телегу.
Второй этап сортировки происходил уже в лазарете. Он являл собой картину еще более ужасную, чем поле битвы. На земле тянулась бесконечная вереница носилок с несчастными страдальцами, а рядом свирепствовали лекари, хватая то щипцы, то гашу, то иглы, то ампутированные конечности, то мотки ниток. Они из кожи вон лезли, чтобы соорудить что-нибудь одушевленное. «Ну-ка отрежь здесь, зашей там, подай тампон». Они выворачивали вены наизнанку, как чулки, и засовывали обратно, залатанными и зашитыми на славу, напичканными толстенными нитками вместо крови. Когда кто-то из пациентов умирал, все, что у него оставалось подходящего, шло в дело. Больше всего хлопот было с кишками: стоило однажды их размотать – и обратно никак не приладишь.
Когда с тела виконта сдернули простыню, оно предстало перед всеми чудовищно обезображенным. Не было одной руки и одной ноги, мало того, исчезла вся левая часть груди и живота: выстрел в упор ее словно испепелил. От лица остался один глаз, одно ухо, одна щека, половина носа, половина рта, половина подбородка и половина лба – о том, что была и другая сторона, напоминала только случайно сохранившаяся прядь волос. Короче говоря, уцелела лишь половина виконта, правая, зато она была в целости и сохранности, без единой царапины, кроме длинной рваной раны на границе с левой половиной, от которой осталось одно воспоминание.
Костоправы ликовали: «Надо же! Какой интересный случай! Если он не умрет сию секунду, можно попытаться его спасти». Все они как один столпились вокруг виконта, а тем временем бедняги, истыканные стрелами, умирали от заражения крови. Чего с ним только не делали: ушивали, надшивали, подшивали. Хотите верьте, хотите нет, наутро дядя открыл единственный глаз, разинул половину рта, раздул ноздрю и начал дышать. Могучий дух виконтов ди Терральба победил. Дядя был жив, хотя и разорван пополам.

III
 огда дядя вернулся в Терральбу, мне было лет семь, может, восемь. Стоял октябрь, смеркалось, и небо заволокли тучи. Весь день мы провели на уборке винограда и сквозь сетку лоз видели, как на сером море вырастают паруса корабля, шедшего под императорским флагом. В то время, стоило появиться кораблю, все говорили: «Не наш ли это господин возвращается?» Нельзя сказать, чтобы виконта ждали с таким уж нетерпением, просто всегда чего-нибудь да ждешь. Но на сей раз мы попали в точку: поздно вечером один парень по имени Фьорфьеро давил виноград, усевшись на край чана, и вдруг крикнул: «Эй, поглядите-ка вниз!» Почти совсем стемнело, и мы увидели, как под нами в долине вспыхнула дорожка из факелов, а потом, когда дорожка двинулась на мост, мы даже разглядели портшез. Сомнений быть не могло – виконт возвращался домой.
огда дядя вернулся в Терральбу, мне было лет семь, может, восемь. Стоял октябрь, смеркалось, и небо заволокли тучи. Весь день мы провели на уборке винограда и сквозь сетку лоз видели, как на сером море вырастают паруса корабля, шедшего под императорским флагом. В то время, стоило появиться кораблю, все говорили: «Не наш ли это господин возвращается?» Нельзя сказать, чтобы виконта ждали с таким уж нетерпением, просто всегда чего-нибудь да ждешь. Но на сей раз мы попали в точку: поздно вечером один парень по имени Фьорфьеро давил виноград, усевшись на край чана, и вдруг крикнул: «Эй, поглядите-ка вниз!» Почти совсем стемнело, и мы увидели, как под нами в долине вспыхнула дорожка из факелов, а потом, когда дорожка двинулась на мост, мы даже разглядели портшез. Сомнений быть не могло – виконт возвращался домой.
Новость быстро облетела всю округу, во дворе нашего замка стал собираться народ: родственники, слуги, сборщики винограда, пастухи, стражники. Не было только старого виконта Айольфо, отца Медардо, – он уже давно перестал выходить из замка, не спускался даже во двор. Устав от забот, он передал бразды правления своему единственному сыну еще до того, как тот отправился на войну. Его увлечение пернатыми, которых он разводил прямо в замке в огромном вольере, постепенно превращалось в настоящую манию: старик приказал перенести в вольер даже свою кровать и не выходил оттуда ни днем ни ночью, запершись на ключ. Вместе с птичьим кормом ему передавали через железную решетку еду, и Айольфо по-братски делил трапезу со своими питомцами. В ожидании сына он мог часами разглаживать перышки у своих фазанов и голубей.
Мне еще не приходилось видеть такую тьму народа во дворе нашего замка: я только по рассказам знал, какими толпами сходился народ в былые времена на праздник или воевать с соседним замком. Впервые я заметил, как обветшали стены и башни замка, как грязен двор, где кормили коз и ставили корыта со свиным пойлом. Ожидая виконта, все строили предположения, каким он к нам вернется; давно дошли до нас слухи о тяжелых ранениях, полученных им в бою с турками, но никто толком не знал, что с ним сталось: изувечен до неузнаваемости, превратился в калеку или отделался несколькими шрамами. Портшез заставлял предположить наихудшее.
И вот наконец носилки опустились на землю: во мраке за занавесками блеснул глаз. Старая Себастьяна, кормилица, сделала шаг навстречу, но из глубины портшеза предостерегающе взметнулась рука. Несколько резких судорожных движений – и перед нами, опираясь на костыль, предстал Медардо ди Терральба. С головы до пят его окутывал черный плащ с капюшоном, справа плащ был откинут назад, открывая половину лица и половину туловища; вся левая сторона была скрыта, упрятана в сгибы и складки необъятной сумрачной мантии.
Несколько мгновений, в течение которых никто не проронил ни звука, он пристально смотрел на нас: вряд ли мы ему были интересны, просто этим взглядом он удерживал нас на расстоянии. С моря налетел порыв ветра, и на верхушке смоковницы застонала сломанная ветка. Плащ на дяде заколыхался, ветер надувал его, натягивал, как парус, казалось, ветер дует насквозь, не встречая препятствий, а под плащом вовсе ничего нет, он пуст, как плащ призрака Потом, приглядевшись получше, мы поняли, что плащ держится на туловище, как знамя на древке: древком служило правое плечо, рука, продолженная костылем, правый бок, нога; вся левая сторона… исчезла.
Козы, уставившись на виконта неподвижным, ничего не выражающим взглядом, сбились в кучу, и спины их образовывали странный геометрический рисунок. Свиньи, более впечатлительные и непосредственные, хрюкая и расталкивая друг дружку, бросились врассыпную, да и мы наконец не выдержали.
– Сынок, – вскричала кормилица Себастьяна и всплеснула руками. – Да что же это!
Дядя, крайне недовольный произведенным впечатлением, переставил костыль и двинулся к входу в замок, вышагивая наподобие циркуля. Но на ступеньках крыльца, поджав ноги, сидели носильщики – полуголые верзилы с золотыми серьгами в ушах, с бритыми затылками и волосами, собранными в чуб или задранными вверх, как гребешок. Носильщики вскочили, и один, с косичкой, видимо их главарь, сказал:
– Вы нам не заплатили, senor.
– Сколько? – спросил Медардо, и нам показалось, что он усмехается.
– Мы же вам говорили, во сколько станет перенести одного человека, – ответил носильщик с косичкой.
Дядя отвязал от пояса кошелек, и тот со звоном упал к ногам носильщика. Носильщик поднял его, взвесил в руке.
– Но ведь тут гораздо меньше, senor! – вскричал он.
– Ровно половина, – ответил Медардо. И его плащ взвился в порыве ветра.
Дядя миновал носильщика и, подскакивая на своей единственной ноге, поднялся по ступенькам, вошел в дом через широко раскрытую двустворчатую дверь, ударом костыля с грохотом захлопнул обе ее створки, а когда они вновь приотворились, не забыл закрыть и эту узкую щель и окончательно скрылся от наших взглядов. Однако мы продолжали попеременно слышать стук то каблука, то костыля, а то и хлопающей двери, сопровождав мый лязгом засова, и могли следить, как он передвигается уже в самом замке, направляясь по коридорам к тому крылу, где помещались его личные покои.
За решеткой вольера виконта ждал отец. Но Медардо не зашел поздороваться с ним. В полном одиночестве он заперся на своей половине и ответил гробовым молчанием кормилице Себастьяне, которая еще долго, причитая на разные лады, стучалась к нему в дверь.
Себастьяна, высокая, полная, всегда ходила во всем черном, закутавшись в шаль. Старость ее не пригнула, не избороздила морщинами ее румяные щеки, только глаза у нее запали; за свою долгую жизнь она всхормила своим молоком всех младенцев, переспала со всеми мужчинами и закрыла глаза всем мертвецам из рода Терральба.
Теперь она стучалась то к одному затворнику, то к другому, не зная, как им помочь.
Назавтра Медардо по-прежнему не подавал признаков жизни, и мы снова занялись сбором винограда, но все как-то погрустнели, и за работой только и разговоров было что о виконте: не то чтобы мы приняли его несчастье так близко к сердцу, просто все выглядело слишком уж таинственно и загадочно. Только одна Себастьяна осталась в замке и с тревогой ловила малейший шорох.
Старый Айольфо, словно предвидя, что сын его вернется столь мрачным и нелюдимым, заранее обучил чайку, свою любимую птицу, совершать полеты до того крыла замка, где располагались пустые тогда покои Медардо, и даже залетать в них через окошко. И вот однажды утром старик отворил чайке дверцу, проследил за ней взглядом, пока она не юркнула в окно к сыну, и, посвистывая по-птичьи, принялся кормить своих сорок и синиц.
Вскоре что-то шмякнулось о его окно. Старик выглянул – на карнизе лежала мертвая чайка. Старик взял ее в руки: одно крыло было растрепано, словно его пытались оторвать, одна лапка сломана, словно ее сдавили в кулаке, и выбит один глаз. Старик прижал чайку к груди и заплакал.
В тот же день он слег в постель, и слугам через решетку вольера было видно, как он плох. Но старик заперся изнутри и спрятал ключи, так что помочь ему было невозможно. Вокруг его постели носились птицы. С тех пор как он занемог, они непрерывно кружили в воздухе, не давая себе ни минуты передышки.
На следующее утро кормилица заглянула в вольер и поняла, что виконт Айольфо умер. Все птицы до единой сидели на его постели, как на дереве, унесенном в открытое море.
IV
 осле смерти отца Медардо начал выходить из замка. Все та же кормилица, обнаружив однажды на рассвете распахнутые двери и пустые комнаты, первой забила тревогу. Целый отряд слуг был послан вдогонку за виконтом. По пути им попалась груша, на которой еще вчера вечером они видели недозрелые плоды.
осле смерти отца Медардо начал выходить из замка. Все та же кормилица, обнаружив однажды на рассвете распахнутые двери и пустые комнаты, первой забила тревогу. Целый отряд слуг был послан вдогонку за виконтом. По пути им попалась груша, на которой еще вчера вечером они видели недозрелые плоды.
– Эй, гляньте-ка сюда, – крикнул один из слуг.
На фоне светлеющего неба они разглядели груши и пришли в ужас. И было отчего: не осталось ни одной целой груши, все были разрезаны пополам, правые половины (или левые, в зависимости от того, откуда на них смотреть) висели на своих черенках, а левые исчезли, то ли обрезанные, то ли откушенные.
Это дело рук виконта – решили слуги. Все ясно, он столько постился, сидючи взаперти, ночью ему наконец стало невтерпеж, вот он и забрался на первое же дерево и наелся груш до отвала.
Вскоре слуги наткнулись на лягушку, от которой осталась всего лишь половина, но и в таком виде – до чего живучи эти твари! – она все еще подскакивала на валуне. «Мы на правильном пути!» – смекнули слуги и двинулись дальше. Но скоро сбились со следа, потому что прошли мимо затерявшейся в зелени половины дыни, и им пришлось возвращаться назад.
Следы привели их в лес, где им сразу попался на глаза боровик, разрезанный пополам, за ним такой же мухомор, – так, кружа по лесу, они все время натыкались то на один, то на другой гриб, высунувший из земли только половину ножки, на которой сидела только половина шляпки. Грибы были разделены пополам на удивление аккуратно, вторая их половина исчезла, не обронив даже споры. Это были самые разные грибы: дождевики, маслята, поганки – ядовитые вперемежку со съедобными.
Следуя этой путеводной нити, слуги вышли на луг, что звался Монашьим, там среди трав блестело озерцо. Уже совсем рассвело, и на гладкой воде отчетливо отражалась закутанная в плащ тщедушная фигура Медардо. А по всему озерцу плавали белые, желтые, коричневые грибы, вернее, их исчезнувшие половинки. На воде грибы казались целыми, и виконт смотрел на них во весь свой единственный глаз. Слуги, спрятавшись на другом берегу и не смея вымолвить ни слова, тоже стали разглядывать грибы и вскоре заметили, что тут одни съедобные. Куда же подевались поганки и мухоморы? В пруд он их не бросил, так что же он сделал с ними? Слуги опрометью бросились обратно в лес. Долго искать не пришлось, они встретили тут же на тропинке мальчика с корзинкой, доверху наполненной половинками ядовитых грибов.
Этим мальчиком был я. Ночью я в одиночестве играл на Монашьем лугу: неожиданно выскакивал из-за дерева и сам себя пугал, – и вдруг на лугу, залитом лунным светом, появился дядя, он прыгал на единственной ноге, в руке у него была корзинка.
– Привет, дядя! – крикнул я ему. Впервые мне удалось с ним поздороваться.
Он вроде бы не очень обрадовался встрече со мной.
– Вот, грибы собираю, – пробурчал он.
– И много набрал?
– Можешь поглядеть.
Мы присели с ним на бережку. Он стал перебирать грибы: одни кидал в воду, другие оставлял в корзине.
– На, возьми, – сказал он, передавая мне корзину с отобранными грибами. – Пожарь себе.
Я было хотел спросить его, почему в корзине не целые грибы, а половинки, но, подумав, счел это невежливым, а потому просто поблагодарил его и убежал. Я как раз шел просить кого-нибудь пожарить мне грибы, когда встретил слуг и узнал, что все грибы ядовитые.
Когда кормилице Себастьяне рассказали эту историю, она воскликнула:
– От Медардо осталась злая половина! Боже мой, чем еще кончится сегодняшний суд?
В тот день был назначен суд над разбойничьей шайкой, которую схватили накануне стражники нашего замка. Разбойники были из местных, и потому судить их должен был виконт. И вот суд начался: однобокий Медардо, закрутившись как винт, сидел в кресле и кусал ноготь. Привели разбойников в кандалах, их главарем оказался молодой парень по имени Фьорфьеро – тот самый, что первым заметил портшез с виконтом. Появилась потерпевшая сторона – тосканские рыцари, которые проезжали через наши леса, направляясь в Прованс, тут-то Фьорфьеро со своей шайкой напал на них и обчистил. Фьорфьеро в свое оправдание говорил, что проезжие рыцари охотились на землях виконта и он не мог этого так оставить, а поскольку стражникам до того дела было мало, вынужден был сам напасть на тосканцев и отобрать оружие. Надо сказать, в те годы разбойничьи налеты не были редкостью и не карались чрезмерно строго. Наши леса к тому же весьма благоприятствовали подобной деятельности, так что даже некоторые члены нашего семейства, особенно в смутные времена, присоединялись к разбойничьим шайкам. А уж о том, чтобы подстрелить оленя в чужом лесу, и говорить нечего – это вообще не считалось за преступление.
Но кормилица Себастьяна тревожилась не зря. Медардо признал Фьорфьеро и всю его шайку виновными в грабеже и приговорил к повешению. А поскольку потерпевшие в свою очередь были повинны в браконьерстве, их он тоже отправил на виселицу. А чтобы наказать нерасторопных стражников, не сумевших предотвратить ни того, ни другого преступления, он и этих приказал повесить.
Всего виконт приговорил к смертной казни около двадцати человек. Этот жестокий приговор поверг нас всех в печаль и уныние: судьба дворян из Тосканы, которых никто из нас до той поры и в глаза не видел, никого не беспокоила, но к разбойникам и к стражникам мы питали самые добрые чувства. Пьетрокьодо, седельных и плотницких дел мастер, получил приказ строить виселицу. Пьетрокьодо был работник серьезный, вдумчивый, всякую работу выполнял на совесть. С тяжелым сердцем он взялся за топор (двое осужденных приходились ему родственниками), и получилась у него не виселица, а целый лес, в котором можно даже заблудиться. То было столь искусное сооружение, что все его веревки приводились в движение одним воротом, и такое огромное, что позволяло повесить одновременно куда больше двадцати человек, чем и воспользовался виконт, повесив через каждых двух человек по десять кошек. Трупы людей и кошек болтались на виселице три дня, и поначалу ни у кого не хватало духу смотреть на них. Но вскоре все отметили, какое внушительное зрелище они собой являют, и нами овладели столь противоречивые чувства, что приказ снять трупы и разрушить великолепное сооружение был встречен ропотом.
V
 о было для меня счастливое время: мы с доктором Трелони дневали и ночевали в лесу, охотясь за окаменевшими раковинами морских моллюсков. Доктор Трелони, англичанин, попал к нам после кораблекрушения: бочку бордо, на которую он забрался, прибило к нашему берегу. Всю жизнь он прослужил судовым врачом, где только не побывал, каким опасностям не подвергался, плавал даже со знаменитым капитаном Куком, но ничего так и не увидел, потому что не высовывал носа из каюты: только и знал резаться в карты. Оказавшись у нас, он тут же пристрастился к вину под названием «канкароне», самому терпкому и забористому из наших вин, и так его полюбил, что всегда таскал с собой на ремне полную флягу. Он поселился в Терральбе и стал нашим лекарем, но больным толку от него было мало: он с головой ушел в ученые изыскания и, не зная покоя ни днем ни ночью, пропадал в полях и лесах – а я вместе с ним. Сначала его увлекла хворь, которая случалась у кузнечиков, – сколько труда надо было положить, чтобы ее обнаружить, ведь от нее страдал один кузнечик на тысячу и сам не замечал, что хворает, но доктор Трелони задался целью выявить все случаи заболевания и победить болезнь. Потом он усердно выискивал следы того периода, когда наша земля была морским дном, и мы сгибались под тяжестью осколков кремнистой породы, в которых доктор умудрялся углядеть скелеты допотопных рыб. И наконец, последняя его пламенная страсть – блуждающие огни. Трелони был уверен, что ими можно управлять, с этой целью мы ночи напролет несли караул на нашем кладбище в ожидании, когда среди могильных холмиков, свежих или заросших травой, замаячит слабое сияние, и тогда мы старались подобраться к нему поближе и поймать (при этом не погасив) в мешок, флягу, бутыль, грелку или дуршлаг – с емкостями мы экспериментировали беспрестанно. Доктор Трелони поселился в домишке у самого кладбища, когда-то в нем жил могильщик, но то было во времена бездумной роскоши, войн и эпидемий, когда такой работой еще можно было прокормиться. Доктор оборудовал у себя лабораторию и битком набил ее склянками самых разных форм для хранения огней, сачками, вроде рыбных, для их поимки, перегонными кубами и тигелями, чтобы наблюдать, как эти бледные огоньки рождаются из кладбищенской земли и трупных миазмов. Но доктор был неспособен долго усидеть в своей лаборатории: возиться с весами и пробирками быстро ему надоедало, и мы вместе отправлялись на охоту за новыми чудесами природы.
о было для меня счастливое время: мы с доктором Трелони дневали и ночевали в лесу, охотясь за окаменевшими раковинами морских моллюсков. Доктор Трелони, англичанин, попал к нам после кораблекрушения: бочку бордо, на которую он забрался, прибило к нашему берегу. Всю жизнь он прослужил судовым врачом, где только не побывал, каким опасностям не подвергался, плавал даже со знаменитым капитаном Куком, но ничего так и не увидел, потому что не высовывал носа из каюты: только и знал резаться в карты. Оказавшись у нас, он тут же пристрастился к вину под названием «канкароне», самому терпкому и забористому из наших вин, и так его полюбил, что всегда таскал с собой на ремне полную флягу. Он поселился в Терральбе и стал нашим лекарем, но больным толку от него было мало: он с головой ушел в ученые изыскания и, не зная покоя ни днем ни ночью, пропадал в полях и лесах – а я вместе с ним. Сначала его увлекла хворь, которая случалась у кузнечиков, – сколько труда надо было положить, чтобы ее обнаружить, ведь от нее страдал один кузнечик на тысячу и сам не замечал, что хворает, но доктор Трелони задался целью выявить все случаи заболевания и победить болезнь. Потом он усердно выискивал следы того периода, когда наша земля была морским дном, и мы сгибались под тяжестью осколков кремнистой породы, в которых доктор умудрялся углядеть скелеты допотопных рыб. И наконец, последняя его пламенная страсть – блуждающие огни. Трелони был уверен, что ими можно управлять, с этой целью мы ночи напролет несли караул на нашем кладбище в ожидании, когда среди могильных холмиков, свежих или заросших травой, замаячит слабое сияние, и тогда мы старались подобраться к нему поближе и поймать (при этом не погасив) в мешок, флягу, бутыль, грелку или дуршлаг – с емкостями мы экспериментировали беспрестанно. Доктор Трелони поселился в домишке у самого кладбища, когда-то в нем жил могильщик, но то было во времена бездумной роскоши, войн и эпидемий, когда такой работой еще можно было прокормиться. Доктор оборудовал у себя лабораторию и битком набил ее склянками самых разных форм для хранения огней, сачками, вроде рыбных, для их поимки, перегонными кубами и тигелями, чтобы наблюдать, как эти бледные огоньки рождаются из кладбищенской земли и трупных миазмов. Но доктор был неспособен долго усидеть в своей лаборатории: возиться с весами и пробирками быстро ему надоедало, и мы вместе отправлялись на охоту за новыми чудесами природы.








