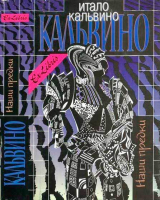
Текст книги "Наши предки"
Автор книги: Итало Кальвино
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
Итак, мне ничего не остается, как только представить героев моей повести возле кухонь. Я вижу в дыму Агилульфа, наклонившегося над котлом, нечувствительного к капустной вони; он дает наставления поварам Овернского полка. Но тут прибегает юный Рамбальд.
– Рыцарь, – начинает он, не отдышавшись, – наконец-то я нашел вас! Дело, видите ли, в том, что я хочу стать паладином! Во вчерашнем бою я отомстил… в схватке… потом остался один против двоих… засада… и тогда… одним словом, теперь я знаю, что значит сражаться. Я хочу, чтобы в следующей битве мне отвели самое опасное место… или отправиться на поиски подвигов, чтобы стяжать славу… во имя нашей святой веры… спасать женщин, и увечных, и старых, и слабых… вы могли бы мне сказать…
Агилульф, прежде чем обернуться к Рамбальду, постоял к нему спиной, словно подчеркивая свою досаду на посмевшего оторвать его от выполнения служебных обязанностей, а потом, когда обернулся, заговорил свободно и гладко, явно довольный тем, что так быстро схватил внезапно предложенный ему предмет беседы и может со знанием дела исчерпать его:
– Судя по тому, что ты говоришь мне, вольноопределяющийся, я полагаю следующее: ты воображаешь, будто назначение паладина требует только одного, а именно – стяжать себе славу либо сражаясь во главе отрядов, либо совершая подвиги единолично – в защиту ли нашей святой веры, в оборону ли женщин, стариков и увечных. Я правильно понял?
– Правильно.
– Так вот, все перечисленное тобою является действительно особой функцией, вверенной избранному офицерскому корпусу, но… – тут Агилульф коротко засмеялся, и этот первый услышанный Рамбальдом смех из-под светлого забрала был вежливым и вместе с тем саркастическим… – но эта функция не единственная. Если желаешь, мне нетрудно перечислить тебе одну за другой все обязанности, входящие в компетенцию рядовых паладинов, паладинов первого класса, паладинов генерального штаба…
Рамбальд прервал его:
– Мне довольно будет следовать за вами и брать с вас пример, рыцарь!
– Следовательно, ты предпочитаешь раньше набраться опыта, потом изучить вопрос. Что ж, это допустимо. Как видишь, сегодня и каждую среду я нахожусь в распоряжении интендантства армии в качестве инспектора. С таковыми полномочиями я проверяю кухни Овернского и Пуатуского полков. Если ты пойдешь со мной, то понемногу на практике овладеешь этим требующим немалого искусства видом службы.
Рамбальд ожидал не этого, и ему стало не по себе. Но, не желая отступаться от своих слов, он сделал вид, будто со вниманием следит за Агилульфом и слушает все, что тот говорит поварам, маркитантам и мойщикам посуды, поскольку еще надеялся, что это – некий необходимый ритуал, предшествующий ослепительному подвигу.
Агилульф считал и пересчитывал отпущенные съестные припасы, порции похлебки, число манерок, имеющих быть наполненными, заглядывал в котлы.
– Знай, что в командовании войсками самое трудное – рассчитать, сколько манерок похлебки содержится в котле, – объяснял он Рамбальду, – Ни в одном полку счет не сходится. Или остается несколько порций, и потом не знаешь, куда они деваются и как за них отчитаться, или – если сократить отпускаемые припасы – порций не хватит, и по войскам ползет недовольство. Правда, у каждой походной кухни выстраивается очередь за остатками – всякие оборванцы, нищие старухи и калеки. Но это, само собой, грубое нарушение порядка. Чтобы хоть как-то во всем разобраться, я распорядился, чтобы в каждом полку список состоящих на действительной службе был дополнен именами бедняков, которые всегда являются во время кормежки. Только так можно узнать, куда девается каждая манерка похлебки. Вот и пройдись-ка по кухням, попрактикуйся в обязанностях паладина: надо проверить со списками в руках, все ли в порядке. Потом вернешься и доложишь.
Что оставалось Рамбальду? Отказаться, потребовать себе или славы, или ничего? А что, если он испортит себе всю карьеру из-за ерунды? И он пошел.
Вернулся он поскучневший, с путаницей в мыслях.
– Мм-да, по-моему, все так и есть, как вы говорите, – сказал он Агилульфу, – и, бесспорно, это полное безобразие. К тому же все эти бедняки, что приходят за похлебкой, – братья они, что ли?
– Почему братья?
– М-м-м… Они похожи. Вернее даже, они все одинаковые, ничего не стоит их перепутать. Сперва я подумал, что это один человек переходит от кухни к кухне. А потом поглядел в списки – имена всюду разные: Боамолуц, Каротун, Балингаччо, Бертелла… Тогда я спросил у старшин, проверил: все правильно. Но это сходство…
– Пойду погляжу сам.
Оба направились к лагерю лотарингцев.
– Вот он, этот человек.
Рамбальд указал на какое-то место, как будто там кто-то был. Впрочем, и в самом деле был; но из-за выцветших зеленых и желтых лохмотьев, усыпанного веснушками и заросшего неровной щетиной лица первый взгляд миновал его – настолько он сливался цветом с землей и листьями.
– Да это Гурдулу!
– Гурдулу? Еще одно имя! Вы его знаете?
– Это человек без имени, так что зовут его кто как может. Благодарю тебя, вольноопределяющийся: ты не только вскрыл недостатки в наших вспомогательных службах, но и дал мне возможность отыскать оруженосца, приставленного ко мне распоряжением императора, но потерявшегося.
Лотарингские повара, закончив раздачу порций паладинам, оставили котел на произвол Гурдулу:
– Бери, тут вся похлебка твоя!
– Вся похлебка! – завопил Гурдулу, наклонился над котлом, словно свешиваясь с подоконника, и со скрежетом стал водить ложкой по стенкам, снимая самое драгоценное содержимое всякой посудины – приставшую корочку.
– Вся похлебка! – гулом отозвалось в котле, который от неосторожных, вихляющих движений Гурдулу опрокинулся и накрыл его.
Теперь бродяга оказался в плену перевернутой посудины. И окружающие услышали, как он колотит по ней ложкой, словно по глухо звучащему колоколу, как гудит внутри его голос: «Вся похлебка!» Потом котел двинулся с места, как черепаха, снова перевернулся, и оттуда вынырнул Гурдулу.
С головы до ног залитый капустной похлебкой, он был весь в жире и в пятнах, да к тому же еще перемазан сажей. Юшка застила ему глаза, и, вытянув руки вперед, с криком: «Всё – похлебка!» – он двигался будто вплавь, потому что не видел ничего, кроме заливавшей ему все лицо похлебки.
– Всё – похлебка! – И он потрясал ложкой, как бы желая набрать ею и отведать всего, что было вокруг. – Всё – похлебка!
Наблюдая эту сцену, Рамбальд до того взволновался, что у него закружилась голова, не столько от омерзения, сколько от закравшихся сомнений: а вдруг этот человек, что вслепую вертится перед ним, прав и весь мир – одна огромная мутная похлебка, в которой все предметы линяют и окрашивают друг друга? «Я не желаю становиться похлебкой! На помощь!» – готов был крикнуть Рамбальд, но увидел рядом Агилульфа, бесстрастно скрестившего на груди руки, так, будто он где-то далеко и вульгарность сцены его не задевает; и Рамбальд понял, что наставнику не понять его опасений. Чувство, которое он всегда испытывал при виде рыцаря в светлых доспехах, столкнулось с совершенно противоположным, которое сейчас внушал ему Гурдулу, и оба они как-то уравновесили друг друга, что помогло Рамбальду вновь обрести душевный покой.
– Почему вы ему не объясните, что не всё похлебка, и не прекратите это представление? – обратился он к Агилульфу, причем сумел произнести все это ровным, ничуть не изменившимся голосом.
– Единственный способ внушить ему что-либо – поставить определенную задачу, – сказал Агилульф и повернулся к Гурдулу: – По повелению Карла, короля франков и повелителя Священной империи, ты стал моим оруженосцем и отныне должен во всем мне повиноваться. А поскольку Суперинтендантство погребений и последнего долга поручило мне позаботиться о похоронах воинов, павших во вчерашнем бою, ты вооружишься мотыгой и лопатой и мы отправимся на поле, чтобы предать земле освященную крещением плоть наших братьев, которых Господь принял в славе своей.
С собою он пригласил также Рамбальда, чтобы тот постиг еще одну деликатную обязанность паладинов.
Так они и отправились втроем: Агилульф шагал своей особенной походкой, которая, как он того ни хотел, не производила впечатления раскованной, но выглядела так, словно ноги ступали по колючкам; Рамбальд пялил глаза вокруг, стремясь узнать места, где мчался вчера под градом ударов; Гурдулу, с мотыгой и лопатой на плече, нисколько не осознав скорбной торжественности своей задачи, насвистывал и напевал.
Вот они проходят по гребню холма, с него открывается равнина, где схватка вчера была самой кровавой. Земля покрыта трупами. Неподвижные стервятники, вцепившись когтями в плечи и лица убитых, наклоняют головы и роются клювом в развороченных утробах.
Однако стервятникам не сразу приходит черед взяться за дело. Они спускаются, только почуяв, что бой идет к концу, но поле усеяно убитыми, закованными в сталь, на которой клювы хищников, сколько ни бей, даже царапины не оставят. Едва наступает вечер, из обоих враждебных станов молчаливо, ползком являются мародеры. Высоко взмывшие стервятники кружатся в ожидании, пока те расправятся со своей добычей. Первые лучи солнца освещают поле, белеющее совершенно голыми трупами. Стервятники опускаются снова и начинают пировать вовсю. Но им надобно торопиться, потому что не замедлят прийти могильщики и отнимут пищу у птиц, чтобы отдать ее червям.
Агилульф и Рамбальд – мечами, Гурдулу – лопатой прогоняют темноперых гостей, и те разлетаются прочь. Потом все трое берутся за свою печальную работу: каждый выбирает себе убитого и за ноги волочит его вверх по склону, к месту, предназначенному для могилы.
Агилульф тянет труп и думает: «О мертвец, у тебя есть то, чего у меня не было и не будет: остов и мясо. Вернее, не у тебя есть, а ты есть остов и мясо – то самое, в чем я порой завидую существующим: в минуты уныния я ловил себя на этом. Есть чему завидовать! Да, я вправе считать себя обладателем особой привилегии, если могу без этого обходиться и делать все, что и они. Само собой разумеется – все, что считаю важным, и многие вещи мне удаются лучше, чем существующим, ибо мне не присущи их обычные изъяны: грубость, неточность, непоследовательность, вонь. Правда, тот, кто существует, вкладывает во все деяния нечто свое, придает им особый отпечаток, а мне этого ни за что не добиться. Но если весь их секрет здесь, в этом мешке с потрохами, то спасибо, обойдусь и так. И долина, полная голых разлагающихся тел, не вызывает у меня содрогания, как и резня, учиняемая над живыми человеческими существами».
Гурдулу тянет труп и думает: «Ветры, что ты пускаешь, труп, будут повонючее моих. Не знаю, почему тебя все оплакивают. Чего тебе не хватает? Раньше ты сам двигался, теперь твое движение перейдет к червям, которым ты идешь на корм. У тебя росли ногти и волосы, а теперь ты растечешься жидкостью, от которой выше подымутся под солнцем яровые травы. Ты станешь травой, после – молоком коров, что съедят траву, кровью младенца, что выпьет молоко, и так далее. Видишь, твоя жизнь не такая никчемная, как моя, труп!»
Рамбальд тянет труп и думает: «О мертвец, я бегу, бегу – а прибегу туда же, куда ты, и меня вот так же потащат за пятки. Эта погоняющая меня страсть, эта жажда сражаться и любить – что же они такое, если взглянуть на них твоими выпученными глазами, из твоей запрокинутой головы, что колотится о камни? Я думаю, мертвец, ты заставляешь меня думать, но что это меняет? Ничего. Кроме дней, оставшихся до могилы, ничего нет ни у нас, живых, ни у вас, мертвецов. И они даны мне, чтобы я не растратил их, не пустил прахом ни крупицы из того, что я есть и чем могу стать. Чтобы я совершил славные подвиги в войне франков. Чтобы обнимал гордую Брадаманту, лежа в ее объятиях. Надеюсь, ты употребил свои дни не хуже, о мертвец! Как бы то ни было, твоя карта уже вышла. Моя еще лежит в колоде. И мне по душе, мертвец, мои заботы, а не твой покой».
Распевая, Гурдулу приготовляется копать яму для мертвеца. Распластывает его по земле, чтобы снять мерку, намечает мотыгой длину могилы, отодвигает труп и принимается копать с великим рвением.
– Мертвец, тебе, наверно, скучно ждать. – Гурдулу поворачивает тело на бок, лицом к яме, чтобы гробокопатель был перед остекленевшими глазами. – Мертвец, ты бы тоже мог раз-другой ударить мотыгой. – Он ставит тело на ноги, пытается всунуть ему в руки мотыгу. Мертвец валится. – Ну ладно. Не выходит у тебя. Тогда так: выкопать я выкопаю, а яму засыплешь ты.
Яма готова, но, так как Гурдулу орудовал мотыгой весьма беспорядочно, она напоминает чашу, только неправильных очертаний. Теперь Гурдулу хочет ее опробовать. Он спускается и ложится.
Ох, как здесь здорово, как здесь хорошо отдыхать! А земля-то мягкая как пух! И с боку на бок удобно вертеться! Мертвец, спускайся скорей, посмотри, какую я тебе выкопал яму! – Но тут же спохватывается: – Хотя раз мы договорились, что ты должен засыпать могилу, так лучше я останусь внизу, а ты сбрасывай на меня землю лопатой. – Он на миг замолкает. – Эй! Давай! Поживее! Чего же ты ждешь? Гляди, как надо! – Лежа на дне, он поднимает мотыгу и начинает сгребать сверху землю. Наконец на него обрушивается вся куча.
Агилульф и Рамбальд услышали приглушенный рев и не могли сразу понять – от страха ли орет Гурдулу или от удовольствия, что его так хорошо похоронили. Они подоспели как раз вовремя: еще чуть-чуть – и покрытый землей оруженосец задохнулся бы до смерти.
Рыцарь нашел, что Гурдулу потрудился из рук вон плохо, да и Рамбальдовой работой остался недоволен. Зато сам он разметил целое кладбище, очертив четырехугольные ямы, вытянувшиеся ровными рядами по обе стороны от среднего прохода.
Возвращаясь под вечер, они шли лесной поляной, где лесорубы франкского войска запасали дрова для костров и бревна для осадных машин.
– А теперь, Гурдулу, наруби дров.
Но Гурдулу ударял топором куда попало и клал в связки сухой хворост вместе с зелеными ветками, папоротниками, лозами ивы, годными только на корзины, и кусками обомшелой коры.
Рыцарь инспектировал работу лесорубов, проверяя орудия и штабеля, а заодно объяснял Рамбальду, что вменяется в обязанность паладину в связи с древозаготовками. Рамбальд не слушал его: все время у него просился на язык один вопрос, и вот проходка с Агилульфом кончалась, а вопрос этот еще не был задан.
– Рыцарь Агилульф, – перебил он.
– Чего тебе? – спросил Агилульф, орудуя то одним, то другим топором.
Молодой человек не знал, как начать, не мог выдумать предлога, чтоб исподволь подойти к единственному волновавшему его душу предмету. Поэтому он, покраснев, спросил:
– Вы знакомы с Брадамантой?
При этом имени Гурдулу, который подходил к ним, прижимая к груди одну из своих смешанных вязанок, вдруг подскочил. В воздухе замелькали сучья, зеленые папоротники, можжевеловые ягоды, листья бирючины.
В руках у Агилульфа был необычайной остроты топор. Он взмахнул им, разбежался и ударил по дубовому стволу. Лезвие прошло сквозь него из конца в конец, начисто срубив дерево, которое, однако, осталось стоять на пне, до того точен был удар.
– Что случилось, рыцарь Агилульф?! – вскричал Рамбальд. – Что это на вас нашло?
Агилульф, скрестив руки, внимательно осматривал круглый ствол.
– Видишь? – сказал он молодому человеку. – Совершенно точный удар, без малейшего отклонения. Посмотри, какой гладкий срез.
VI
 исать повесть, за которую я взялась, гораздо труднее, чем я думала. Теперь пришел черед изобразить самое большое сумасбродство рода человеческого – любовную страсть, от чего до сих пор меня удерживали мое монашество, затворничество и природная стыдливость. Не могу сказать, что я не слыхала даже разговоров о ней: напротив того, в монастыре, чтобы оберечь нас от искушений, иногда начинают о них беседовать – разумеется, в тех узких рамках, в каких мы способны говорить об этом предмете, имея о нем столь смутное представление; это бывает всякий раз, когда одна из бедных монахинь по неопытности оказывается беременной или, похищенная каким-нибудь знатным насильником, которому неведом страх Божий, потом возвращается и рассказывает, что над ней учинили. Так что о любви, как и о войне, я изложу попросту все, что мне удастся вообразить: искусство писать повести в том и состоит, чтобы из немногого понятого нами в жизни извлечь все остальное. Но когда, закончив страницу, снова начинаешь жить, то замечаешь, что знала ты всего ничего.
исать повесть, за которую я взялась, гораздо труднее, чем я думала. Теперь пришел черед изобразить самое большое сумасбродство рода человеческого – любовную страсть, от чего до сих пор меня удерживали мое монашество, затворничество и природная стыдливость. Не могу сказать, что я не слыхала даже разговоров о ней: напротив того, в монастыре, чтобы оберечь нас от искушений, иногда начинают о них беседовать – разумеется, в тех узких рамках, в каких мы способны говорить об этом предмете, имея о нем столь смутное представление; это бывает всякий раз, когда одна из бедных монахинь по неопытности оказывается беременной или, похищенная каким-нибудь знатным насильником, которому неведом страх Божий, потом возвращается и рассказывает, что над ней учинили. Так что о любви, как и о войне, я изложу попросту все, что мне удастся вообразить: искусство писать повести в том и состоит, чтобы из немногого понятого нами в жизни извлечь все остальное. Но когда, закончив страницу, снова начинаешь жить, то замечаешь, что знала ты всего ничего.
А Брадаманта – разве она знала больше? Чем дольше вела она жизнь воительницы-амазонки, тем глубже неудовлетворенность закрадывалась ей в душу. Она избрала для себя жизнь рыцаря из любви ко всему строгому, точному, неукоснительно согласному с нравственным законом и требующему – в том, что касалось владения оружием и верховой езды, – крайней отточенности движений. И что же она видела вокруг? Потных мужиков, которые воевали небрежно, как придется, а едва освободившись от службы, садились за выпивку или же слонялись за ней по пятам, гадая, кого из них она решит взять к себе в шатер нынешним вечером. Ведь всем известно: рыцарство – великое дело, но рыцари – долдоны, привыкшие, правда, совершать подвиги, но без толку, как Бог на душу положит, кое-как исхитряясь не нарушить правил, ибо присягали их соблюдать; а правила эти, черт их дери, благодаря своей непреложности избавляли воинов от излишнего труда напрягать мозги. Война – это бойня либо тягомотина, и мало в ней такого, в чем нужно разобраться до тонкостей.
В сущности, Брадаманта была такая же, как они: быть может, все эти бредни о строгости и неукоснительности она вбила себе в голову, чтобы обуздать истинную свою природу. Например, во всем франкском войске не было другой такой неряхи, как она. Взять хотя бы ее шатер: большего бедлама, чем там, не найти было в лагере. Между тем как бедняги мужчины худо-бедно справлялись даже с теми делами, что принято считать женскими: со стиркой, штопкой, подметанием полов, уборкой ненужных вещей, – Брадаманта, воспитанная как принцесса и избалованная, ни к чему не прикасалась, и, если б не старые прачки и судомойки, которые всегда вертятся вокруг войска (все до единой воровки), ее шатер был бы хуже свинюшника. Но все равно она там почти и не бывала: день начинался для Брадаманты, когда она надевала доспехи и садилась в седло. Действительно, вооружившись, она становилась другой – блистала вся от гребня шлема до поножей, хвастливо выставив напоказ самые новые и совершенные доспехи, украсив бармицу темносиними лентами, и беда, если хоть одна из них оказывалась не на месте! В этом желании блистать ярче всех на поле брани сказывалось не столько женское тщеславие, сколько постоянный вызов паладинам, чувство своего превосходства, надменность. От воинов – и франкских, и неприятельских – она требовала совершенства и во владении оружием, и в его содержании, будто бы это признак душевного совершенства. А если ей случалось встретить такого, кто отвечал хоть в некоторой мере ее запросам, в ней просыпалась женщина, и весьма любвеобильная. Уж тут-то она полностью отступалась от своих суровых принципов: Брадаманта была любовницей нежной и в то же время неистовой. Но если мужчина шел за нею по этому пути, забывался и терял над собой контроль, она тотчас разлюбляла его и пускалась на поиски поистине адамантового закала. Однако же кого она могла найти? Никто из лучших христианских или вражеских рубак не имел для нее авторитета: за каждым она знала слабости и глупости.
Брадаманта упражнялась в стрельбе из лука на площадке перед своим шатром, когда Рамбальд, настойчиво искавший встречи, впервые увидел ее лицо. На ней была короткая туника, обнаженные руки натягивали лук, лицо было немного нахмурено от усилия, волосы, схваченные на затылке, рассыпались по спине лошадиным хвостом. Но взгляд Рамбальда не останавливался на деталях: он увидел женщину целиком, ее облик и краски, – конечно, это она, которую он так отчаянно желал, хотя до сих пор почти и не видел, – и для него она уже не могла быть иной.
Стрела слетела с тетивы, вонзилась в служивший мишенью шест точно по прямой над тремя другими, пущенными раньше.
– Вызываю тебя на состязание! – сказал, подбежав к ней, Рамбальд.
Так юноша всегда бежит к женщине; но подлинно ли он движим любовью к ней? Разве это прежде всего не любовь к себе, не поиски доказательств собственного существования, какие может дать только женщина? Он бежит и влюбляется – юноша, неуверенный в себе, счастливый и отчаивающийся, для него женщина, безусловно, существует, и она одна может дать ему эти доказательства. Но женщина тоже и существует, и не существует: вот она перед ним, такая же трепещущая, неуверенная, – и как он не понимает этого? Что за важность, кто из них двоих сильный, кто слабый? Они равны. Но юноша не знает этого, потому что не хочет знать. Та, по которой он изголодался, существует, она реальная женщина. Она знает больше его, а может, меньше, но она вообще знает не то, что он, и ищет теперь иной формы существования. Они устраивают состязание в стрельбе, она кричит на него и не желает оценить его достоинства, а ему не понять, что все это игра. Вокруг – шатры франкского войска, знамена на ветру, ряды коней, которым задали наконец овса. Челядинцы накрывают для паладинов столы. А те в ожидании обеда стоят кучками вокруг, смотрят, как Брадаманта состязается в стрельбе из лука с юнцом. Брадаманта говорит:
– В цель-то ты попадаешь, но всегда случайно.
– Случайно? Я ни одной стрелы не промазал!
– Да хоть сто раз попади, все равно это случайно!
– А что тогда не случайно? Кто сумеет суметь не случайно?
По краю лагеря медленно проходил Агилульф; поверх светлых доспехов свисал широкий черный плащ, и шагал он как человек, который сам смотреть не желает, но знает, что на него смотрят, однако хочет показать, что ему это безразлично, тогда как ему это вовсе не безразлично, только иначе, чем могут истолковать другие.
– Рыцарь, иди к нам и покажи, как это делается…
В голосе Брадаманты не слышится обычного презрения, и даже осанка стала чуть менее надменной. Она сделала два шага навстречу Агилульфу, протягивая ему лук со стрелой на тетиве.
Агилульф медленно подошел, взял лук, стряхнул с плеч плащ, одну ногу выставил вперед и вытянул вооруженные луком руки. Это не были движения мышц и сухожилий, которые стараются приладиться к цели, он заменял их силами, сменяющими друг друга в желаемом порядке: он установил стрелу по невидимой линии, перпендикулярной к мишени, двигая луком ни на йоту не больше, чем нужно, и спустил тетиву. Стреле ничего не оставалось, как попасть в точку. Брадаманта закричала:
– Вот это выстрел!
Агилульфу все было безразлично: он сжал все еще трепетавший лук в неподвижных железных руках, потом уронил его наземь, подобрал плащ, запахнулся, стянув его у нагрудной кирасы, и так удалился. Ему нечего было сказать, и он не сказал ничего.
Брадаманта подобрала лук, подняла его на вытянутых руках, тряхнула своим конским хвостом.
– Кто, кто еще выстрелит с такой меткостью? Кто сравнится с ним точностью и непогрешимостью во всяком деле? – повторяла она, отбрасывая ногами комья дерна и ломая стрелы о частокол.
Агилульф был уже далеко и не оборачивался, радужный султан был приспущен, словно рыцарь потупился, железные перчатки у нагрудной кирасы сжаты, позади волочился плащ.
Многие из собравшихся вокруг воинов уселись на траву, чтобы насладиться зрелищем, какое являла беснующаяся Брадаманта.
– Она с тех пор, как влюбилась в Агилульфа, места себе не находит, несчастная…
– Что? Что вы сказали? – Рамбальд, поймав на лету эту фразу, схватил за руку говорившего.
– Э, цыпленок, можешь пыжиться сколько хочешь перед нашей воительницей! Ей теперь нравятся только доспехи, лощеные что снаружи, что изнутри. Ты разве не знаешь, что она по уши влюблена в Агилульфа?
– Как это может быть? Агилульф… Брадаманта… Как это возможно?
– Возможно. Когда баба утолит свою похоть со всеми существующими мужчинами, остается только хотеть мужчину, которого нет…
С недавнего времени для Рамбальда стало естественным побуждением в минуты растерянности и упадка духа разыскивать рыцаря в светлых доспехах. Он и сейчас испытал это чувство, но не знал, то ли спросить совета, то ли затеять с ним ссору как с соперником.
– Эй, белобрысая, а не жидковат ли он для постели? – окликали ее однополчане. Брадаманта пала, пала самым жалким образом: можно ли вообразить, чтобы раньше кто-нибудь осмелился говорить с нею таким тоном?
– Скажи, – не отставали нахалы, – если ты разденешь его догола, то за что схватишься? – И ухмылялись.
Рамбальд, в котором двойная боль – оттого, что так говорят о Брадаманте и так говорят об Агилульфе, – смешивалась со злостью от сознания, что сам он тут вовсе ни при чем и никому в голову не придет смотреть на него как на заинтересованное лицо, окончательно раскис.
Брадаманта вооружилась плетью и принялась размахивать ею в воздухе, разгоняя любопытных – и в их числе Рамбальда.
– Так, по-вашему, я не настолько женщина, чтобы заставить любого мужчину делать то, что ему положено?
Наглецы, разбегаясь, орали:
– Ух! Ух! Если хочешь, чтобы мы ему чего-нибудь одолжили, скажи только слово, Брадама́!
Рамбальд, подталкиваемый со всех сторон, бежал вместе с праздной толпой воинов, пока она не рассеялась. Возвращаться к Брадаманте он не имел желания, да и в обществе Агилульфа ему теперь было бы не по себе. Случайно рядом с ним оказался другой молодой человек, по имени Турризмунд, младший отпрыск герцогов Корнуэльских; он брел мрачный, потупив глаза в землю и насвистывая. Рамбальд пошел рядом с почти незнакомым ему сверстником и, чувствуя потребность излиться, заговорил первым:
– Я здесь новичок, но все тут как-то иначе, чем я думал, все ускользает, не дается, ничего не поймешь…
Турризмунд не поднял глаз, только на миг перестал насвистывать и сказал:
– Все сплошная мерзость.
– Видишь ли… вот что… – отвечал Рамбальд. – Я не такой пессимист, порой меня переполняет одушевление, даже восторг, мне кажется, будто я наконец все понял, и я говорю себе: если я наконец нашел правильный угол зрения, если на войне, которую ведет франкское войско, все так, то поистине об этом я и мечтал. Но на самом деле ни в чем нельзя быть уверенным…
– А в чем ты хочешь быть уверен? – перебил Турризмунд. – Гербы, чины, имена, вся эта помпа… Показуха одна! Щиты с подвигами и девизами паладинов не из железа, а из бумаги, ты их насквозь проткнешь пальцем.
Они подошли к пруду. По прибрежным камням, громко квакая, скакали лягушки. Турризмунд обернулся к лагерю и указал на реющие над частоколом знамена таким жестом, словно хотел стереть все это.
– Но императорское войско… – возразил Рамбальд. Его горечь осталась неизлитой, излияниям преградил дорогу яростный протест, и молодой человек старался теперь только сохранить ощущение пропорций и найти место для собственных страданий, – но императорское войско, нужно признать, сражается за святое дело и защищает христианскую веру от басурман.
– Никто никого не защищает, никто не нападает, – отвечал Турризмунд – Ни в чем нет смысла, война продлится до скончания веков, не будет ни побежденного, ни победителя, мы всегда будет стоять фронтом друг к другу… Одни без других были бы ничем, и что мы, что они давно позабыли, из-за чего идет война. Слышишь лягушек? Во всем, что делаем мы, столько же смысла и порядка, сколько в их кваканье и прыжках с берега в воду и из воды на берег.
– А по-моему, это не так, – сказал Рамбальд. – По-моему, все слишком четко распределено, размеренно… Я вижу доблесть, отвагу, но все пронизано таким холодом… А оттого, что здесь есть рыцарь, которого не существует, мне, честно говоря, становится страшно… И все же я им восхищаюсь, он все делает с таким совершенством и внушает больше уверенности, чем иные существующие. Я почти что понимаю… – он покраснел, – почему Брадаманта… Агилульф, без сомнения, лучший рыцарь в нашем войске.
– Тьфу!
– Что?
– Такое же надувательство, как и все остальное, даже хуже.
– Почему надувательство? Он-то если что делает, так на совесть.
– Ерунда! Все это пустые слова… Нет ни его, ни того, что он делает, ни того, что говорит, – ничего нет!
– А как же случилось, что он, имея такой изъян, какого ни у кого нет, занял свое нынешнее положение в армии? Только благодаря имени?
Турризмунд минуту постоял молча, потом тихо произнес:
– Здесь и имена подложные. Да если б я захотел, я бы тут все пустил на воздух. Нет даже клочка твердой земли, чтобы поставить ногу.
– Тогда, значит, никто не спасется?
– Может, и спасется, только не здесь.
– А где? И кто?
– Рыцари святого Грааля.
– Где же они?
– В шотландских лесах.
– Ты их видел?
– Нет.
– А откуда ты о них знаешь?
– Знаю.
Оба замолчали. Слышалось только кваканье лягушек. Рамбальд испугался было, что оно заглушит все, сведет и его существование к зеленому, склизкому, слепому раздуванию жабр. Но тут он вспомнил, какой явилась в бою Брадаманта с поднятым мечом, и страх был позабыт: ему вновь не терпелось сражаться и совершать подвиги перед ее изумрудными очами.
VII
 десь, в монастыре, на каждую наложена своя епитимья, каждая по-своему должна заслужить спасение души. Мне выпало на долю писать повести – как это трудно, как трудно! На дворе лето в разгаре, из долины доносятся крики и плеск воды; моя келья высоко, и из оконца видна излучина речки, в нее окунаются голые крестьянские парни, а чуть подальше, за купою ив, тоже сбросив платья, спускаются в воду девушки. Один из парней, проплыв под водой, вынырнул и смотрит на них, а они показывают на него пальцами и визжат. И я могла бы там быть – с пышной свитой, с такими же знатными, как я, барышнями, со слугами и служанками. Но святое наше призвание требует, чтобы преходящим мирским радостям мы противополагали нечто прочное… Прочное… да, если только и эта книга, и все, что мы делаем во имя благочестия, но с сердцем, обратившимся в прах, не есть также прах… более прах, нежели чувственные радости там, на речке, дышащие жизнью и ширящиеся, как круги на воде. Принимаешься писать со рвением, но приходит час, когда перо лишь скребет пересохшие чернила и с него не стекает ни капли жизни, потому что вся жизнь далеко-далеко за окном, далеко от тебя, и кажется, тебе никогда больше не найти убежища на странице, которую пишешь, открыть другой мир и вдруг перенестись в него. Быть может, так оно лучше; быть может, когда я писала с радостью, не было ни чуда, ни благодати, а был грех, идолослужение, гордыня. Стало быть, я далека от них? Нет, за писанием я не изменилась к лучшему, только порастратила запас неразумной, беспокойной молодости. Что мне воздастся за эти полные недовольства страницы? И книга, и обет будут стоить не больше, чем ты сама стоишь. Еще вопрос, можно ли спасти душу, марая бумагу. Пишешь, пишешь, ан душу-то и погубил.
десь, в монастыре, на каждую наложена своя епитимья, каждая по-своему должна заслужить спасение души. Мне выпало на долю писать повести – как это трудно, как трудно! На дворе лето в разгаре, из долины доносятся крики и плеск воды; моя келья высоко, и из оконца видна излучина речки, в нее окунаются голые крестьянские парни, а чуть подальше, за купою ив, тоже сбросив платья, спускаются в воду девушки. Один из парней, проплыв под водой, вынырнул и смотрит на них, а они показывают на него пальцами и визжат. И я могла бы там быть – с пышной свитой, с такими же знатными, как я, барышнями, со слугами и служанками. Но святое наше призвание требует, чтобы преходящим мирским радостям мы противополагали нечто прочное… Прочное… да, если только и эта книга, и все, что мы делаем во имя благочестия, но с сердцем, обратившимся в прах, не есть также прах… более прах, нежели чувственные радости там, на речке, дышащие жизнью и ширящиеся, как круги на воде. Принимаешься писать со рвением, но приходит час, когда перо лишь скребет пересохшие чернила и с него не стекает ни капли жизни, потому что вся жизнь далеко-далеко за окном, далеко от тебя, и кажется, тебе никогда больше не найти убежища на странице, которую пишешь, открыть другой мир и вдруг перенестись в него. Быть может, так оно лучше; быть может, когда я писала с радостью, не было ни чуда, ни благодати, а был грех, идолослужение, гордыня. Стало быть, я далека от них? Нет, за писанием я не изменилась к лучшему, только порастратила запас неразумной, беспокойной молодости. Что мне воздастся за эти полные недовольства страницы? И книга, и обет будут стоить не больше, чем ты сама стоишь. Еще вопрос, можно ли спасти душу, марая бумагу. Пишешь, пишешь, ан душу-то и погубил.








