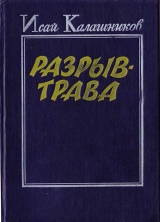
Текст книги "Разрыв-трава"
Автор книги: Исай Калашников
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
9
Не сразу согласился Макся помочь брату. Сидел на пороге зимовья, не отвечая Корнюхе. В распахнутые двери степь дышала горечью трав, запахом овечьей шерсти, прелого навоза.
Спутанная лошадь скакала к речке, брякая боталом.
– Ты почему стал таким боязливым, Максюха? – наседал на него Корней.
Брат думает, что он, Макся, боится Тришки. Кабы это! Два дня назад, поздно вечером, когда они с Федоской ужинали у
огня, к ним тихонько подъехал всадник. За спиной у него, в свете костра, тускло взблескивал винтовочный ствол, сбоку, оттягивая пояс, топырилась кобура нагана.
– Здорово, мужики! – гаркнул всадник, легко соскочил с лошади, протянул Федоске повод. – Расседлай.
Сам сел на корточки у огня, снял плоскую барашковую шапку.
– Приглашай ужинать.
Придвигайся, Макся впервые видел этого человека. Наголо остриженная голова, короткая черная бородка, реденькие усики нависли над толстой верхней губой. Стигнейка Сохатый!
– Что смотришь, патрет мой ндравится? – Стигнейка сдвинул кобуру, сел, по-бурятски подвернул под себя ноги, широко перекрестился, взял Федоскину кружку с чаем, кусок хлеба.
– Почему не спросишь, кто я?
– Догадываюсь.
– Не боишься? – Стигнейка шевельнул в улыбке толстую губу.
– Видели кое-что и пострашнее.
– До чего смелый парень! – усмехнулся Стигнейка.
– Приходится. На смелого собака только лает, а трусливого в клочья рвет.
– Занозистый ты. Язык у тебя длинный. Слыхал ли, что кое-кому языки укорачиваю?
– Слыхал, как же, а видеть не доводилось. – Макся хотел встать, но Стигнейка надавил на плечо, приказал:
– Сиди! Поговорить с тобой охота. – А сам метнул быстрый взгляд на зимовье, крикнул Федоске. – Неси сюда свое ружье!
– Нет у нас никакого ружья, не бойся. Разве Татьянка пульнет кочергой из окошка. Но не должна бы, она у нас девка смирная, – Макся чувствовал, что нельзя, опасно так разговаривать со Стигнейкой, а сдержаться не мог, его так и подмывало позлословить, пощипать Сохатого со всех сторон. – Сам подумай, для чего нам оружие? Тебе оно, конечно, нужно…
– Мне, слов нет, нужно, а для чего понимать надо.
– Я понимаю… Для чего волку зубы, рыси когти как не понять.
Стигнейка перестал жевать хлеб, резко поставил кружку на землю.
– Замолкни, щенок! Из-за кого я винтовку который год в руках держу? Мозоли на ладонях набил. Ни бабы у меня, ни хозяйства. Из-за кого?
– Из-за большевиков, думаю.
– А то из-за кого же?
– Ну и я говорю из-за них. Они тебя к Семенову служить погнали. Они заставили с самыми подлыми карателями спознаться. Все они, большевики да комиссары красные.
Не понял Стигнейка скрытой насмешки или пропустил ее мимо ушей, подхватил:
– Да, они всю жизнь изуродовали! Я уже тогда видел, куда приведут комиссары. Но ничего, им тут житья не будет. Уж цари ли не гнули, не ломали семейщину, проклятое никонианство навязывая, а что вышло? Большевики хуже Никонки-поганца. Совсем веру извести хотят. Пусть попробуют! Зубы обломают.
– Едва ли… Не верой одной сыт человек. А потому ни тебе, ни другим не поднять людей за двуперстный крест. Теперь, после войны, люди с понятием стали.
– Ты рассуждаешь, как партейный, – зло прищурился Стигнейка.
– А я, может, партейный и есть…
– Да нет. Кто у вас партейный, я знаю. Все они у меня помечены. Ты красненький, да и то с одного боку, с другого еще зеленый, недозрелый. Но помни, чуть чего, не погляжу, что молодой.
К огню подошла Татьянка, опасливо покосилась на Стигнейку, собрала пустую посуду, унесла в зимовье.
– Лукашкина сестра? – спросил Стигнейка, провожая ее взглядом. – Ничего, бравенькая деваха.
– Ее не задевай!
– Ишь ты, сердитый… Ну давай, веди меня ночевать.
В зимовье Стигнейка проверил, не открываются ли окна, велел Татьянке наладить постель на полу у порога и, не раздеваясь, лег спать. Сказал, вынимая из кобуры наган:
– Ненадежный ты парень. А мне сказывали: ерохинские ребята ничего. Ты ненадежный, зато умный, сообразишь, что стоит брякнуть обо мне где не надо, и твоя шмара длинноносая, твои братья и ты сам сразу же получите по конфетке, от которых кровью рвет. Понятно? Каждый твой шаг мне будет известен. Лазурька охрану каждую ночь выставляет, поймать меня хочет. А я лучше самого Лазурьки знаю, где, за каким углом его караульные дремлют.
До полночи не мог заснуть Макся. Из всего разговора с Сохатым больше всего запало в душу вскользь оброненное замечание: «Ерохинские ребята ничего». Мразь, дерьмо собачье, с каких это пор красные партизаны стали для тебя ничего! Не было, нет и не будет у нас с тобой мира, бандюга! Но кто ему сказал такое? Когда, чем дали братья повод для такого навета? Может, тем, что, в хозяйстве увязнув, ничем не помогают Лазурьке? Или хуже что? Да нет, не должно… Ну да ладно, с этим потом разберемся. А сегодня я тебе, поганец, покажу, какие они, «ерохинские ребята».
К боку Максима жался Федоска. Боялся парнишка. Макся обнял его, шепнул: «Спи, ничего не будет». И Федоска заснул. А Татьянка не спала, это Макся чувствовал по ее дыханию. Она лежала тут же, на нарах, у печки. Он протянул к ней руку. Татьянка схватила ее обеими руками, крепко сжала.
Сохатый спал, слегка посвистывая носом. Макся обдумал, как будет действовать. В трех шагах от нар, в подпечье лежат березовые поленья. Добраться до них. Потом на цыпочках к Сохатому. Хватить разок по голове не дрыгнет. Только бы не промахнуться!
Освободив руку, Макся неслышно сполз к краю нар, спустил на пол босые ноги, встал.
– Куда? – в темноте щелкнул предохранитель.
– Пить хочу, – Макся протяжно зевнул. – Тебе, поди, докладывать об этом?
– Да!
– А если по нужде? Тоже?
– Да!
– И по какой нужде уточнять?
– Ложись!
Макся зачерпнул из кадки воды, попил для отвода глаз, вернулся на нары, досадуя на кошачью чуткость Стигнейки. Татьянка подползла к нему, дыхнула в ухо:
– Не вздумай чего, Максюшка. Я боюсь.
– Трусиха? – так же тихо спросил он.
– Ага. Погляди, какие у него глаза. Оледенелые.
– Эй вы, я не люблю, когда мне мешают спать! – крикнул Сохатый.
– Тебе твой страх мешает… – Ладонью Татьянка закрыла ему рот.
– Молчи, Максимушка, молчи ради бога! Не зли его, родимый…
На своей щеке он почувствовал ее губы робкий поцелуй. А может быть, ему только показалось, может быть, Татьянка невзначай прикоснулась губами?
Утром Стигнейка все время разглядывал Татьянку серыми, выстуженными глазами, разглаживая пальцем усики.
Уезжая, сказал:
– Буду, видно, наведываться сюда… Так ты, еще раз говорю, не звякай обо мне. Иначе смерть! И воду пей с вечера.
…Все это сейчас вспомнил Максим. В другое время он бы с радостью помог Корнюхе. Но как теперь быть? Как оставить на заимке Татьянку и Федоса без взрослого мужчины? Правда, он посылал Федоса в деревню, предупредить Лазурьку, и председатель велел пока что помалкивать, не говорить никому ни слова. Что он там задумывает, кто его знает. Пока подготавливается, Сохатый может не раз побывать на заимке. А поди угадай, что у него на уме.
Корнюха, не зная, как истолковать молчание брата, обиженно спросил:
– Да ты никак подсобить мне не хочешь?
Почему же не хочу. Но не знаю… Как думаешь, Танюха? – взглядом спросил, боится ли она остаться с Федоской. «Боюсь», ответили глаза Татьянки. Но сказала другое:
– Поезжай, Максим. Все будет хорошо. Нет, правда, поезжай. С работой мы одни справимся.
– Ну хорошо, поехали.
Только дорогой Корнюха рассказал Максе об истории с землей, да и то не все рассказал, а так, самое необходимое. Макся все это не одобрил.
– Надо же, впутался! – сказал он. Пискун тебя приберет к рукам.
– Не такие у него руки, чтобы меня прибрать.
И нотки самохвальства, проскользнувшие в голосе Корнюхи, не понравились Максиму. Повернулся к нему.
– Отгадай, братка, загадку. По-бычьи мычит, по-медвежьи рычит, а наземь падает, землю дерет.
– Это про кого же? Должно, зверь какой-то. Тигра, может?
– Нет, не тигра. Жук. А тигром кажется, да?
– Ты опять что выдумал? – забеспокоился Корнюха. – Разговаривай, как все люди, брось эту моду слова вверх дном переворачивать. Иной раз трудно с тобой говорить.
– Не все легкое хорошее, ты и без меня это знаешь, а все равно богачества хочешь одним прыжком достигнуть. Не то на ум себе взял, братуха.
– Ну-ну, поучи. Игнат с одной стороны, ты с другой… Так я скоро стану умнее вас обоих. Корнюха тронул коня, поскакал рысью.
В седле сидел он ловко: черные, с землей под ногтями руки крепко держали поводья, пузырилась на спине припыленная рубаха. Каким-то особенно крепким, сильным показался сегодня Корнюха Максе. Даже недельная щетина на его щеках и та как бы подчеркивала здоровье засмуглевшего лица. Если уж Макся завидовал чему, так это могутности своих братьев. Что Игнат, что Корнюха каждый сильнее его раза в два. Он решил не возвращаться к затеянному разговору, но его возобновил сам Корнюха.
– А ты что, братка, за то, чтобы мы дальше бедствовали? – Корнюха придержал коня.
– Не так уж мы и бедствуем… Но я о другом думаю. Скажем, ты разбогател. А дальше что?
– Нашел об чем спрашивать! Жить буду.
– Как жить? Как Пискун? Или Тришка, Лучкин тесть?
– Что ты меня с ними равняешь! Оба рылом не вышли, чтобы по-человечески жить. На это у них толку не хватает.
– Да нет! Понять меня не хочешь… Стал ты, например, богатым и начнешь ездить на работниках, на родственниках неимущих. Как другие делают. А против кого мы воевали?
– Ну ты и хватил! – засмеялся Корнюха, потом задумался, тряхнул головой. – А хошь бы и так… В бога нас верить отучили, на рай я не надеюсь, а жизнь у меня одна-единственная, запасной нету. И никто мне эту жизнь хорошей не сделает, если сам не постараюсь.
– А какая жизнь хорошая?
– Это и вовсе понятно, – не задумываясь, ответил Корнюха. – Когда у тебя всего вдоволь в самый морошный день ясно. Нужда человека не красит, озлобляет. Возьми Петрушку Трубу. Помню его молодым. На вечерках, бывало, наяривал на гармошке любо-дорого. Епистимея, баба его, голосистая была, заведет песню за сердце берет. А намедни я ездил на мельницу, чаевал у них. В избе грязно, ребятня в рванье… Про гармошку и песни не упоминают. Какие уж там песни! Их ругань заменила. Грызет Петрушку баба с утра до ночи. Обида ей, мужик детишек понаделал, а прокормить не может. И вот ведь что худо, привык Петрушка к нужде и к бабьему скрипу, живет, будто так и надо. А я бы к этому не привык. Я лучше удавлюсь, чем так жить.
На этот раз Максим промолчал, не нашел, что сказать в ответ. С одной стороны, прав Корнюха, слов нет. С другой, неладное что-то в его рассуждениях. Взять Лучку. Уж у него-то все есть, живи, радуйся. А не может он радоваться, ест ему нутро какая-то болячка. Разворот ему нужен, воля нужна. Но воли ему не видать, даже после смерти Тришки. Хозяйство забот требует, чуть опусти руки уплыло. Или вон Стишка Белозеров, его, Максима, однолеток, секретарь Совета. Самостоятельно грамоту одолел, писать протоколы лучше всех научился, первым в деревне иконы с божницы скинул. Богатству Стишка не завидует, больше всего тешит его душу то, что он власть, что сила за ним стоит огромная. И люди чуют это, величают не по летам: «Стефан Иванович», хотя совсем недавно был просто Стишка Клохтун. Корнюха одно, Лучка другое, Стишка третье, Игнат четвертое… Каждый ждет от жизни чего-то своего, каждый в свою сторону тянет. Может, потому-то и живет до сих пор Стигнейка Сохатый, топчет землю сапогами, запачканными людской кровью.
По кремнистой тропе они поднялись на сопку, вспугнули стадо баранов. На вершине другой сопки сидел Федоска, рядом девчушка-бурятка в длинном старом халате и островерхой шапочке с красной кисточкой на макушке. Эту девчушку, пастушку из улуса Хадагта, и Максим и Татьянка не раз видели вместе с Федоской. Шутили: «Женись на ней». Федоска вспыхивал маковым цветом, бурчал: «Да ну вас!..»
Максим направил коня к ним. Оба вскочили, роняя на землю цветы ургуя. Девчушка глянула на Максима черными-черными, как угли, глазами, резко взлетела на лошадь и галопом поскакала за сопку.
– А что она убежала? – спросил Максим.
– Откуда же я знаю. Приехала, уехала, какое мое дело.
– Я уезжаю дня на три-четыре… Ты тут посматривай. В случае чего дуй на заимку Харитона Пискуна. Знаешь, где она?
– Знаю.
Почти одновременно с братьями на заимку прискакал Агапка.
– Батя бумагу выправил. Он подал Корнюхе вчетверо сложенный листок.
Тот развернул его, быстро глянул на подпись, на печать и спрятал в карман.
– Хавронья, мне с тобой поговорить надо, – Агапка вышел на улицу, Хавронья побежала за ним.
Корнюха достал бумагу, не торопясь прочитал, сказал с завистью:
– Да-а, Харитон мужик сильный.
Агапка уехал, не заходя больше в зимовье, а Хавронья вернулась расстроенная, села на лавку, всплеснула руками:
– Вот горюшко какое! Присоветуйте, ребята, что мне делать. Aгaп Харитонович последнее слово сказал, если дочка до осени не приедет, он на другой женится. А я ее сюда залучить не могу. Домишко не продает, в работники нанялась.
– А что он сам туда не поедет, не посватает? – спросил Корнюха.
– Зачем же он поедет, если она за него идти не хочет? Тут-то бы она не отвертелась.
– Не хочет, зачем неволишь? – сказал Максим. – Жизнь ей погубишь, больше ничего.
– Ты молодой еще, в жизни мало понимаешь. Свои дети будут, тогда узнаешь. Каждому родителю хочется свое дите лучше пристроить. Такого жениха упустить да ты в своем ли уме, парень? Поеду я к ней. Ты тут один побудешь? – спросила она Корнюху.
– После сева…
– Отпусти сейчас. Привезу ее. За косы притяну, если добром не пойдет. Отпусти, голубчик!
– После сева, может, что-нибудь сделаем, – нахмурился Корнюха.
– После сева? Да у меня за это время вся середка выболит.
– Ничего твоей середке не сделается. Сейчас даже не думай. Тебе же коня надо? Надо. И коров без присмотру не оставишь. И доить их надо.
– Брательник твой попасет. На коне попашешь, а подоить уж как-нибудь вдвоем подоите.
– Правда, что волос длинный, а ума ни черта нет. Распределила! Затем только и позвал Максюху, чтобы ты по гостям разъезжала. Пошли, Макся, запрягать.
Хавронья горестно сложила на груди руки, в ее глазах заблестела влага. Максим задержался в зимовье, ласково сказал:
– Вы не печальтесь, мать. Никуда Агапка не денется. И не надо отдавать дочку силой.
– А что же, ждать, когда за голодранца выскочит?
– Не любит же она его…
– Ха, любовь… Про нее говорят мужики, когда к девке или вдовушке подлаживаются, а что любовь, если баба его собственная.
Корнюхе Максим сказал:
– Ты бы с ней как-то по-другому говорил…
– А ну ее к черту, кобылу старую! На чужое добро рот разевает, а укусить не может зубы сношены.
Сказал это Корнюха со смехом, но все равно Максе стало за него неловко. У Хавроньи, конечно, дурь в голове, а все же нельзя с ней так…
Проработал Макся на заимке три дня. На несколько рядов проборонил пахоту, выдирая из земли белые корни пырея. А Корнюха все пахал и пахал. Он бы, наверно, дай ему волю, распахал все увалы.
Работу кончили вечером. Край неба на западе был схвачен зоревым пламенем, пыль, поднятая бороной, красная в лучах закатного солнца, медленно плыла над увалами, тонула в зелени леса. Корнюха вытирал подолом рубахи потное лицо, смотрел на черный бархат пашни.
– Ишь сколько мы с тобой наворочали! Эх, кабы это поле да было нашим… Но ничего, братуха, будет урожай в накладе не останемся. Ты, может, еще побудешь день-два?
– Нет, братка, надо ехать.
Собрался уезжать, на заимку прискакал Лазурька.
– Я тебя разыскиваю, – сказал он Максимке. – Был на заимке, сказали ты тут…
– Зачем он тебе? – насторожился Корнюха.
– Есть одно дельце… А ты меня не послушался-таки. На себя будешь потом пенять, Корнюха.
– Ничего, обойдется, – Корнюха достал бумажку, развернул, не выпуская из рук, показал Лазурьке. – Ну как? Что ты теперь скажешь?
– Чудно что-то… – удивился Лазурька. – Дай мне бумагу.
– Э-э, нет! Бумагу я бы и батьке родному не дал. А тебя попрошу, Лазарь, ради нашей дружбы не шабутиться. Даешь мне слово?
Лазурька помолчал, поиграл пальцами на столе, поднял глаза на Корнюху.
– Сам смекаешь, что не все тут ладно? Тем хуже для тебя, Корнюха. Не буду я это дело ворошить, буряты и сами как-нибудь разберутся. Но учти: попадешься со своими хитроумными увертками худо тебе будет. Поехали, Максим, провожу тебя малость.
Солнце уже село, на красном небе горел один тонкий луч, будто кто огненным резцом черкнул. Но и тот луч быстро укорачивался, наконец исчез. Заря стала густеть, обугливаться по краям, уменьшаться.
– Завтра будет вёдро, сказал Лазарь. Я что к тебе… Возьми эту штуковину.
Он достал из кармана вороненый револьвер, крутнул барабан, подал Максиму. Из другого кармана достал горсть патронов.
– Сгодится. Это мой партизанский, у офицера отобрал.
– Дарю тебе.
– А как же ты? Тебе он нужнее.
– У меня еще есть. Стигнейку, если удастся, попытайся взять живым. В самом крайнем случае прихлопнуть можно. Очень он живой нужен. Не можем никак под его корешков подкопаться. Ты Корнюхе ничего не говорил?
– Нет.
– И не говори. Не надо.
– Ты что о нем так?.. Ты это бросай, Лазарь. Я ему не говорил и до времени не скажу, порядок знаю, но подозревать…
– Не подозреваю я, чего ты вскипел! Не его подозреваю. Пискуны, чувствую, Стигнейке опора. А уличить нечем. Ни их, ни других. Кто-то из наших им все разговоры передает. Тяжело, Максимка. Говоришь с мужиками, а у самого на уме: может, этот, может, тот вон ночью в кулацкий дом наши задумки крадучись понесет. Друзья старые не все понимают, одно у них на уме хозяйство. И ячейка маленькая, трое нас всего: Абросим Кравцов, Стишка да я. Лазурька натянул поводья. Поверну тут домой… Поезжай. Будь осторожен с тем гадом. На разговоры не набивайся. А то мне Татьянка рассказывала… И вот что, Максюха, главное… Пиши заявление в ячейку. Ты еще в партизанах, помню, собирался.
– Было такое. Потом меня царапнуло, отлеживался…
– Надо, Максюха… Будет собрание дам знать. Ну, удачи, дружище!
Рассыпав частый цокот подков, Лазурька ускакал. Макся посмотрел на проступающую из тьмы звездную сыпь, вздохнул. Надо бы поговорить, а он уехал. Но, поди, и лучше так-то. Тут своим умом решать надо, без пособников. Когда ходил с братьями на заработки, был рад, что не вписан в партию. Только бы числился… Теперь, кажись, подошло время выбирать свою дорогу. Не одобрят его выбора братья. Нехорошо как! Завсегда вместе были, а тут вроде подошли к росстаням и дальше каждый свой путь держит.
Подъезжая к заимке, он не увидел огня, не услышал лая собаки. Встревожился, погнал лошадь галопом. Подлетел к зимовью, спрыгнул с седла. На стеклах слепых окон мерцали, отражаясь, звезды, за пряслами двора сопели овцы, на огнище красным глазом светился горячий уголь.
На стук за дверью откликнулась Татьянка. Голос ее прозвучал испуганно. А он, радуясь, закричал:
– Я это, я!
Откинув крючок, Татьянка зажгла лампу и, кинув за плечо косу, вся потянулась к нему, будто стебель ковыля под ветром, но застеснялась, попятилась к столу, оперлась о его кран руками.
– Таня… – это слово вырвалось у Максимки само собой. Впервые он ее назвал так – Таня. И прозвучало ее имя совсем иначе.
С нар соскочил Федоска, сел на лавку у стола, проговорил:
– Думал: он, стук такой, резкий…
– Кто он? На минутку Макся совсем позабыл о Сохатом, но тут все вспомнил, похолодел: – Опять наведывался?
– Сегодня был. Только что уехал.
Макся невольно потянулся к карману, оттянутому револьвером.
– Татьянка, это правда?
Ага… Только уехал Лазарь Изотыч, он и заявился. Едва разминулись. А я тут одна, Федос-то на пастбище был.
– Ну и что? – торопил ее Макся.
– Про тебя спрашивал. Собаку застрелил. Буду, говорит, к вам ездить, так чтобы не гавкала. Ужинал здесь… – Татьянка замялась, замолчала. Она чего-то, кажется, не договаривала.
Макся попросил Федоса расседлать коня и, когда он вышел, спросил:
– А еще что? Все говори, Таня, все…
Даже при тусклом свете лампы было заметно, как вспыхнуло лицо Татьянки, она потупилась, кашлянула.
– Он… он лез обниматься… Такой охальник. А руки у него потные, склизкие. Бабой, говорит, моей будешь, обвенчаюсь с тобой.
Макся сел, долго молчал, стискивая кулаки.
– Стерва! – наконец сказал он. – Я его обвенчаю с гробовой доской!
– Боюсь я, Максим. Страшно… Татьянка поежилась.
– Ничего, Танюша, ничего… Он взял ее за руки, усадил рядом, обнял за плечи. – Теперь я вас одних не оставлю.
10
Игната разбудил дождь. Звонкие струи расхлестывались о стекла окон, дробью сыпались на крышу. Во дворе тускло светились заплаты луж, на них плясали дождевые капли, вздувались и лопались пузыри, за воротами в канаве вспенивался ручей. Все небо было затянуто сумеречью. Дождь вроде бы окладной. Слава тебе, господи, помочка добрая будет. И передохнуть можно. Устал Игнат за вешную до смерти.
Не торопясь, позевывая, он оделся, пошел доить корову. Сарайчик протекал, корова чуть ли не по колено стояла в раскисшем навозе. Надо было дранья надрать и поправить крышу, а когда? Хлеб, правда, посеял, но зеленка на очереди, пары, а там уж и сенокос не за горами, за сенокосом страда. Зря, видно, послушался тогда Корнюху, отказался от женитьбы. С Настей жилось бы куда как легче. Теперь она почти не помогает, самому надо и коровенку доить, и убираться. Хочешь не хочешь вставай ни свет ни заря и принимайся за муторную бабью работу, да спеши, а то в поле выедешь позже всех, и мужики просмеют. Вечером всем другим! отдых, а ему снова домашняя маета. Кроме всего Лазурька. То и дело гонит в ночной караул Стигнейку ловить. Пока что Стигнейку ни один караульный в глаза не видел, не дурак он, Стигнейка-то. Но все-таки польза от караулов есть. Воровство поубавилось, давно никто не шарит по амбарам, по омшаникам. Это хорошо. Это Игнат одобряет. Тяжело только без передыху, шибко тяжело. Эх, зарядил бы дождик дня на два-три, то-то поспал бы…
Корова в грязи стоять не хотела, переступала с ноги на ногу, головой вертела, норовя поддеть его рогом. Но он на нее не злился, почесывал мокрый бок, уговаривал:
– Погоди маленько, Чернуха, сейчас на волю выпущу. Погоди… Не глянется хозяин? Настюха, конечно, обходительнее, но видишь, как с ней получается.
Выпустив корову на выгон, Игнат за воротами постоял, поджидая, не покажется ли во дворе Изота Настюха. Но за глухим заплотом было тихо, должно, успели убраться. Вон из трубы дымок тянется, стало быть, печку топят, Настюха, может, блины к чаю стряпает. Пойти бы к ним, да все равно не поговоришь при людях, если уж без людей, наедине ничего ей не мог сказать. – Сколько раз собирался, но все откладывал. Опасался: ну как получит полный отказ, тогда что? Потихоньку выспрашивал у молодых ребят, не гуляет ли она с кем нет, не гуляет. Когда так, тянуть нечего, сказать ей все, а там будь что будет. Ей и разжевывать не надо, чуть намекнуть, дальше сама обо всем сдогадается. Верится, не оттолкнет его Настя, не позарится на другого. Сегодня она придет, в другие-то дни ей некогда, тоже в поле работает. Придет ли? Если придет, все будет хорошо, если нет…
Оттого, что льет дождь и можно отдохнуть, от ожидания встречи с Настей, Игнату было как-то по-особому хорошо. Возвращаясь в избу, он снял шапку, подставил голову под струю воды, сбегавшую с крыши, умылся. Дома навел полный порядок, ножом выскоблил пол, посыпал его речным песком, затопил печку. И ему почему-то все время казалось, что сегодня не просто вынужденная передышка, а праздничный день.
Все сделав, лег на кровать, но не спал, лениво потягивался, смотрел в окно, слушал то затухающий до тихого шепота, то буйно вскипающий шум дождя. Над селом низко-низко плыли тучи, их растрепанные космы местами свешивались почти до крыш, почти цеплялись за трубы. Свет был серый, вялый, а в избе радовала глаз желтизна песка на полу, сухое потрескивание дров в печке, всплески отсветов огня, играющие на стене.
Когда под окном кто-то прошлепал по лужам и стал подниматься на крыльцо, Игнат вскочил, одернул рубаху. Но гость был нежданный. Пришел Стишка Клохтун. Держась за скобу двери, сказал:
– Собрание бедноты сегодня. Приглашаем.
Стишка, наверное, обегал всю деревню, ичиги его были заляпаны грязью, рыжий, выношенный зипун мокро повис на худых плечах, тонкие губы посинели от холода. Жалко стало парнягу.
– Садись к печке, обсушись, нe то простынешь.
– Некогда мне. Вот если чаек горяченький…
– Есть. Зеленый, по-бурятски заваренный.
– Тем лучше, – не вытерев ног, не сбросив зипуна, в шапке Стишка сел к столу. На желтом полу остались грязные пятна, скатерка па столе под его локтями потемнела, стала мокрой.
Не сдержался Игнат, взглядом показал на следы, на скатерть, упрекнул:
– Экий ты неаккуратный. Скинь хоть шапку.
Чуть-чуть, про себя усмехнулся Стишка, но шапку снял. Торопливо глотая горячий чай, он оглядывал избу острыми ястребиными глазами, ни на чем долго не задерживаясь, лишь на иконах остановился, его брови, высветленные солнцем до цвета спелого овса, дергаясь, взъехали на высокий лоб.
– Для чего они у вас?
– Для того же, что и у всех, – с неохотой ответил Игнат.
– А еще красные партизаны! – брови съехали на свое место и распрямились в стрелочки. – Экая невежливость и культурная недоразвитость.
– Чего бормочешь?! Игната удивила беззастенчивость Стишки.
– Сними ты эти доски, не пачкай своего звания.
– На свой куцый аршин примеряешь? Сперва переживи хоть половину того, что нашему брату досталось.
– Переживали много, учились мало что толку?
– Уж не ты ли научился?
– Учусь… Каждый день самопросвещением занимаюсь. Иначе теперь нельзя.
– Ну и занимайся на здоровье, может, будет какой толк впоследствии. А пока не шебарши про свою ученость, она у тебя пока что, как у зайца хвост вроде есть, вроде нету. Скажи-ка, если ты такой ученый, что главное в человеке? Чем он разнится от животного?
– Могу, конечно, разъяснить, но это дело долгое и опаска есть: не все поймешь.
– Я, по-твоему, полудурок? – спесивость Клохтуна и забавляла, и сердила Игната.
– Не полудурок, но отсталости в тебе много. В бога, наверно, еще веришь? Молишься?
– И верю, и молюсь.
– Ну вот… Однако смотри, Игнат Назарыч, не завели бы тебя молитвы и эти деревяшки, через плечо Стишка ткнул пальцем в сторону божницы, прямехонько в кулацкий табор. Для них партизан с затуманенной башкой находка.
– Другому такое ляпнешь поколотит.
– Отошло времечко колотить. А богов, боженят, прислужников ихних вскорости поганой метлой из села выметем. Не жди этой поры, худо может обернуться…
– Припугивай других, парень!
– Я не припугиваю. Из уважительности к вам, братьям Родионовым, говорю.
– Оно и видно… Таким манером мало кого возьмешь. Ты, ученая голова, когда-нибудь думал, почему атаман Семенов в восемнадцатом году Советскую власть сбросил? Легко сбросил, но сам не удержался. Я не ученый, а скажу. Когда казачий чехи белые красногвардейцев били, наши мужики в стороне держались не успели понять, какая она есть, Советская власть. Нам мол что ни поп батька. Ну, пришел Семенов. Засвистели плети, зачали казачки с мужичьего зада кожу спускать. Тут мужик очухался, поумнел и Семенова, и его японских пособников погнал.
– Ну и что?
– А то, что не любит мужик, когда его за горло берут или плетью по спине ласкают. Ты мне свою правду так выложи, чтобы я ее мог пощупать со всех сторон. Поверю в нее умом и сердцем, сам от всего откажусь и приму твою правду. А то сидишь, то да се плетешь, но разговор у тебя легкий выходит, как дым от папиросы: дунул и нет ничего.
Неулыбчивое Стишкино лицо, продолговатое, худощавое и остроносое, слегка порозовело. Резким движением он отодвинул стакан, сказал со скрытым значением:
– Разговор у нас пока, может, и легкий, но рука завсегда тяжелая.
– У вас? Говорил бы ты, Стиха, про себя…
За Стишку, за его настырность неловко было Игнату. Говори так, к примеру, Лазурька, все было бы на месте. Когда ждешь еженощно пули в затылок, поневоле ожесточишься. А этот крови не видел, лютости людской на себе не испытал с чего такой взъерошенный? Топырится индейским петухом, а в суть жизни проникнуть ему не под силу, слаб еще умишком. Хотя есть, видно, умишко, раз книжки почитывает. Или одного ума тут мало, еще что-нибудь требуется?
По дороге в сельсовет, думая об этом, он спросил Стишку:
– Вот ты больше всех бегаешь, новые порядки затверждаешь с чего? Мы за новую власть жизнь свою отдавали, потому она нам дорога. А что тебе дала власть? В бедности жил до этого, в бедности живешь сейчас.
Стишка натянул Поглубже мокрую шапчонку, буркнул:
– А-а, разве ты поймешь?..
– Что ты заладил: не поймешь, не поймешь.
– Конечно! Вы раньше жили крепко. Тебе не приходилось вплоть до снегопада ходить босиком, греть ноги в свежем коровьем дерме. А мне приходилось. Да не в этом беда. Мы всю жизнь коров пасли. Бывало, всем праздник, нам нет. В праздник есть обычай пастуху угощенье давать. Идешь по улице, собираешь коров, а тебе из окошка кидают, кто тарку, кто калач, кто кусок мяса жареного. Ловишь на лету, будто собака, а потом гостинцы те в горле застревают. И это не беда. За человека тебя не считают… Здороваешься, кляняешься, а тебе кивнут ладно, а то и так, будто мимо столба, пройдут. Но теперь посмотри! Пискун передо мной за десять сажен шапку ломает. Тришка Толстоногий и тот при встрече в улыбке зубы оскаливает. Знаю я, что у них на уме, когда со мной так здороваются. Да мне то что!.. Чуешь теперь, на какую высоту меня подняла Советская власть, с кем поравняла? Сила во мне сейчас такая, что любого из супротивников как спичку сломаю. За одно это я для Советской власти горы переверну.
В сельсовете густо пахло сырой одеждой. Мужики тесным полукругом сидели у стола, забрызганного чернилами. Лазурька говорил о машинном товариществе «Двигатель». Организовали его год назад, но дальше дело не пошло.
– Не пошло, мужики, застопорилось. А почему о том лучше других знает Еремей Саввич.
Ерема развел руками.
– Все на ваших глазах было, я-то при чем? Записались, считай, все, но стали собирать взносы взапятки. Еще вступительные так-сяк собрали. Пятьдесят копеек с хозяина… А паевые поболе, пятерка. И пятерку никто не внес…
– Совсем никто? – спросил Лазурька.
– Совсем! В том-то и дело.
– У тебя память никудышная. Пискун внес, Трифон…
– Я и говорю: они внесли, а из бедноты никто.
Мужики засмеялись. Тараска негромко, по так, что все услышали, сказал:
– Вывернулся! Как намыленный…
– Чего там зеваешь, дурак! – озлился Ерема и сел.
– А дальше что? – не отставал Лазурька.
– Да ничего! – сердито ответил Ерема. – Нет взносов нет товарищества. На что купишь машины?
– Не пузырься! – жестом руки Лазурька как бы отстранил его. – Вроде бы неладно получается, мужики, что я каждый раз Еремея щипаю. Но как иначе? О товариществе он не хлопотал, взносы собрать не удосужился. И потом, вслушайтесь: то-ва-ри-ще-ство, хотя и машинное. А какие нам товарищи Пискун и ему подобные? Для чего их приголубил?








