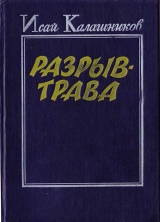
Текст книги "Разрыв-трава"
Автор книги: Исай Калашников
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
5
Возле печки, на нарах, под яманьей дохой корчился в ознобе Максюха. По лбу, по щекам катился холодный липкий пот, намокшая рубаха присосалась к телу. Три дня назад он переходил Тугнуй по источенному льду и ухнул до пояса в воду. Пока прибежал на заимку, насквозь продрог, и в тот же вечер тело охватило жаром. Ночью спал не спал не поймешь, в голову лезла всякая чепуха, мерещилась разная диковина. Возле него почти неотлучно находилась Лучкина сестра Татьянка, большеглазая, длинноносая девка. Она мочила в холодной воде рушник и прикладывала к горячему лбу, поила чаем. За время болезни она ни разу путем не выспалась. Устала, бедная. Прошлой ночью села возле него, привалилась спиной к печке да тут же и задремала. Максим разостлал полушубок и осторожно положил Татьянку. Она что-то пробормотала сквозь сон, сунула ладонь под щеку так и проспала до утра, ни разу не повернувшись.
Сейчас она хлопотала во дворе, громко ругаясь с младшим братом своим Федоской. Никак не хотел ее слушаться Федоска, вечно перечил, супротивничал, стыдился, видно, ей подчиняться.
На заимке Лучкиного тестя они жили втроем, ухаживали за баранами. Лучкин тесть, Тришка Толстоногий, коров почти не держал, давно сметил: бараны дают пользы много больше. Снег и долине Тугнуя, где его заимка, мелкий, отара без малого всю зиму да подножном корму, сена вовсе немного требуется, а за шерсть, за овчины хорошие деньги дают. Пока Еленка, дочка его, не привела в дом Лучку, Тришка держал на заимке двух работников. Потом они стали без надобности: столкнул всех баранов на руки Татьянке и Федоске. Максю в работники брать никак не хотел для чего лишние расходы? Пилил долго своего зятя за нерасчетливость, с тобой, мол, в корень разориться можно Лучка ему: «Не наговаривай, как на грыжу. Не глянется, что я делаю, отдели, сам по себе жить буду». Где же его отделит Тишка! Зять с сестрой и братишкой со всем хозяйством управляются. Сам-то за последние годы растолстел, обленился, корма коню дать не хочет, не только что… Моду взял по гостям ездить. Запряжет Пеганку и укатит, неделями дома не показывается. На Максю он до сей поры исподлобья смотрит. Приезжал сюда раза два и все бубнил себе под нос, к любой мелочи придирался.
За окнами зимовья стихли голоса Татьянки и Федоски, и показалось Максе, что телега колесами простучала. Опять, поди, черти принесли Трифона. Вот уж некстати. Макся поднялся на локте, глянул в окно. У крыльца распрягал коня Лучка, ему помогал Федоска. Обрадовался Макся. Поднял выше изголовье, чтобы все видно было. Услышав его возню, из-под нар выскочил ягненок, остановился, растопырив палочки-ноги, круглые глупые глаза его влажно поблескивали. Когда заскрипело крыльцо, ягненок стриганул под нары, затих там.
Лучка вошел с кожаной сумкой через плечо. Полушубок распахнут, из-под папахи во все стороны топырится растрепанный чуб, в бородке блестит соломинка. Весь он был какой-то на себя непохожий, бесшабашно-удалой, а когда заговорил, Макся понял: выпивши.
Ты что это хворать вздумал? Лучка поставил сумку на лавку, притронулся холодной рукой к Максиному лбу. Эк тебя разобрало! Но ничего, сейчас я тебя на ноги поставлю. Самогону приволок целую четверть. Он подмигнул Максе, засмеялся и, открыв дверь, крикнул: – Танюха, бросай все к дьяволу, ставь самовар.
– Ты с какой радости загулял? – спросил Макся.
– А что, только с радости гуляют? Поминки справляю, Максюха.
– Какие поминки?
– А вот, – Лучка взял сумку, выкинул из нее на стол петуха и двух куриц с окровавленными перьями, всю птицу тестеву перестрелял. – Ка-ак шарахну из дробовки… Перья по всему двору.
Лучка весело засмеялся, лихо тряхнул головой. Пришли Татьянка и Федос, и он заставил их теребить кур, сам ходил взад-вперед по зимовью, рассказывал:
– У меня собака была охотничья. Такая, Максюха, собака, каких не часто встретишь. На белку идет, на медведя, на кабана, утку из болота достанет. А у тещи курица потерялась, потом еще одна. Теща на собаку грех возвела и науськала тестя… Стеклом толченым накормили. Пропала собака. Тогда я взял ружье и давай ихних курей изничтожать. Всех до единой истребил. Теща и баба моя, как куры, вокруг меня прыгают, руками махают, кудахтают. Баба побежала в Совет, Лазурьку привела, арестовать меня хотели. Арестуй попробуй, если у меня ружье в руках. – Лучка сел на край нар. – Правильно я сделал?
– Правильно. Кровь за кровь…
– Смеешься. Эх ты…
– Он смеется, а тебе надо плакать, – сказала Татьянка. – Герой выискался. Смерть куриная!
Федоска, тощий, длинный, согнулся, фыркнул.
– Заржал! – накинулась на него Татьянка, шлепнула по кудой спине. – Убирайся отсюдова! И Лучке: – Зря тебя не посадили в тюрьму!
– Дай-ка мне ремень, я тебе по спине врежу, – сказал Лучка.
Из хомута, висевшего у порога, она выдернула супонь, протянула брату:
– На, врежь…. – Лицо серьезное, брови насуплены, а в больших глазах смех, но не веселый, смех сквозь слезы.
Лучка сложил супонь вдвое, накинул на шею Татьянке, потянул к себе, со вздохом сказал:
– Ты молодец у меня, сестренка. – Никогда не соврешь, всю правду выложишь. Только тут ты ошибаешься, маленькая моя. Смерть я верно. Но не куриная. Однако знать тебе про это не надо. Иди готовь скорее ужин. – Оттолкнув сестру, Лучка пропел ладонью по лицу, прищурился, вроде бы во что-то вглядываясь, судорожно дернул щекой.
– Знаешь, Максюха, я иной раз жалею, что в живых остался. Сколько добрых парней положили на войне…
Донельзя был удивлен всем этим Макся, ему-то казалось, что живет Лучка куда с добром: баба у него ни умом, ни красотой не обделенная, нищета горло не сдавливает что же еще надо?
– Глупости собираешь, слушать лихо! – сказал ему сердито.
– Может быть, может быть… – Лучка соскочил с нар, подошел к рукомойнику, умылся, намочил голову, причесался: смирный и скучный сел за стол.
– Убери, Федос, куриц, чтоб глаза мои не мозолили. Ты, Максюха, выпьешь? – Из сумки достал бутылку, зубами выдернул пробку-колышек.
– Иди, посиди со мной маленько.
– Что он насидит, когда весь ослабший! – воспротивилась Татьянка. – Не вставай, Максим, поесть тебе в постель подам.
– Видал-миндал, повеселиться не дает, – усмехнулся Лучка. – Эх, бабы, бабы, проклятье рода человеческого. Все беды на свете от баб, Максюха. А ты, Федос, на стаканы не поглядывай, отучишься рукавом нос вытирать, пожалуйста.
– Нужно очень! – вспыхнул Федоска. – Духу ее не выношу.
– Придет время вынесешь. И не то еще вынесешь, братка. – Отодвинув стаканы, Лучка опять подошел к Максе, сел,
сказал протрезвевшим голосом: – От прежних друзей один ты остался, Максюха. Другие отодвинулись.
– То на себя, то на других наговариваешь…
– Нет, Максюха, отодвинулись, вижу, какое ко мне отношение.
– Плохо смотришь. Оттого-то и мерещится…
– А что смотреть? Ковыряют своими разговорчиками мимо ушей пропускаю. Грешил: от зависти бормочут. Про себя думаю: подождите, я вас еще заставлю удивляться. Жил этой думой, радовался, а теперь ничего не осталось, на душе склизь одна.
Замолчал Лучка, прикусив короткий ус. Плыли за окном сумерки ясного вечера, из двора доносилось меканье козленка; в запечье тонко, будто на тальниковой свистульке, пел самовар. И Максе хотелось, чтобы спокойствие этого вечера, эта негромкая тишина вытеснили из Лучкиного сердца промозглость, чтоб говорил он о чем-то другом, говорил с ясной и теплой задумчивостью, как бывало там, у нежарких партизанских костров.
– Чем ты хотел удивить мужиков? Расскажи…
– Что рассказывать, Максюха? По нашим, мужицким, понятиям это вроде как блажь… Но кому что. Я, к примеру, до смерти люблю в земле копаться, пытать, что она может уродить. Чудное это дело, диковинное. Лучка помолчал, сел поудобнее. Ты видел, бабы наши для красоты в огородах под окнами киюшку выращивают? Попал я в теплые края, вижу, произрастает наша киюшка, только она в три раза больше и по-другому называется кукурузой. Там она солнце любит, землю влажную. Приехал домой, стал узнавать, откуда взялась киюшка в нашем стылом, засушливом крае. Прадеды в ссылку семена привезли, кормиться ею думали. Не получилось. Но совсем не забросили. То один, то другой в землю зерно кинет. И прижилась, приладилась киюшка к сухоте и ранним заморозкам. В росте, конечно, поубавила и зерна такого не дает, как кукуруза. Так ведь без догляду прижилась… А если с доглядом? Яблоки и другая разная фрукта тоже должна к нашей земле приладиться. Как ты думаешь?
– Не думал про это, врать не хочу.
– Ты не думал, другие и подавно. Жизнь ни к черту не годная у нас. Одно знаем: веру беречь. Доберегли! Со стороны посмотришь на семейского, он вроде той киюшки умом не вверх, а вниз двинулся, от земли еле поднимается.
– Тут ты загнул, Лука.
– Загнул? Пусть… Не дал ей бог крыльев, нашей семейщине. Оно, конечно, верно, что не до мудреной огородины многим, не до садов. А у кого в закромах не пусто, выгоду свою упустить боится. Мой тесть такой… Ему все чудное, непонятное нож вострый. Что ему сады, красоты на земле, была бы утроба набита.
– А а-а, ладно… – Лучка принес стаканы один полный, до краев, из него самогон плещется, другой до половины налит. Полный подал Максе: – Чебурахни все за раз, полегчает.
Максим с опаской примерился к стакану многовато, не стали бы хуже.
– Выпей, сказала Татьянка, все мужики так от простуды лечатся.
Она поставила на нары капусту, редьку тертую со сметаной, Хлеб, но Макся закусывать не стал. Не захотелось. От самогона по всему телу разлилось тепло, голова отяжелела. Без лишних церемоний Татьянка согнала брата с нар, поправила на Максе доху, укрыла его еще двумя полушубками, и он, обессилевший, распаренный, почти сразу же заснул.
Проснулся в окна бьет солнце и расстилает на полу косые квадраты света, в одном из них блаженно дремлет ягненок; в углу за столом пьет чай Лучка, напротив него, одетая, в кичке и кашемировом полушалке по плечам, полнолицая, необветренная Еленка, Лучкина супружница. Видать, только что вошла, бренчит монистами, полушалок развязывает и с осуждением смотрит на своего мужа. В зимовье, кроме них, никого нет, Татьянка и Федос, наверное, скотину кормят. Лучка дует на блюдце с чаем, спрашивает:
– Батька послал?
– Сама сдогадалась… А хоть бы и батя! – Елька сняла полушалок вместе с кашемириком, на груди желтыми огнями заиграли янтарные корольки, заискрились стекляшки бус. Шея у Еленки длинная, будто нарочно вытянутая, чтобы побольше монист нацепить. – Тебе надо повиниться перед батей и мамой.
– Это за кур ей-то?
– За курей и изгальство.
– Про какое изгальство говоришь?
– Ума пытаешь? – вскинула голову Елька. – На смех всей деревне выставил и еще спрашивает об чем-то!
– Ты не дергайся, Еленка, – Лучка осторожно поставил блюдце на стол. – Ты мне вот что скажи: как дальше жить будем?
– Ты об чем?
– Не могу я, Елька, больше. Хочу жить по своему разумению, батька твой пусть живет по своему.
– И что ты навалился на батьку, на маму? Они свой век доживают, а мы только начинаем…
– Потому-то, Елька, надо как-то все переиначивать. Не хочу я, чтоб моя жизнь была такой же, как у твоего батьки.
На белом Еленкином лице выгнулись и сошлись у переносья брови, удивленным, обиженным стало лицо.
– Дай бог всем так жить и столько нажить…
– Ты не пузырься, а послушай, что скажу. Я женился на тебе, а не на приданом. Если хочешь жить по-человечески уйдем.
– Да ты что! Еленка вцепилась обеими руками в нитки бус. Ты что это выдумал! Куда мы уйдем от хозяйства такого? Оно нашим будет. Наше оно, твое и мое!
– Наше?
– Конечно, наше.
– И я могу им распоряжаться, как захочу?
– Конечно, Лукаша, ты хозяин. От века так хозяин домом правит.
– Как ни поверну, будешь согласна?
– Зачем спрашиваешь? Заранее согласна.
– Вот и брешешь, Еленка. Коммуна будет первым в нее пойду и все хозяйство сдам. Что скажешь? Запоешь другим голосом, а батю твоего разом кондрашка хватит.
– За что казнишь меня, бессовестный?
– Не казню, Еленка, понять ты меня должна.
– Поняла… Нету сердца у тебя! – Еленка всхлипнула, закрыла лицо руками.
Лучка навалился на кромку стола грудью, хмурясь, взялся водить пальцем по пустому блюдцу.
Неловко было Максе слушать весь этот разговор и притворяться дальше, что спит, становилось просто невозможно повернулся, громко, протяжно зевнул. Еленка быстренько вытерла ладонями слезы, улыбнулась.
– Здоровенько, Максим!
А Лучка все продолжал писать пальцем на блюдце, Еленка его за рукав тронула, попросила: – Собирайся, поедем.
Уже одетый, Лучка подошел к Максе, постоял молча, вроде как не решаясь что-то сказать, подал руку.
– Поправляйся…
Ничего к этому не добавил. Вышли друг за другом Лучка впереди, Еленка за ним. В руках у Еленки бич. И Максе показалось вдруг, что этим бичом она будет подстегивать своего мужика всю дорогу, чтобы в сторону не сворачивал. Бедный Лука, тоже сбился с панталыку. Будь на его месте кто другой, Корнюха, к примеру, жил бы припеваючи. А может, и нет. Сам-то он, Макся, попади в такой дом, радовался бы? Пожалуй, нет. Конечно, нет! Это что же получается? Царя и всех его выкормышей, солдатню разных держав вымели из страны, а Тришка, тесть Лучки, Пискун, хозяин Корнюхи, раньше миром правили и сейчас правят. Раньше на них спину гнули за кусок хлеба, и сейчас гнут. Хотя бы и он сам. Рад-радехонек, что Тришка не гонит с заимки. Красный партизан, завоеватель новой жизни! Э-эх!
6
Игнат собрался ужинать, когда звякнули ворота. Он подошел К окну. Во двор вводил подседланную лошадь какой-то бурят.
Привязав лошадь, гость, обходя лужи с красными отблесками закатного солнца, направился в зимовье. Игнат встретил его у порога и тут, вглядываясь в лицо, от удивления рот открыл.
– Бато?
Бурят сверкнул белыми зубами, засмеялся, отчего его узкие глаза будто и вовсе зажмурились.
– Я, Игнат.
– Откуда ты взялся, Батоха?
– А тут, рядом, в улусе Хадагта живу.
– Чудеса, да и только! Нам мужики сказывали, будто ты богу душу отдал.
– Не, японцы тут дырку провертели, – Бато показал чуть ниже правого плеча, – а ничего, заросло.
Рассказывая, Бато снял шубу, буденовку. Голова его была острижена наголо, и от этого лицо казалось еще более скуластым. Игнат начал было доставать из столешницы еще одну ложку, для Бато, и тут вспомнил: Батоха нехристь, чужая, поганая у него вера. Нельзя его кормить за общим столом, под образом бога, из общей посуды. А посадить отдельно обидится. Как ему не обижаться: были в партизанах ели из одного котелка, кусок хлеба пополам разламывали, мерзли в одном сугробе, грелись у одного костра. Война отодвинула различие в вере, в обычаях. Но то война. А как поступить сейчас?
Не слушая больше, что говорит Бато, Игнат бесцельно перебирал деревянные, с обкусанными краями ложки. Бато присел на лавку, глянул на него, замолчал, потом смущенно попросил:
– Давай другой посудка.
По ломаному выговору, по смущению Игнат понял, что Бато обо всем догадался. Махнул рукой:
– Садись, чего там!
И все же разговор за столом плохо ладился. Помутнела радость встречи, пропала куда-то душевная близость. Игнат пожалел, что нет дома Корнюхи. Тот старые обычаи ни во что не ставит, совсем обасурманился, и с ним Батоха ничего бы такого не почуял. Хотя… Батоха понятливый, завсегда моментом отзывался на доброе и худое. Просто даже жалко, что такой славный человек, а нехристь.
Поужинали торопливо, будто на пожар спешили.
– Ночевать будешь? – спросил Игнат.
– Поеду. Близко тут. Прошлым годом это место жить стал, у вашего батьки гостевал. Помер он? И мой батька помер. Давно уже. Дырку залечивали мне, тогда помер, а мать недавно померла. Тут дядя живет. К нему с сестрой кочевал.
Понемногу Бато разговорился. В улусе, сказывал, тоже ждут люди перемен, по-разному ждут: есть радуются, есть боятся.
– Ты как, не боишься?
– Я чужой скот пасу. У кого стадо больше, тот боится. Оно так… Но ить, Батоха, стариной попуститься надо, всем, чем отцы наши жили. Не жалко? Первым делом, верой…
– Что мне вера давала? Ничего мне вера не давала, я не лама! – быстро заговорил Бато. – Кто лама, тому шибко плохо…
Уклончиво, невразумительно ответил ему Игнат:
– Оно, конечно, потому как вера ваша не настоящая.
– Зачем такой стал? – с удивлением и укором спросил Бато. – Совсем другой человек был. Эх-хе, Игнат, пропадать будешь, погубить себя будешь! Не надо… Солнце греет, степь широкая живи!
Узенькие глаза Бато светились участием, и Игнат закряхтел, потупился, угрюмо обронил:
– Никак жалеть вздумал… Давай говорить про другое.
Проводил Бато за ворота, подал руку.
– Забегай, когда тут будешь.
Дома, убирая со стола, повертел в руках стакан, тот, из которого пил Бато, поставил на место. По доброму-то стакан надо было выкинуть, он теперь вроде как опоганенный, грех из него пить верующему. Но разве меньший грех принимать человека как друга, сидеть с ним за одним столом, а потом, едва он за порог, выкидывать в помойку все, что от него осталось, все, к чему прикоснулись его руки? Отчего так верой установлено, что ежели ты не семейский поганый? Неужели на всем белом свете, среди тьмы всякого народа, одни семейские отмечены перстом божьим, одни они чисты?
Так и не решил, что сделать со стаканом Батохи, так и не убрал со стола. Как в теплую затхлую воду, погрузился в свои думы, вновь вспомнил похороны отца, свежую могилу его, вмиг присыпанную снегом и ставшую, как все другие. Что же такое есть человек? Многие теперь говорят: бога нет, души нет. Для чего тогда жизнь?
На дворе стемнело. В избах зажглись огни. Хлопали ставни окон, запираемых на ночь, скрипели ворота, сонно взлаивали собаки. Игнату стало ясно, что Настя сегодня не придет. Одному сидеть в пустой избе тягостно, а пойти, считай, некуда. Но почему ни разу не сходил к уставщику? Уж он-то все о вере знает. Можно прямо сейчас к нему…
Уставщика застал за вечерним чаепитием. В исподней рубахе, с рушником на шее, разомлевший, сидел он у медного самовара, тянул чай маленькими глоточками, тяжело пыхтел.
– Ты чего ко мне, по делу? – прогудел Ферапонт.
– Как сказать… Вроде бы и не по делу…
– Сейчас, сынок, приходят ко мне только для того, чтобы попросить что-то.
– Трудно живется людям, Ферапонт Маркелыч…
– Трудно, ох, трудно, вздохнул Ферапонт. Ну да вам-то что, сами все сбаламутили. Радуетесь, должно?
– Чему радоваться-то?
– Чего же не радоваться… Стариков можно теперь ни во что не ставить, меня, пастыря духовного, стороной обегать. Кругом слобода. На все ноги расковались, а только худо все кончится, сынок. Без подков, сам знаешь, чуть ступил на гололед брык набок.
Не попреки и жалобы хотел услышать Игнат от Ферапонта, совсем за другим к нему шел. Помрачнел.
– Говоришь так, будто я во всем виноват.
– Не ты один. Но и ты. Все обольшевичились! – Ферапонт стянул с шеи полотенце, скомкал, бросил на лавку. – Дух свой унизили, чрево возвысили.
– А может, люди не виноваты в этом? Большие сумления в вере есть, кто на них ответит, распрояснит?
– Для истинно верующего не может быть никаких сумлений, а чуть пошатнулся, лукавый тут как тут. Зачнет сомущать на каждом шагу. Только истинно верующему не страшны ни люди-греховодники, ни козни нечестивого. А веру крепит молитва.
– Не всегда молитва поможет. Например, так… Бог запрещает человеку даже бессловесную скотину зря обижать. А мы людей другой веры презрением оскорбляем, есть с ним за одним столом гнушаемся. Это от бога или люди выдумали?
Ферапонт моргнул глазами так, словно их запорошило, придвинулся ближе к Игнату, спросил:
– А сам как думаешь? Игнат помолчал, сказал твердо:
– Не от бога это. От людей, от недомыслия.
– Хм, от людей, говоришь, – Ферапонт был, кажется, в затруднении, поскреб ногтем в бороде. – От людей… Не с того конца веревку тянешь, сынок. И не ты один так. Многие теперь на жизнь смотрят с одного бока, одно на уме имеют утробу свою насытить. Все помыслы к тому сводят, всю силу рук и ума на это кладут. Но оглянись на дело рук человеческих, и ты узришь, как все обманчиво, – голос Ферапонта отвердел, загудел густо и ровно. – Все, чего мы на этом свете добиваемся, чему радуемся, прах и тлен.
Игнат молча кивал. Он давно сам до этого додумался, ничего нового не открыл Ферапонт, но то, что уставщик мыслил сходно с ним, радовало, располагало к доверию.
– Только душа человека нетленна, бессмертна. Заметь, только душа. – Ферапонт поднял толстый, в рыжих волосинках палец, ткнул им, будто хотел вдавить свою мысль в наморщенный лоб Игната.
И о бессмертии души Игнат, конечно, знал без Ферапонта. Но верил ли? Сейчас, вслушиваясь в густой голос уставщика, он ощущал, как исчезает зыбкость мысли и все становится четким, определенным. Суть человека душа его. Тело одежда души. Обветшала одежда господь освобождает от нее, и предстанешь ты перед судом голеньким, нечем прикрыть ни пустоту, ни язвы, ни пороки.
А Ферапонт увлекся, заговорил нараспев:
– Твори дела, угодные богу, снимай грехи постом и молитвой, и будет твоя душа чиста, аки у младенца…
– А какие дела угодны богу? – остановил его Игнат.
– В писании сказано: не убий, не укради, не пожелай жены ближнего своего, ни осла его…
– Я так понимаю: делай людям добро и ты будешь чист перед богом? Верно я понимаю?
– Верно, сынок. Зло, причиненное другому, ущерб твоей душе.
Больше Игнат ни о чем спрашивать не стал, заторопился домой: боялся, не смутил бы вновь Ферапонт мысли каким неловким словом.
Дома зажег лампу, помыл стакан Бато и поставил вместе со всеми. Ни Ферапонт, ни другие старики, в вере твердые, не одобрили бы этого, но он теперь знал: делает правильно. Перед всевышним каждый отвечает за свою душу сам, и никто не вправе возвышать себя над другими, мнить себя лучше и чище. Какая у него вера не твое, а богово дело. Твое дело, если хочешь жить в ладу с богом и своей совестью, относиться к любому человеку так, как относятся к тебе твои близкие.
Но тут он вспомнил о споре с Корнюхой и вновь пожалел, что не сдержался тогда, ожесточил его своей руганью. Совсем отдалился Корнюха, приезжает с заимки редко, а приедет трех слов не скажет, повернется и был таков.








