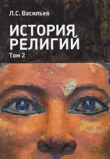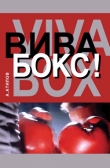Текст книги "В ПОИСКАХ МОРАЛЬНОГО АБСОЛЮТА Сравнительный анализ этических систем"
Автор книги: Ирвин Латцер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Оценивая «всеобщее благо»
Предположим, что две футбольные команды решили отказаться от всех правил игры и руководствоваться абсолютом, который можно назвать «справедливая игра». Скажем, они определили «справедливую игру» как ту, что приносит «большее счастье для большинства участников». Здравомыслящий человек понимает, что в подобную игру играть нельзя уже по той причине, что во-первых, никто не в состоянии подсчитать «наибольшее счастье для большинства участников». Более того, это правило слишком общее и не дает конкретных указаний на то, как в нее играть.
В таком случае вопрос встает следующим образом: может ли общее правило любви дать больше конкретных указаний в жизни, чем правила «справедливой игры» в иллюстрации с футболом, или оба они равно бесполезны в принятии решения? Мы должны всегда помнить утверждение Флетчера: «Для ситуационалиста не существует вообще никаких правил»[20]20
Ibid., p. 55.
[Закрыть].
В основе критики ситуационной этики лежит простое утверждение: любовь, как ее изображает Флетчер, не может предоставить никакого руководства в процессе принятия решения. По какой причине? По той, что каждый человек может иметь различные мнения о том, что в данной ситуации делается по любви, а что нет. Например, некоторые считают, то капитализм является наилучшей социально-экономической системой для Америки, в то время, как другие считают, что самая лучшая система – это коммунизм. Кто-то считает, что самые лучшие сексуальные отношения могут быть внутри брака, другие уверены, что для секса необходима перемена партнеров. Кто-то считает, что убийство детей-уродов – акт любви, другие же считают подобное действие грубым нарушением законного права на жизнь, которым обладает даже ребенок с аномалиями. Такие примеры можно приводить бесконечно.
Без этического содержания любовь становится бессмысленной. Руководствуясь любовью, мы принимает решения, которые основываются на определенных ценностях. Никто не свободен от ценностей, и никто не любит, прежде не оценив свой выбор. Любовь без правил (или некое всеми признанное определение) не может оказать никакой помощи для принятия даже одного нравственного решения. Комментируя некоторые нравственные суждения Флетчера, Лоренс Ричардс пришет: «Для Флетчера временное прелюбодеяние предпочтительнее постоянного целомудрия, аборты предпочтительнее тому риску, которому подвергается женщина во время родов. Когда принимается подобная оценка ценностей, любовь может потребовать принятия определенного решения. Но отнюдь не на основе любви строилась та первоначальная оценка! Оценивая и взвешивая факты, которые в ситуации были и должны быть приоритетными, мы тем самым принимаем принцип любви»[21]21
Lawrence Richards, «To Do the Loving Thing Manward,» Action (Spring 1968), p. 23.
[Закрыть].
Л. Ричардс указывает на то, что взгляды Флетчера основываются на его собственной предвзятой системе ценностей. В системе Флетчера любовь не позволяет выносить суждения о какой-то особой ситуации. Подумайте о законническом утверждении: «Нежеланный и незапланированный ребенок никогда не должен родиться»[22]22
Situation Ethics, p. 39.
[Закрыть]. Флетчер выносит оценку сам, вне контекста конкретной ситуации (т.е. состоит ли беременная женщина в браке или одинока, невзирая на срок беременности или на то, хочет или нет этого ребенка отец). Это показывает, что для ситуационалиста этическое решение принимается не в контексте любви, не в контексте ситуации. Скорее оно принимается по внушению законнических предписаний.
Флетчер считает, что Бог наделяет любовью всех людей, включая марксистов и атеистов, а потому все их деяния должны рассматриваться с точки зрения ситуационной этики. В пример он приводит Вьет Конга – террориста, который вошел в офицерскую столовую в Сайгоне и взорвал бомбу, спрятанную у него под пальто. Флетчер говорит об этом как об образце бескорыстной заботы о других[23]23
Ibid., p. 110.
[Закрыть]. Для него террорист Вьет Конг сделал (с точки зрения любви) самое лучшее дело для своей системы ценностей. Прежде чем перейти к критическому разбору данной теории, рассмотрим один пример, взятый из трудов Флетчера. Во время Второй мировой войны один священник пустил под откос товарный состав нацистов. В ответ на это фашисты заявили, что будут ежедневно убивать по двадцать человек до тех пор, пока им не будет выдан виновник этой акции. Прошло три дня, и коммунисты нашли и выдали нацистам несчастного священника. Когда того спросили, почему он не пришел сам, священник ответил:«В нашем городке не осталось больше ни одного священника, и я нужен был людям, чтобы они могли получить вечное спасение»[24]24
Ibid., p. 115.
[Закрыть].
Можно было бы ожидать, что Флетчер оценит действия священника как идущие вразрез с принципами наибольшей любви. Но Флетчер утверждает:«Одних может устраивать обоснованность посылки священника относительно спасения, других – нет (коммунистов, по всей видимости, эта посылка не устраивала), но ни один ситуационалист не может не согласиться с методом этического анализа этого священника и с принятым на основе данного метода решением»[25]25
Ibid., pp. 115-16.
[Закрыть]. Итак, с точки зрения системы ценностей, которую исповедовал этот священник, он поступил по наибольшей любви. Но коммунисты считали, что наибольшей любовью в данном случае будет для него остановить гибель ни в чем не повинных людей. И так как у коммунистов и у священника были разные системы ценностей, то и этические решения они приняли, соответственно, разные. Эта иллюстрация с ужасающей ясностью показывает всю проблематичность ситуационализма. Где та шкала, по которой можно было бы измерить все эти относительные ценности?
Флетчер не мог не сознавать, что его философия не дает людям никакой опоры в поисках этического решения. Поэтому одна из его книг, называющаяся«Моральная ответственность», была написана с целью рассмотрения возможности практического применения его системы. В этой книге он предлагает много личных моральных суждений, но даже и не пытается объяснить, почему же он избрал именно эти суждения. Все более и более мы убеждаемся в том, что любовь в отрыве от сопровождающей ее системы ценностей, не может служить надежным путеводителям в густых дебрях этических решений. Сказать кому-то, чтобы он делал то, что исходит из наибольшей любви – значит сказать очень мало или вообще ничего не сказать. Люди подходят к решению этических проблем исходя из уже имеющейся у них системы ценностей, делая то, что с их точки зрения будет актом любви.
Если этика – это все же предписывающая наука, наука, говорящая людям о том, как надо жить, то новая мораль находится в плачевном состоянии. Рамсей сформулировал это следующим образом:«Там, где все может расцениваться как любовь, нет настоящей любви»[26]26
Paul Ramsey, Deeds and Rules in Christian Ethics (New York: Scribmer's, 1967), p. 190.
[Закрыть].
Мораль, основанная на последствиях
Продолжая критически оценивать ситуационализм мы увидим еще одно его слабое место, а именно: если мораль основана на последствиях, мы должны будем уметь предсказать эти последствия, если хотим знать, поступаем ли мы морально или нет. Давайте предположим, что у нас имеется детально разработанная система ценностей. В прошлом остались все философские и теологические дебаты, было достигнуто соглашение по основным вопросам, и Флетчер разработал детальную систему конечных ценностей. Ситуационализм и в этом случае будет неспособен дать сколько-нибудь приемлемое моральное направление, потому что никогда невозможно бывает предсказать все последствия того или иного деяния. Другими словами, никогда нельзя быть уверенным в том, что делая то или иное, вы в конце концов добьетесь желаемого результата.
Флетчер откровенно признается, что«мы не всегда можем предвидеть будущее, хотя всегда должны пытаться сделать это»[27]27
Situation Ethics, p. 136.
[Закрыть]. Однако, согласно Флетчеру, если желаемый результат остается недостигнутым, то действие становится аморальным. Сам Флетчер утверждает, что«ничто не может быть правильным, если это никому не помогло»[28]28
Moral Responsibility, p. 32.
[Закрыть]. Другими словами, мы должны быть уверены, что наши поступки приведут к желаемым результатам; в противном случае наши действия будут расценены как плохие. Христианин, согласно Фостеру, должен являться совершенным компьютером, способным на сложнейшие исчисления.
Классической попыткой найти основу для предсказания последствий моральных поступков (и тем самым определить приемлемость того или иного деяния) явилось учреждение«фонда опыта человечества»[29]29
John Stuart Mill, Utilitarianism (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1957), chapter 2.
[Закрыть]. Этот фонд стремится к тому, чтобы исследуя прошлый опыт человечества определять последствия тех или иных действий (эти последствия измеряются тем счастьем, которое они принесли). Этот фонд претендует на установление нормативной основы для предсказания будущих последствий. Однако, подобная нормативная«основа на самом деле в первую очередь нуждается в том, чтобы уметь различать между добром и злом, что в свою очередь требует наличия системы ценностей, независимой от опыта. И здесь утилитаристы (такие, как Флетчер) не могут прибегать к последствиям как к критерию, так как это не более, чем замкнутый круг аргументов: критерии для предсказаний последствий можно найти в фонде, в то самое время, как критерии для фонда определяются последствиями.
Теперь мы ясно можем видеть те трудности, с которыми сталкиваются утилитаристы в попытках создания относительной системы ценностей. В конечном счете для того, чтобы быть действенной, сравнительная система ценностей должна черпать свое начало в абсолютной системе ценностей. Но это как раз то, с чем никак не могут согласиться утилитаристы.
Более того, представьте себе, как трудно даже пытаться определить все косвенные последствия того или иного деяния. А это необходимо будет делать для того, чтобы определить наибольшее счастье для наибольшего числа людей.
И последним нашим замечанием относительно утилитаристов и попыток предсказать последствия будет следующее: на основании чего утилитаристы могут утверждать, что прежний опыт человечества непременно должен оставаться приемлемым и сегодня? Считает ли этот фонд, что последствия всегда являются одинаковыми? Или он только лишь предполагает это? Если это всего-навсего предположение, то может ли оно служить основой для создания нормативной базы? Конечно же нет, если только не прибегнуть к абсолютным критериям. Но самое страшное в подобной системе заключается в том, что под«абсолютными критериями» в конечном счете кроются предвзятые, субъективные мнения утилитаристов; а в этом, как уже было отмечено, они сами не хотят себе признаться. А если бы и хотели, то их спорные мнения вряд ли способны дать человечеству адекватные критерии для определения этических ценностей.
Точные вычисления
Пуэрториканкская женщине, проживающая в Восточном Харлеме, завела дружбу с женатым мужчиной в надежде, что у нее будет от него ребенок. Ее надежда исполнилась, и она стала матерью. Когда служитель сказал ей, что она должна покаяться перед Богом за свой грех, она воскликнула:«Каяться? Но мне не в чем каяться! Я умоляла Бога дать мне ребеночка. Он – Божий дар».
Вердикт Флетчера однозначен:«Она права»[30]30
Moral Responsibility, p. 32.
[Закрыть]. Однако он никак не объясняет, на основании чего он так заключил. К тому же совершенно очевидно, что в данном случае никак нельзя вычислить все возможные последствия разбираемого нами поступка.
Отец ребенка состоял в браке с другой женщиной. Каковы будут последствия этой любовной связи, когда его жена обо всем узнает? Поможет ли это их браку? Не разрушит ли его? Если у них есть дети, то как скажется на них измена отца? Как быть с теми духовными и психологическими последствиями, с которыми сталкивается человек, нарушивший брачную клятву? Это лишь немногие из тех вопросов, на которые должен ответить Флетчер прежде чем он сможет назвать поступок этой женщины верным или неверным. По всей видимости он вынес свой вердикт совершенно независимо от данной конкретной ситуации. Флетчер никак не мог тщательно взвесить все последствия этого действия. Очевидно, произвести вычисления последствий перед совершением морального выбора еще более сложно.
Несостоятельность попыток этического предсказания может быть показана на примере трудов Бентхема, который пытался строить моральные решения исходя из математических вычислений. Но даже самое простое этическое решение нельзя принять опираясь на такой метод.
Предположим, человек стоит перед выбором: солгать или не солгать своему начальнику. Если он не солжет, каковы будут последствия его честности. Он может найти лучшую работу с лучшей платой, но вполне возможно, ему достанется и худшая работа или, что еще хуже, он останется вообще без работы. Может ли он угадать, какое будущее ожидает его?
С другой стороны, что станется, если он солжет? Опять перед ним встают неразрешимые вопросы. Если его начальник узнает, что он солгал, расскажет ли он об этом другим сотрудникам? И если«да», как они отреагируют на это? Как, в процессе принятия решения, правильно взвесить все вытекающие из действия последствия?
Флетчера по всей видимости не очень-то беспокоят все эти математические расчеты. Он верит, что«с развитием компьютерной техники перед нами откроются огромные возможности анализа этических решений»[31]31
Situation Ethics, p. 117.
[Закрыть]. Однако не только с компьютерами связываются надежды на предсказания будущего (до сих пор такие попытки так толком ни к чему и не привели); предполагается, что в будущем появятся новые возможности исчислять мораль. Флетчер размышляет следующим образом:«Вполне возможно, что научившись придавать численные значения тем понятиям, которые связаны с совестью человека, мы сможем достичь большой точности в вычислениях любви»[32]32
Ibid., p. 118.
[Закрыть]. Однако сегодня такие вычисления невозможны. В настоящее время никто не может быть уверен в том, что принимает моральное решение, да и не слишком многие имеют еще доступ к компьютеру (за исключением, разумеется, того, который находится у нас в голове). Таким образом моральная жизнь сегодня невозможна.
В главе шестой мы еще вернемся к ситуационной этике, чтобы продемонстрировать ее логическую непоследовательность. Но уже и того критического рассмотрения, которое было проделано в данной главе, вполне достаточно, чтобы показать, что ситуационализм не способен дать удовлетворительного ответа на вопрос, по каким критериям должно оцениваться моральное действие. Без четко определенных критериев мораль скатывается до уровня личностных человеческих предпочтений.
Глава четвертая. Бихевиоризм
Этическая система, наиболее последовательно придерживающаяся основных принципов натурализма, называется бихевиоризмом. Бихевиоризм основан на предпосылках и занимается объяснением тех идей, согласно которым генетический фактор и фактор окружающей среды являются единственными мерилами моральных ценностей.
Центральная статья журнала «Тайм»[33]33
Time, 1 August, 1977.
[Закрыть] была посвящена современной теории поведения, названной социобиологией. Говоря об этой теории вкратце, можно отметить, что она рассматривает мораль в прямой зависимости от генов. Согласно данной теории, все формы жизни существуют только для того, чтобы служить потребностям, заложенным в коде молекул ДНК. Сохранение генов личности, согласно социобиологии, является основной причиной для существования индивидуума и главным фактором, определяющим его поведение.
Придерживающиеся этой теории считают, что эволюция произвела на свет организмы, которые автоматически следуют математической логике: эти организмы, включая человеческие существа, высчитывают генетическую ценность или полезность тех, чей набор генов близок к их собственному. Таким образом все деяния человека – даже кажущиеся альтруистическими поступки, такие, как спасение незнакомого утопающего – по своей природе сугубо эгоистичны. Социобиология, к примеру, рассматривает конфликт между родителями и детьми как биологически неизбежный. Фактически, в свете этой теории, все поступки человека зависят от его генетического кода. Роберт Триверз, биолог из Гарвардского университета, предсказывает: «Рано или поздно политология, законоведение, экономика, философия, психиатрия и антропология превратятся в ветви единой науки – социобиологии»[34]34
Ibid., p. 54.
[Закрыть].
Фундаментальный вопрос, который возникает с точки зрения этики при рассматривании данной проблемы, состоит в следующем: что делает тот или иной поступок хорошим или дурным? Социобиология отвечает: то, что диктуют гены.
Предмет этой главы намного шире, чем рассмотрение одной только социобиологии. Эта новая дисциплина в свою очередь является частью теории бихевиоризма. Бихевиоризм учит, что все наши поступки прямо вытекают из нашего генетического кода, либо нашего окружения. Ученые-бихевиористы, такие как Б. Скиннер, считают, что наши поступки предопределены нашим окружением; социобоилогисты учат, что действия обусловлены генетическим кодом. В любом случае, не существует объективных моральных стандартов, согласно которым эти действия могли бы быть оценены. Никто не может нести ответственности за свое поведение; наше окружение и наши гены во всем виновны, конечно, если слово «виновны» здесь вообще уместно.
Для того, чтобы понять причины возникновения бихевиоризма и его ответвлений, мы должны поместить бихевиоризм в его философский и исторический контекст. Предпосылки этой теории коренятся в возрастающем неуважении к человеческой жизни в современном обществе. Аборты, эутоназии получают все большее распространение. Подобные перемены в мышлении, невозможные даже два десятка лет назад, проистекают из гуманистического взгляда на человека, ставшего образцом при создании теории бихевиоризма. Влияние же этой теории на этику невозможно переоценить.
Исторически, бихевиоризм возник из натурализма, который являлся частью концепции девятнадцатого века о механистической вселенной, а также из неразрешенных конфликтов в предыдущих взглядах на человека. Для того, чтобы понять натуралистически-бихевиористский взгляд на мир, мы должны пролистать страницы истории мировой философии, которая и породила его.
Дуализм
Платон верил в существование двух принципиальных субстанций: материи и разума (души). Для него казалось очевидным, что те идеи, которые родятся в разуме, не могут являться всего лишь материей. Материя всегда обособлена и индивидуальна; идеи же могут быть абстрактны и универсальны. Так как материя постоянно находится в процессе своего преображения, изменения, Платон верил, что она занимает по отношению к разуму зависимое положение. Для Платона, таким образом, разум был исключительно духовной субстанцией.
Другой философ, Декарт, соглашался с Платоном в том, что во вселенной существуют две независимые субстанции. Он, однако, утверждал, что материя и разум (дух) столь различны, что между ними нет ничего общего. Таким образом, разум не может оказывать влияние на материю, равно как и материя – на разум. Он считал, что человек наделен обоими этими субстанциями. Согласно Декарту, тело состоит из материи, разум же – духовная субстанция.
Это привело к тому, что называют проблемой разума и тела. Философы задаются вопросом: если разум и тело не могут взаимодействовать, как объяснить тот факт, что разум все-таки оказывает свое влияние на тело, а тело – на разум? В конце концов мы можем предпочесть ходить по комнате взад и вперед стоянию на месте, потому что мы руководствуемся при этом той или иной идеей. Декарт предпринимал, однако, попытки доказать свою последовательность, но его взгляды не были приняты широким кругом философов.
Декарт столкнулся и с другой проблемой: он жил в то время, когда Ньютон только что открыл закон земного притяжения – гравитации. Посредством своих наблюдений и математических подсчетов, Ньютон обнаружил, что все земные тела (как и сами планеты) управляются одними и теми же, очевидно, непреложными законами, под действие которых попадают все материальные объекты. Ни одна частица вещества не может прийти в движение, если не подвергнется воздействию физических сил, и при таком воздействии она будет строго подчиняться четко определенным принципам механики. Ученые стали рассматривать вселенную как хорошо отлаженный часовой механизм, в котором движение каждой молекулы может быть предсказуемо. Таким образом каждое действие приводило к равному противодействию, и вся вселенная представлялась взаимозависимым механизмом. Детерминизм, вера в то, что все происходящее в природе является неизбежным благодаря причинно-следственной связи, получил, таким образом, широкое распространение.
Декарт, а позднее Кант, считали: если движение материи осуществляется благодаря причинно-следственным законам, следовательно человеческое тело должно также являться субъектом, на который воздействуют законы, подобные тем, что заставляют падать яблоко и кружиться планеты. Из этого со всей очевидностью вытекало, что наши физические действия предопределены, и мы не имеем свободы над движениями наших тел. Хотя Декарт и Кант видели разное решение этой проблемы, оба они считали, что человеческий разум (душа) остается свободной и не является субъектом механического детерминизма. Но они утверждали и то, что тело управляемо силами гравитации. Необходимо сказать, что не было найдено легкого вывода, который бы объяснял, каким образом разум может оставаться свободными в то время как наши тела запрограммированы непреодолимыми физическими законами.
Обобщая, можно сказать, что ни Декарт, ни Кант не дали ответа во-первых на то, как духовная субстанция (разум) может влиять на тело, а во-вторых, каким образом разум может оставаться свободным в то время, когда движения тела предопределены причинными законами[35]35
Полную дискуссию о проблеме разума и тела см.: Arthur C. Custance, The Mysterious Matter of Mind (Grand Rapids: Zondervan/Probe, 1980). Полную дискуссию о человеческой природе см.: Mark P. Consgrove, The Essence of Human Nature (Grand Rapids: Zondervan/Probe, 1977).
[Закрыть].
Некоторые философы считают, что легче верить лишь в одну субстанцию во вселенной: материю. В свете их подхода проблема разум-тело просто сама собою снимается, так как то, что носит название «разум» на самом деле является продуктом физических и химических реакций. Таким образом, вся вселенная (включая человечество) является ни чем иным, как сложным, запутанным механизмом. Такое видение вселенной и человечества ставит нас перед вопросом: есть ли вообще место этике в такой материалистичной вселенной?