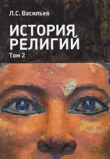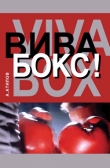Текст книги "В ПОИСКАХ МОРАЛЬНОГО АБСОЛЮТА Сравнительный анализ этических систем"
Автор книги: Ирвин Латцер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)
Эволюционная этика
Антони Флу, автор труда «Эволюционная этика», суммирует главный ее взгляд: все моральные нормы, все идеалы родились в мире, и поскольку в прошлом они являлись объектом, подверженным измененям, очевидно и в будущем они также будут изменяться в лучшую или худшую сторону[6]6
Anthony Flew, Evolutionary Ethics (New York: St. Martin's Press, 1968), p. 55.
[Закрыть]. Он развил этот тезис, отрицая существование любого постороннего или сверхъестественного авторитета в вопросе нравственных ценностей, но в то же самое время он возвышает первостепенность и авторитет систем ценностей. Для А. Флу «мораль укоренена в человеческих потребностях и наклонностях»[7]7
Ibid., p. 57-8.
[Закрыть]. Тем не менее, теория А. Флу не может полностью объяснить происхождение, природу и основу морали. Что касается происхождения морали, то попытки А. Флу объяснить ее выливаются просто в утверждение, что мораль родилась в этом мире и постоянно изменяется. Но тогда откуда появилась самая первая нравственная ценность? В конечном итоге должен же быть тот момент времени, в который эта ценность стала ценностью из неценности. Не беря во внимание никакого сверхъестественного «Творца первой ценности», как Флу и поступает, ему приходиться напрягаться в попытке добраться к тому, «как должно быть» от того, как есть. Для того, чтобы оказаться в состоянии сделать заявление о любой предписываемой ценности в морали эволюционной этики, А. Флу должен соединить разрыв между тем, «что есть» и «что должно быть», объясняя происхождение первой ценности.
Эволюционная этика также встречается с проблемой определения природы ценности. Заявление, что это важно, что природа ценности явилась постоянно меняющейся и прогрессирующей теорией этики (по Флу) делает натяжку утверждая, что одна ценность изменяет другие ценности. Вопрос тогда ставится так: является ли это на самом деле изменением ценности?
Если ответ на этот вопрос «нет», тогда и ценности тоже не должны меняться. И несмотря на их собственное утверждение, приверженцы эволюционной этики не имеют права выступать против неизменных ценностей, абсолютов. Если ценность, изменяющая ценности, сама по себе неизменна, как эта теория и заявляет, тогда неизменная ценность изменяет все ценности и развивается. Другими словами, эта теория допускает по крайней мере одну неизменную ценность! Таким образом представители эволюционной этики неизбежно противоречат сами себе в своем определении природы ценности.
Что касается основы морали, мы еще раньше заметили, что А. Флу описывает нравственность, как укорененную в человеческих нуждах и наклонностях. Он объясняет, что человечество обрело значительность, став частью природы, «которая стала сознательной, обрела способность любить, понимание и устремление»[8]8
Ibid., p. 60.
[Закрыть]. Этим он заключает, что любовь и понимание являются человеческими потребностями.
Но являются ли эти потребности неизменными? Если так, то они являются абсолютной основой для нравственности, тем самым противореча главному постулату эволюционной этики. Если, с другой стороны, неизменные человеческие потребности не существуют, тогда критерии А. Флу теряют свой смысл. Согласно его тезисам, мы можем развиться до положения, когда мы не будем иметь никакого представления или даже способности любить и понимать. Итак, может наступить время, когда мы перестанем относиться к другой личности с уважением.
Нечто подобное происходит с любой научно обоснованной этической системой: имея в наличии реально существующую ценность, она не может объяснить ее происхождение, ее природу и основу.
Таким образом, представители подобных этических систем становятся перед такой же дилеммой, как и представители культурного релятивизма, оказывающиеся заложниками своих же субъективных стандартов. Эволюционная этика зависима от научной теории, как и культурный релятивизм от субъективизма культуры. Но ни там и ни там нет достаточных и жизнеспособных нравственных критериев.
«Становятся» ли поступки правильными?
Если культурное восприятие и является тем, что определяет стандарты верного и неверного, мы оказываемся не в состоянии осуждать даже такие вопиющие злодейства, как гитлеровский нацизм. Доказывая, что уничтожение Гитлером евреев находит свое оправдание в немецкой культуре (многие немецкие богословы, по крайней мере, этим и обосновывали геноцид), мы, тем самым, оправдываем его действия, и другие культуры должны воздерживаться от того, чтоб посылать проклятия в адрес Гитлера.
В 1979 году правящие силы во Вьетнаме решили избавиться от тысяч людей отвозя их в море на открытых баржах и оставляя там без пищи и воды. Комментируя эту жестокость, один священник из Сингапура сказал: «Какая жалкая альтернатива противопоставлена газовым камерам – открытое море. Сегодня это вьетнамские китайцы. Камбоджийцы уже были причислены к списку обреченных на смерть; наверное, завтра на очереди Таиланд, а затем Малайзия, Сингапур и все остальные страны, мешающие осуществлению вьетнамской мечты»[9]9
«Save Us! Save Us!» in Time, 9 July 1979, p. 28.
[Закрыть].
Не обладая неизменными нравственными стандартами мы можем спросить себя, а почему бы и нет? Если, с точки зрения стоящих у власти, голодная смерть и уничтожение невинных семейств является необходимой мерой для сохранения вьетнамской культуры – да будет так. И культурные релятивисты не могут опротестовать их действие, так как, протестуя, они должны будут аппелировать к иным источникам, помимо культуры.
Херсковитс, похоже, предвидит такие возражения и поэтому делает разницу между абсолютным и универсальным. Он считает, что нет ценности абсолютной, есть ценность универсальная. Абсолюты или абсолютные ценности являются критериями для оценки поступков. Херсковитс не отрицает существование абсолютных ценностей; их универсализм является для него общим знаменателем, выведенным из различных культур. Он пишет: «Нравственность является универсальной, и как таковая обладает красотой и является некоторым стандартом в определении истины»[10]10
Cultural Relativism, p. 32.
[Закрыть].
К сожалению, подобная концепция не предусматривает адекватного критерия, с помощью которого мы могли бы осудить беспричинную жестокость. Вопрос заключается не в том, имел ли Гитлер и вьетнамцы теорию нравственности, и не в том, наслаждались ли они красотой или имели ли какие-либо стандарты для определения истины. Вопрос заключается в следующем: какого рода нравственность, красоту и истину они принимали. Не имея особого критерия для определения этического поведения невозможно вынести никакой нравственной оценки никакой жестокости и никакому зверству, одобряемому данной культурой.
Культурный релятивизм неизбежно ведет к личностному релятивизму. Если не существует межкультурных ценностей, откуда тогда данная группа людей черпает авторитет, чтобы стать источником ценности? В конечном итоге этот авторитет должен опираться на личности. Та или иная раса или группа людей устанавливают определенные стандарты поведения. Личность, тем не менее, рассуждая вполне логично, приходит к выводу, что ей необязательно следовать решению большинства, поскольку непреложного критерия для нравственного выбора не существует.
Не поступают ли так в конечном счете и сами релятивисты?
Книга Сампера «Пути народов» была опубликована в 1906 г., когда американская культура в целом принимала абсолютные ценности. Почему Сампер не ограничивается своей собственной культурной средой? Скорее всего он считает, что по крайней мере в этом случае нравственные стандарты, к которым он пришел, должны полагаться более на его открытиях, нежели на традиции культурной группы, в которой он родился и живет.
Возможно, непоследовательность такого подхода будет более ясна, если мы посмотрим на него под следующим углом: культурный релятивизм отрицает все нравственные абсолюты, и в то же время провозглашает свой собственный абсолют – культуру! Но как может представитель культурного релятивизма ожидать, что я приму такую его этическую систему, если моя культура противоречит его теории? Ответ, конечно, является отрицательным. Представьте себе, что 51% населения в моей культуре (США) принимает нравственные абсолюты. Таким образом, сам культурный релятивизм становится более нравственно приемлемым, поскольку, если культура может провозгласить что угодно хорошим, она же может провозгласить что угодно плохим!
Многие другие вопросы также остаются без ответа в теории культурного релятивизма. Например, что происходит, когда сталкиваются ценности двух культур? Как быть, когда одна сторона считает, что она выше всех других и самим этим фактом оправдывает геноцид и свое владычество в мире? Согласно культурному релятивизму, поскольку это общепринятый взгляд в данной культуре, следовательно, он нравственно верен. Но теперь выходит, что и другие культуры должны защищать себя от подобной агрессии. Являются ли они также правыми? Если да, то каким образом обе противоречащие одна другой нравственные ценности могут одновременно считаться верными? Или вообще не существует таких общих межкультурных стандартов, к которым разумные люди могли бы обращаться?
И наконец, если теория культурного релятивизма верна, она не оставляет места реформаторов. Почему, например, Мартин Лютер Кинг должен возглавлять борьбу за равенство и права человека для всех, если культурный релятивизм заявляет, что то, что делается в данной культуре большинством является нравственно верным? Согласно теории культурного релятивизма любая личность не идущая в ногу со своей культурой – всегда поступает нравственно плохо. В таком случае любовь к врагам будет считаться нравственно неверным делом, ибо релятивисты определяют зло как оппозицию к статусу кво.
Как мы должны быть благодарны, что противники рабства, детского труда не были релятивистами. Многие умирали за то, во что верили, ибо были убеждены в том, что большинство вокруг них поступает неверно. История избыточествует примерами мучеников, поднявшихся против общепринятых обычаев. Большинство из них выступали против своих собственных культур, не соглашаясь с большинством и аппелируя к более высокому нравственному стандарту, нежели те, которые были общеприняты в их культуре.
Исследования различных культур действительно указывают на то, что культуры в самом деле могут отличаться друг от друга; но, оставаясь честными, дальше констатации этого факта антропологи идти не могут. Однако вопрос о том, должны ли существовать различия, либо всем надлежало бы иметь общие ценности, должен быть разрешен не простым собранием фактов, а каким-то иным способом. Как мы уже видели, культурный релятивизм является на самом деле абсолютистской этической системой, в которой культура подменила собой абсолюты традиционной этики. Поэтому мы продолжаем поиски более удовлетворительного ответа на вопрос: что делает поступок верным или неверным.
Глава третья. Ситуационная этика
В этой главе рассматривается популярная теория Иосифа Флетчера, – теория «ситуационной этики», а также предпосылки, лежащие в ее основе. Здесь же автор рассматривает возможность применения подобной системы к нуждам повседневной жизни
Во время одного из сражений Второй мировой войны мистер Бергмер был захвачен в плен англичанами и оказался в Уэльсе, в лагере военнопленных. Немного позднее его жена была схвачена советскими солдатами и отправлена в лагерь на Украину. Когда мистер Бергмер был освобожден из плена и вернулся домой в Берлин, то сразу же приступил к поискам своих детей. Двух он нашел в школе закрытого типа, организованной русскими. А старшего Ганса обнаружил прячущимся в подвале одного из полуразрушенных домов. Дети не имели никакого представления о том, где их мать, но все вместе они объединились в поисках, исполненные надежды найти ее.
В то же самое время в украинском концентрационном лагере миссис Бергмер каким-то образом узнает, что семья разыскивает ее. Она страстно желает увидеться с родными ей людьми, но знает, что из плена отпускают только серьезно больных или беременных. После тщательного взвешивания всех «за» и «против» она предлагает одному из немецких солдат, приставленных к заключенным, сексуальные отношения. Он соглашается, и вскоре она беременеет. Через несколько месяцев она отправляется в Берлин для воссоединения с семьей. Невозможно описать радость возвращения. Все члены семьи приветствовали ее несмотря на то, что она рассказала, каким же образом ей удалось вырваться из плена. Родившийся у нее ребенок – Дитрих – пользовался всеобщей любовью, поскольку он помог воссоединению семьи.
Поступила ли миссис Бергмер верно? Иосиф Флетчер в своей «Ситуационной этике» приводит эту историю, чтобы проиллюстрировать то, как «новая мораль» должна применяться.[11]11
Joseph Fletcher, Situation Ethics: The New Morality (Philadelphia: Westminster Press, 1966), pp. 164-65.
[Закрыть] По его представлению существуют три основные подхода при принятии нравственных решений, а все этические системы прошлого могут быть классифицированы в согласии с этими тремя категориями.
Три типа этических систем
Первый подход к принятию нравственных решений, по Флетчеру, – это легализм. Флетчер также считает, что легалистический подход крайне затрудняет процесс принятия решений из-за громоздкой системы заранее подготовленных правил и положений. В легализме, считает он, правит не дух, но буква. Решение проблемы уже предрешено, и вам лишь нужно извлечь его из книги, будь то Библия или другая религиозная литература[12]12
Ibid., p. 18.
[Закрыть].
Ясно, что держащийся христианских традиций «легалист» будет настаивать, что миссис Бергмер поступила плохо, вступив в сексуальную связь с солдатом. Седьмая заповедь «Не прелюбодействуй» (Исх. 20:14) почитается универсальным законом, не допускающих никаких исключений. (Вопрос о том, следует ли расценивать применение к данному случаю седьмой заповеди как легализм или нет, будет затронут в 8-ой главе).
Традиционное христианство почитает предписания Библии, как обладающие наивысшим авторитетом во всех жизненных ситуациях, даже тогда, когда мать находится в заключении и насильственно разлучена со своей семьей. Легалисты считают, что всегда заранее могут определить, будет ли данный поступок хорошим или плохим, знают даже в отрыве от реального контекста, в котором этот поступок произойдет.
Флетчер настаивает на том, что подобный подход несостоятелен. По его мнению, легализм должен быть отвергнут, ибо такой подход более печется о законах, нежели о людях. Его беспокоит то, что легализм вместо того, чтобы рассматривать каждый случай отдельно, осуждает того, кто нарушил какую-то из заповедей, будучи движим любовью.
Вторая категория по Флетчеру находится в прямо противоположном конце нравственного спектра. Это сторонники антиноминализма. Значение этого термина переводится просто – «против закона». Антиноминалисты полагают, что не существует правил, которым нужно следовать в процессе «принятия этического решения». Человек оказался заброшенным в мир, рационально понять который он не в состоянии; вселенная же не дала человеку принципов, на основании которых он мог бы оценивать нравственность поступков.
Что бы сказали о миссис Бергмер антиноминалисты? Они ничего плохого в ее поведении не видят. С их точки зрения строгий запрет прелюбодеяния не всегда должен соблюдаться в любой ситуации. Поскольку антиноминалисты отвергают все нравственные принципы, то у них не остается никакой основы для определения того, является ли поступок нравственным или безнравственным. Более того, для них это уже не имеет большого значения. Уже то, что она приняла решение, хорошо, а какое конкретно решение – не имеет значения.
Третья категория у Флетчера это ситуационализм, более изветный как ситуационная этика, или «новая нравственность». Этот взгляд обещает нахождение золотой середины между легализмом и антиноминализмом и этого взглядя придерживается сам Флетчер. Представители ситуационной этики отвергают легализм из-за его принципов, которые, как они считают, идут впереди человека, и больше ценят букву закона, нежели любовь. Затем они обвиняют и антиноминалистов за отказ серьезно отнестись к тому, что у любви тоже есть свои требования, и за то, что у них нет никаких критериев для оценки нравственного поведения.
Ситуационализм не отвергает моральные правила прошлого, но и не привязывается к ним. Он руководствуется правилами, когда они кажутся ему полезными, и не считается с ними, когда они вступают в конфликт с «любовью». Помните, что любовь при этом рассматривается, как самый высокий принцип – выше, чем закон. Будучи ситуационалистом Флетчер молчаливо одобряет поступок миссис Бергмер в советском лагере для военнопленных. Хотя в иной ситуации точно такой поступок уже может быть безнравственным, поскольку иной будет ситуация.
Что делает поступок верным или не верным?
Какие же действия тогда можно назвать нравственными? Для Флетчера единственным арбитром нравственности является любовь. Это и есть первая предпосылка ситуационной этики, которую мы рассмотрим. Здесь Флетчер соглашается с Джоном А. Г. Робинсоном, который писал: «Если мы всем сердцем проникнем в это дело, и если очень будем этого желать, то любовь найдет выход, может, единственный выход; выход есть из любой ситуации»[13]13
John A. T. Robinson, Honest to God (Philadelphia: Westminster Press, 1963), p. 112.
[Закрыть]. Поэтому никакая заповедь не может противостоять требованиям любви. Внебрачные связи не являются плохими сами по себе; они становятся плохими, когда внутренне не исполнены любовью.
Флетчер не устает цитировать Рим. 13:18 «Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Так же говорит и Христос: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим…; возлюби ближнего твоего как самого себя… На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Матф. 22:37 – 40)
Для представителей ситуационной этики эта квинтэссенция становится единственным абсолютом. Из этой универсальной заповеди любви не проистекает никаких универсальных правил. Для каждой из Десяти Заповедей есть исключения. Ситуационисты утверждают, что иногда мы даже обязаны нарушать какую-либо, или, реже, все заповеди, если в определенной ситуации любовь требует этого.
Ситуационисты таким образом, оперируют так называемой этической теорией «средней дороги». Они отрекаются от легализма и антиноминализма и настаивают на том, что «все без исключения законы, правила и принципы, все идеалы и нормы – относительны (случайны). Все они представляют ценность только тогда, когда им случается послужить делу любви в какой-то конкретной ситуации»[14]14
Situation Ethics, p. 30.
[Закрыть]. Супружеская измена, ложь и убийство не всегда предстают плохими деяниями, в некоторых случаях любовь себя именно так и проявляет.
Вторая предпосылка ситуационной этики утверждает, что один абсолют, т.е. любовь, должен быть выражен в терминах утилитаризма. Это значит, что действие должно оцениваться по тому, какой вклад оно вносит в дело общего блага большинства.
Иеремия Бентам признается большинством как последователь идеи утилитаризма. Он взял принципы общественного блага, сформулированные Дэвидом Юмом, и применил их к социальным и этическим проблемам. Вкратце его теория сводится к тому, что нравственные решения должны приниматься путем тщательного взвешивания (подсчета) – к чему приведет то или иное решение в конечном счете: к удовольствию или боли. При таком подсчете у каждого индивидуума шансы одинаковы, поэтому с некоторых пор нравственность становится демократичной. Нравственным считается такое действие, которое производит больше приятного (удовольствия) и меньше боли по сравнению с иным. Безнравственным считается такой поступок, в результате которого боль будет превалировать над удовольствием. Но для достижения в этом деле верной пропорции удовольствие и боль должны быть измерены. И только после этого человек может быть уверенным в том, что от его поступок удовольствия в мире становится больше, чем боли.
Практическое воплощение утилитаризма Бентама представляет особый интерес. Совершенно очевидно, что его теория очень часто воплощалась в жизнь, и в ее проведении даже преуспели даже некоторые политические режимы. Поскольку Бентам особенно интересовался принципом «общего блага» в действиях правительств, попробуем рассмотреть конкретный пример, приведенный Гордоном Кларком о том, как функционирует утилитаризм:
«Представим себе, что нация состоит на 90% из местных чистокровных светловолосых аборигенов и на 10% из презираемого и ненавидимого меньшинства, евреев, например. И вот это местное население, люди несдержанные, воинственные, считая древнее тевтонское варварство своими высшими ценностями, находит самое великое удовольствие не в снятии скальпов с помощью тамагавков, но в более изощренных и научно-обоснованных пытках семитов. Все, это делается исключительно ради удовольствия, и, к тому же, кажется полезным. Вынесение приговоров и пытки любого, кто принадлежит к низшей расе доставляют радость миллионам. Даже если, – впрочем, это даже не обсуждается, – даже если боль от пыток больше, нежели удовольствие отдельно взятого человека из высшей нации, боль все равно не превысит сумму удовольствий миллионов.
Если когда-нибудь создастся положение, при котором общая сумма боли превысит сумму удовольствия, научным способом всегда можно высчитать оптимальную меру пыток; или, что еще лучше, национальный департамент образования может начать преподавать специальный курс о сбалансированности пыток. И в конце концов великое добро для подавляющего большинства восторжествует»[15]15
Gordon H. Clark, A Christian View of Men and Things (Grand Rapids: Wm. B. Edermans, 1951), p. 188.
[Закрыть].
Флетчер признает, что ситуационная этика является по сути своей утилитаризмом, и считает, что ситуационализм развил принцип удовольствия в утилитаризме и назвал его принципом агапе (любви), поэтому, различие между ними только в терминах. «Тогда вся разница между христианином (ситуационалистом) и утилитаристами сведется к терминологии и к разному ответу, на вопрос «Зачем переживать, зачем быть озабоченным?» – ведь это вопрос метаэтики»[16]16
Joseph Fletcher, «What's in a Rule?: A Situationist's View,» in Gene Outka and Paul Ramsey, eds., Norm and Context of Christian Ethics (New York: Scribner's, 1968), p. 332.
[Закрыть].
Таким образом, ситуационализм оценивает нравственное решение по тому вкладу, который оно внесло в «дело великого блага для большинства». Следует заметить, что некоторые современным ситуационалисты избегают говорить о «высшем благе для большинства». Они говорят о «большем счастье для всех людей», когда речь идет о моральном выборе[17]17
J. E. Barnhart, «Egoism and Altruism,» Southwestern Journal of Philosophy 7, No. 1 (Winter 1976), pp. 101-110.
[Закрыть].
Флетчер вместе с утилитариями склонен держаться взгляда «цель оправдывает средства». Это будет третьей предпосылкой ситуационной этики, которую мы рассмотрим. «То, что прежде выдвигалось в качестве обвинения против иезуитов, теперь принимается на ура: finis sanctificat media»[18]18
Joseph Fletcher, Moral Responsibility (Philadelphia: Westminster Press, 1968), p. 23.
[Закрыть].
Флетчер обращается к истории о том, как Ленину однажды надоело слушать, что он не руководствуется этикой, потому, что использует силу в решении внешних и внутренних вопросов. Некоторые ученики Толстого обвиняли его в том, что он считает, что результат оправдывает средства. Наконец, Ленин тогда не выдержал: «Если цель не оправдывает средства, то, во имя здравомыслия и справедливости, что же их оправдывает?»[19]19
Situation Ethics, p. 121.
[Закрыть]
Флетчер согласен с этим всем сердцем: конечно, если результат не оправдывает средства, тогда их ничто не оправдает.
Безусловно, никто не будет оспаривать теорию «цель оправдывает средства», если цель и средства верны. Даже в вопросах нравственности христианин может настаивать на том, что результатом всех действий должно быть прославление Бога, а средствами к достижению этой цели может быть послушание воле Божьей. Но интерпретация Флетчера теории «цель оправдывает средства» совсем иная. Он считает, что правомерным будет солгать, украсть или даже убить, если все это делается во имя высшей цели. Конечно, как будет видно ниже, такая цель избирается (иногда произвольно) теми, кто действует. Например, диктаторы уничтожают национальное меньшинство во имя блага своей страны; на самом деле, любую жестокость можно оправдать, основываясь на таких формулировках.
Тем не менее, ситуационная этика не должна отвергаться только лишь потому, что она используется для оправдания пыток и резни. Последствия не могут использоваться для опровержения этической теории, они лишь объясняют практическое применение принципов. Если ситуационная этика верна, то последствия будут вполне приемлемы. Некоторые люди полагают, что этическая теория, используемая для оправдания геноцида, должна быть отвергнута, но сам ход такого рассуждения неверен. Никто не может возражать против теории до тех пор, пока не будет доказано, что подобная жестокость является в конце концов злом с точки зрения этики. По этой причине мы переводим дискуссию в другое русло, чтобы понять, является ли ситуационно-утилитарная коалиция разумной.