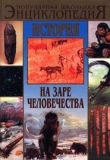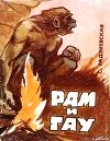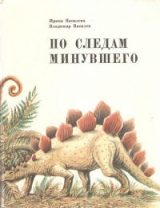
Текст книги "По следам минувшего"
Автор книги: Ирина Яковлева
Жанр:
Биология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)
Вот и все находки скелетов археоптериксов, известные на сегодня. Их шесть на весь мир. Шесть отпечатков, а в них ключ к истории появления птиц на Земле.
АРХЕОПТЕРИКС ГОЛОСУЕТ ЗА ДАРВИНИЗМ
Почему же такое большое значение придают палеонтологи находкам археоптериксов? Да потому, что был археоптерикс не чем иным, как переходной формой от ящеров к птицам. О такой находке мечтает каждый палеонтолог, какой бы группой ископаемых организмов он ни занимался. Посудите сами. Птицы в огромном своем разнообразии заполонили сегодняшнюю Землю. А что с ними было вчера? Какими они были? И вообще, откуда они взялись? Кто был их предком? Те же самые вопросы задают специалисты по каждой группе животных. Но ответ они получают пока в очень редких случаях. И археоптерикс – один из таких случаев.
Давайте внимательно рассмотрим его скелет. Археоптерикс был размером с голубя или чуть больше. В его крыльях семнадцать маховых перьев. Длинный хвост тоже оперен. Так что сомнений нет – перед нами птица. Но давайте подсчитаем, сколько позвонков составляют ее хвост. Двадцать позвонков! Да ведь это хвост ящерицы! Только оперенный. Каждому позвонку соответствует пара перьев. А вот этого у ящерицы уже никогда не бывает! Значит, птица! Но клюва-то нет, а во рту зубы, как у всех ящеров. Может быть, все-таки ящер с перьями? Пожалуй, эту мысль не так легко отбросить. Взгляните на кости археоптериксов. Массивные и вовсе не полые, как у современных птиц. Значит, конструкция археоптерикса была тяжелой, что, конечно, не свойственно хорошим летунам. На его голове перьев почти нет. Ее покрывала чешуя. И наконец, существенная особенность археоптерикса – крылья служили ему еще и передними лапами. Три пальца было у него на каждом крыле. А на пальцах – когти. По этому можно представить себе, что при полете, вернее, при планировании, передние конечности служили крыльями, а при лазании по деревьям – лапами.
Вот таким был этот полуящер-полуптица, шесть экземпляров которого посчастливилось найти в щедрых сланцах Золенгофена.
И все-таки почему же скелет первого ихтиозавра тот же Британский музей оценил в 29 фунтов стерлингов, а археоптерикса – в 700? В двадцать с лишним раз дороже! Дело в том, что как раз в это время, в 1859 году, вышла в свет работа Дарвина о происхождении видов. Раньше считалось, что разные группы животных возникают независимо друг от друга. Они живут, вымирают, а на смену им приходят другие животные. Дарвин впервые объяснил появление новых групп животных от каких-то ранее существовавших предков. И предки эти были мало похожи на них или совсем не похожи. Теория теорией, а подтверждения ей, настоящего доказательства не было. И тут – археоптерикс! Недостающее звено между прошлым и настоящим! Доказательство происхождения птиц от пресмыкающихся. Шум вокруг него поднялся больший, чем шум вокруг смены государственного кабинета, крупной железнодорожной катастрофы или землетрясения. Получить это доказательство, это блестящее подтверждение учения великого Дарвина хотелось буквально всем ученым мира. Поэтому Британский музей оказался в этой ситуации таким щедрым. Как-никак, а подтвердилась идея их соотечественника!
КАРАТАУ – ПРЕСНОВОДНЫЙ ЗОЛЕНГОФЕН
Золенгофен – уникальнейшее местонахождение ископаемых в Европе. До недавнего времени ему не было равных в мире, пока в 1921 году горный инженер А. А. Анискович не нашел в Южном Казахстане местонахождение с несметным количеством остатков рыб, насекомых и растений. Первые же исследования утвердили специалистов во мнении, что перед ними древнее ископаемое озеро. И что озеро это – не соперник Золенгофена и Хольцмадена, а новая яркая страница в истории юрских фаун и флор. Дело в том, что немецкие местонахождения – это древние морские лагуны и обитатели их так или иначе связаны с морем. А Каратау – континентальный пресноводный водоем.
Что же узнали исследователи о Каратау почти за шестьдесят лет его изучения?
Это было узкое, зажатое со всех сторон горами озеро с крутыми берегами, но очень неглубокое. Низин вокруг него не было. Никогда не возникали в этом озере большие волны. И очень возможно, что временами оно распадалось на несколько небольших водоемов, которые потом снова соединялись. Но самым поразительным в этом озере оказались его обитатели.
Каратау для юрского времени был примерно тем же, чем является для наших дней Австралия, – «островком прошлого». В Каратау продолжали жить формы, которые уже давно вымерли по всей Земле. В жесткой воде озера было очень мало водной растительности и микроорганизмов, которыми обычно кишат воды других озер. Видимо, по этой причине в Каратау жили в основном хищные рыбы. Среди них особенно странно было встретить закованного в панцирь палеониска. Родня его вымерла уже около десяти миллионов лет назад.
Хищных рыб в Каратау было так много, что пищи явно не хватало, и они частенько пожирали друг друга. Страдала не только молодь. Тонкие сланцы через 150 миллионов лет рассказали специалистам об этих драматических событиях.
Сланцы Каратау оказались ничуть не менее благодатными, чем сланцы Золенгофена.
Насекомые здесь сохранились в таком количестве и многообразии, в каком они не встречены нигде больше во всем мире.
А крупные экземпляры рыб, которые можно изучать до мельчайшей косточки, до икринки в брюхе! Молодь, у которой хорошо видны все кровеносные сосуды! Икринки на разных стадиях развития. Одним словом, все то, что обычно бывает разрушено, смято, неясно в сланцах других местонахождений, здесь прекрасно сохранилось. Кроме того, в Каратау были найдены две водяные черепахи, саламандра, крокодил, летающие ящеры и… перо! Да, перо! Еще более примитивное, чем перо археоптерикса. Причем поражает явное сходство этого пера с чешуей рептилий. Быть может, наступит час, и целый ящер-птица, обладатель загадочного пера, глянет на нас из сланцев далекого юрского периода, и прольется свет на истинное происхождение наших пернатых современников.
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ В ЮРЕ
Теперь остается рассказать о млекопитающих. О том, какие сведения о них дошли до нас со времен 150-миллионолетней давности. Первая находка была сделана в 1764 году в окрестностях Оксфорда в Англии. Это были челюсти маленьких млекопитающих. Но определить ценность своих находок ученые в те времена еще не могли.
В 1812 году студент Оксфордского университета Вильям Джон Бродерип принес две найденные им маленькие челюсти своему профессору Вильяму Бакленду. Оба – и профессор и студент – были уверены, что перед ними челюсти млекопитающих. Удивительным было другое: найдены они уж в очень древних отложениях! Тогда господствовало мнение, что млекопитающие появились только в кайнозойской эре, в третичное время.
В 1818 году находки англичан попали в руки Жоржа Кювье. Тот подтвердил, что они имеют самое прямое отношение к млекопитающим. Он даже решил, что перед ним опоссум, очень похожий на того, которого он определил несколько раньше из раннего кайнозоя Парижского бассейна.
За шесть лет до Кювье одну из этих челюстей профессор Бакленд все-таки описал. Но сообщение его вызвало бурные споры и прямое несогласие. Специалисты были уверены, что динозавры и млекопитающие не могут встречаться вместе. И только английский ученый Ричард Оуэн прекратил дискуссию. Он доказал, что это действительно челюсть млекопитающего. А главное, к тому времени и в других местонахождениях уже были найдены столь же древние остатки млекопитающих. Накапливался материал, и постепенно ученые начинают понимать, что появление группы и ее распространение – не одно и то же. И что если господство млекопитающих приурочено к кайнозою, то появиться они могли много раньше.
На сегодняшний день находок млекопитающих из юры добыто достаточно, чтобы с уверенностью сказать, что они мало чем отличались от своих триасовых предков.
Древнейшее насекомоядное.
Тираннозавр.
Глава IX
ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД ДИНОЗАВРОВ
Жан Батист Жюльен д’Амалиус д’Аллуа родился в 1783 году в городе Льеже в Бельгии. Это был чрезвычайно энергичный и работоспособный человек. За свою почти столетнюю жизнь он занимал разнообразные высокие и пышные должности. Но ни сан сенатора, ни губернаторский пост в провинции Намюр, ни даже пост президента Академии наук в Брюсселе не обессмертили его имени. И мы не вспомнили бы об этом человеке, если бы он не был хорошим геологом. Это именно он, д’Амалиус д’Аллуа – отличный полевой работник и последователь Александра Броньяра и Вильяма Смита, в 1822 году выделил меловой период.
«Меловым» он был назван из-за белого пишущего мела, который часто встречается в известковых обнажениях Франции, относящихся именно к этому геологическому времени. А сам белый пишущий мел есть не что иное, как многовековые осадки, состоящие из мельчайших раковинок фораминифер, которые во множестве населяли моря мелового периода. Меловой период начался 135–137 миллионов лет, а кончился 65–67 миллионов лет назад. Продолжительность его около семидесяти миллионов лет.
В 1885 году в Париже заседал Международный геологический конгресс. На этом конгрессе решено было разделить меловой период на два отдела: верхний и нижний. Решение это было вызвано тем, что геологи уже хорошо представляли себе весь период в целом и видели, как резко отличается его первая половина от второй. Сегодня «мел», так для краткости называют его геологи, поделен на ярусы. Ярусы назвали именами тех древних и современных местностей, в которых впервые были выделены соответствующие отложения.
Обратите внимание, что названия ярусов расположены хронологически снизу вверх. Чем ниже, тем древнее отложения. Чем выше, тем ближе к нашим дням.
Поскольку нигде прежде о таком дробном делении периодов мы не говорили, то может создаться впечатление, что в этом отношении «повезло» одному мелу. Но это совсем не так. Подобным образом разделены все периоды, начиная с кембрийского. Так что геологи и палеонтологи, обсуждая свои проблемы и рассказывая друг другу о новых находках, часто названия периодов опускают совсем, сообщая, например, что кости найдены в туронских отложениях. Всем и так все понятно, на то они и специалисты. Мы же с вами в эти «геологические дебри» забираться не станем, а продолжим наше путешествие по «лестнице времени».
ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН МЕЛОВОЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПАЛЕОНТОЛОГОВ?
Вероятно, из всего, рассказанного прежде, становится ясным, что жизнь на Земле, возникнув миллиарды лет назад, ни разу не прекращалась. Земля никогда не оказывалась совсем пустой и безжизненной, хотя были критические ситуации, вроде тех, что возникают в конце шахматной партии, когда большинство фигур уже выбыло из игры. Подобное случилось, например, на таинственной границе перми и триаса, которую не смогли перешагнуть основные группы животных и растений.
В меловом периоде такая ситуация наблюдается по крайней мере дважды: на границе раннего и позднего мела и в самом конце мела. Одни группы почему-то перешагивают смертоносный барьер, а другие – нет. Растения предвосхищают события, которые произойдут в животном мире Земли через несколько десятков миллионов лет. Изменяются очертания континентов и океанов. Меняется климат. Возможно, что в меловом периоде на «дела земные» влияли какие-то космические катастрофы.
Посмотрим, какие же события преподнес нам меловой период.
Начнем с того, что в мелу флора впервые становится очень похожей на современную. В отложениях позднего мела уже часто можно встретить березу, бук, платан, лавр, магнолию. На смену голосеменным приходят покрытосеменные – цветковые растения. Происходит это в те времена, когда, казалось бы, еще ничто не предвещает великих перемен.
В мелу появляются ящерицы и змеи. Встречаются настоящие птицы, которые уже разделились на летающих и бегающих.
В меловом море живут гигантские аммониты и устрицы.
В меловом периоде возникают все группы современных млекопитающих. По виду это все еще маленькие зверьки, похожие на крысу, но по строению они уже разделились на сумчатых и плацентарных. А плацентарные, в свою очередь, дали миру насекомоядных. Таким образом, угнетенная группа маленьких зверьков стала очень разнообразной, окрепла и ждет своего часа.
Каких только динозавров не встретишь в отложениях мелового периода! И как на редкость замысловато украшены они защитными и устрашающими приспособлениями: рогами, выростами, костяными бляшками! В мелу динозавры еще хозяева Земли. А в палеогене их вдруг совсем нет. Что же не позволило им переступить таинственную границу? Да только ли им! Исчезают из летописи жизни морские ящеры, аммониты, белемниты и другие беспозвоночные.
Итак, в конце мела в очередной раз освобождается полигон жизни для тех, кто уже готов к испытаниям и ждет своего часа.
Но почему происходит обновление жизни? Может быть, суть в определенных закономерностях, которым подчиняется все живое на Земле? А может, виной тому какое-то всепланетное или космическое потрясение?
ГЕОГРАФИЯ И КЛИМАТ
Рассмотрим карту Земли мелового периода. Раздвижение материков продолжается, и постепенно они приобретают знакомый нам современный облик, хотя «мосты» между Северной Америкой и Северной Европой еще существуют, и родившийся в Северной Америке игуанодон вполне может кончить свои дни в Европе.
В позднем мелу мелководные моря покрывают большие пространства нынешней суши. Именно в этих морях образуются те меловые осадки, по которым миллионы лет спустя д’Амалиус д’Аллуа назовет этот последний период мезозойской эры.
Индия и Мадагаскар движутся на восток к Азии. Австралия все еще соединена с Антарктидой. По северному берегу моря Тетис возникают непрерывные системы вулканических островов. В позднем мелу поднимаются Скалистые горы в Северной Америке и Анды в Южной. А на территории СССР – Верхоянский хребет и хребет Черского.
Что же касается климата, то в мелу отчетливо выделяются три климатические зоны. Самая северная – бореальная, зона с умеренным климатом, обязанная своим названием северному ветру борею, средиземноморская зона с субтропическим климатом, южная – с тропическим. И те же самые зоны в направлении от экватора к Южному полюсу, – от тропической до бореальной.
В бореальных морях того времени жили аммониты и белемниты, совершенно не похожие на тех, что процветали в морях у экватора. Да и вообще, тропическая фауна была несравненно богаче. Здесь жили кораллы, морские ежи и устрицы до метра в диаметре.
НА БЕРЕГУ МЕЛОВОГО МОРЯ
Знойное марево висит над заливом. Ни ветерка. Но море не спит. С океана приходят пологие зеленые волны, с шипением катятся по гальке и умирают на раскаленных прибрежных камнях.
В белой пене прибоя мелькнула черная длинная голова. В острых зубах бьется крупная рыбина. Вода вздохнула и мягко покатилась назад, волоча радужные пузырьки пены. А большая бескрылая птица что было сил заковыляла на красных перепончатых лапах. Пробираясь к гнезду, неуклюжий рыболов гесперорнис на свою беду потревожил стаю маленьких зубастых чаек – ихтиорнисов. Воздух наполнился шипением, кваканьем и щелканьем челюстей.
Вдруг безмолвная черная тень словно прижала к земле галдящую стаю. Величаво качнув необъятными крыльями, в небе проплыл летающий ящер птеранодон, под перепончатым крылом которого могли бы разместиться несколько слонов. Но властелин неба не смотрел вниз. Он летел к океану. Там, в горячей дымке, извивались змеиные шеи морских ящеров плезиозавров. Начиналась охота на каракатиц и белемнитов, большие косяки которых входили в залив.
ИГУАНОДОН – «ИГУАНОЗУБ»
Многочисленные находки палеонтологов в Европе, отнесенные к раннему мелу, позволили восстановить облик и образ жизни динозавра, которого ученые поначалу сочли родственником ящерицы-игуаны, а потому и назвали «игуанодоном».
Если бы в наши дни три человека встали на плечи друг другу, то только третьему удалось бы дотронуться до головы игуанодона. Этот ящер, из птицетазовых динозавров, жил в прибрежных зарослях возле озер и болот. Тут же, прямо в песок, игуанодоны откладывали яйца и, скорее всего, предоставляли их самим себе, как современные сухопутные черепахи. Легкая конструкция скелета игуанодона говорит о том, что бегать этот ящер мог довольно быстро. А щечные зубы у него слились в сплошную батарею с единой жевательной поверхностью. Это они убедили ученых в том, что пищу этот ящер мог пережевывать. Передних зубов у него не было совсем. Питался игуанодон растительностью, а защищался совсем необычно. Дело в том, что на его передних лапах первые пальцы превратились в самые настоящие кинжалы с роговым лезвием. И наверняка немало хищников, нападавших на игуанодонов, остались лежать с распоротым брюхом.
НАХОДКА ПРОФЕССОРА МАРША
Суровая зима 1870 года застала Отниэла Марша в горах западного Канзаса. Досаде знаменитого ученого не было конца. Он только что нашел обломок кости птицы, а тут приходилось свертывать работы, уезжать. Уезжать, не успев добраться до великих ценностей, которые наверняка таят в себе меловые отложения Смоки Хилл Ривер.
Скрипели колеса тронувшихся в путь повозок. Ледяной ветер сек лицо. Нестерпимо горели под плащом натруженные руки. Время от времени Марш сердито потирал их и думал, что непогода – это, пожалуй, единственное, над чем не властны его миллионы. Единственное, перед чем он вынужден отступать. Но он вернется сюда. Вернется, как только растает снег и высохнет эта бесконечная слякоть на дорогах.
Но обстоятельства сложились так, что вернулся он только летом. Вернулся прямо в пекло, когда жара достигала сорока пяти градусов. Но разве жара могла остановить неистового Марша? Он обливается потом, но не прекращает работу. И что же?! Усердие и труд почти всегда вознаграждаются. Ему посчастливилось найти почти полный скелет невиданной доселе зубастой птицы.
Марш описал эту птицу и назвал «гесперорнис» – «птица запада».
Интерес Марша к ископаемым птицам, несомненно, был подогрет сенсационными находками в Европе. В те дни палеонтологи буквально бредили археоптериксом. Найти его потомков в меловых отложениях – это, конечно же, очень привлекало тщеславного Марша.
К 1879 году Маршу и его сотрудникам удается найти уже больше сотни экземпляров зубастых птиц. Но их было всего две разновидности. Кроме большого и бескрылого гесперорниса, попадались кости и отпечатки маленькой и хорошо летавшей зубастой птицы – ихтиорниса, что значит «рыба-птица».
Рассматривая клюв гесперорниса и его челюсти с девяноста шестью зубами, сидящими в одной общей борозде, Марш обнаружил под еще крепким взрослым зубом другой зуб, росший ему на смену. Это ли не подтверждение гипотезы о происхождении птиц от пресмыкающихся, у которых зубы растут и сменяются всю жизнь?!
Скелет гесперорниса рассказал Маршу и о том, что эта птица жила у воды, так как ноги ее, судя по всему, были очень сильными и хорошо приспособленными к плаванию. На пальцах ног длинные когти, а между пальцами – плавательная перепонка. От передних конечностей у гесперорниса осталась только тонкая палочка плечевой кости. Значит, крыльев у этой птицы не было. Видимо, делает вывод Марш, гесперорнис был больше всего похож на гагару. Неповоротливый на суше, он брал реванш в воде, не уступая в проворстве рыбам. И охота его всегда бывала удачной. Насытившаяся птица кое-как выбиралась на берег и тут же валилась на бок, подставляя жарким лучам солнца длинное неуклюжее тело.
Маленькие зубастые ихтиорнисы во всем отличались от своих соседей. Они хорошо летали. Зубы их сидели в отдельных лунках и были загнуты внутрь рта. Если гесперорнисы ловили рыбу в воде и могли даже нырять за ней на большую глубину, то ихтиорнисы охотились, как современные чайки – у самой поверхности. С той разницей, что их зубастый клюв надежнее удерживал добычу.
Между собой ихтиорнисы и гесперорнисы жили мирно, потому что делить им было нечего. Жили они стаями, и на побережьях меловых морей галдели настоящие птичьи базары, совсем такие, какие устраивают морские птицы в наши дни.
Но властелинами воздуха были все-таки летающие ящеры. Самый большой из них – похожий на гигантского пеликана – птеранодон. Чудовищный призрак, словно сказочная летучая мышь, беззвучно скользил над морем и уносился вдаль, туда, где на черных одиноких скалах, вознесшихся над морскими просторами, ждали его крикливые ненасытные птенцы.
Скелеты птеранодонов с размахом крыльев до восьми метров и длиной головы до трех метров кажутся гигантскими. Что же тогда сказать о недавней находке американского палеонтолога Дугласа Лоусона?
Гигантский летающий ящер птеранодон и маленькие зубастые птицы ихтиорнисы мирно уживались на морских побережьях мелового периода.
ГИГАНТ СРЕДИ ГИГАНТОВ
Несколько лет тому назад Дуглас Лоусон работал на территории заповедника Биг-Бенд. Там ему в руки попала кость длиною в 67 сантиметров. Осмотрев кость, Лоусон понял, что перед ним предплечье какого-то животного, и принялся искать дальше. Буквально через полчаса ему посчастливилось найти плечевую кость, часть лучевой, два кистевых сустава и две фаланги какого-то огромного чудища. Чудище, судя по всему, умело летать.
До Лоусона летающих ящеров-птерозавров, к которым относится и птеранодон, уже хорошо знали. Размах крыльев даже самых крупных из них оценивали примерно в восемь метров. А тут, по самым скромным подсчетам специалистов, размах крыльев птерозавра Лоусона был никак не меньше пятнадцати метров. Некоторые ученые называли даже цифру двадцать один!
Вскоре к первой находке прибавилось еще две из того же Биг-Бенда. Они-то и подтвердили, что перед специалистами совсем новый, неизвестный еще науке род. Пустотелые кости ящера и огромный, в метр длиною, беззубый клюв служили тому доказательством. По мнению Лоусона, питался этот ящер, в отличие от рыболовов-птеранодонов, в основном падалью, так как жил он далеко от морских просторов, а реки и озера вряд ли могли прокормить такого гиганта. Вероятно, природа, считает Лоусон, возложила на него обязанности мусорщика или санитара.
В меловом периоде гигантизм был явлением обычным. Гиганты в воздухе, гиганты на суше. Не отставало от общей «моды» и море.
ДРАМА НА БОЛОТЕ
Золотой шар раскаленного солнца катился к горизонту. Длинные причудливые тени пересекли болотную гладь. Тучи мошек поднялись над водой, и казалось, воздух дрожал от их беспорядочного роения. Слабый ветерок принес дурманящий запах эфедры с далеких плоскогорий. Чуть шевельнулись кожистые листья платана. Едва заметная рябь побежала по воде и вдруг разбилась о какое-то препятствие, возникшее возле самого берега. Неуклюжие, облепленные грязью и тиной животные, словно стадо маленьких бегемотов, поднялись на ноги и побрели к берегу, лениво обрывая и переламывая жесткие болотные растения похожими на клювы челюстями. Потоптавшись на берегу, животные ложились и подставляли бока горячим солнечным лучам, более милосердным на закате. Наступало время отдыха и тишины. Мирные растительноядные динозавры-протоцератопсы один за другим безмятежно засыпали, и только часовые переступали с ноги на ногу и мерно качали головой, наверное, тоже в борьбе со сном.
Спят ящеры и не знают, что совсем рядом их подстерегает смерть. Она уже совсем близко. Уже появилась из-за толстого ствола смоковницы. Уже белеют острые изогнутые зубы, а круглые зоркие глаза уже наметили добычу. Напружинились крепкие ноги. На мгновение серпом изогнулся в воздухе гибкий хвост. Хищный динозавр-велоцираптор готов к прыжку. Готов вонзить длинные когти и острые зубы в тело ничего не подозревающей жертвы.
Свистящий рев «часового» безнадежно опоздал. Разбуженное стадо устремилось к воде. Протоцератопсы тяжелыми булыжниками плюхались в воду и быстро отплывали от берега, подальше, к безопасной середине болота.
Отчаянно рванулся к воде и молодой протоцератопс, неся на мощной своей голове цепкое тело хищника. Острый коготь-шпора велоцираптора вспарывал нежное брюхо жертвы, а крючковатые когти передних лап вонзились в голову, в костяной воротник, защищавший шею. Протоцератопс продолжал двигаться вперед, и только его пасть судорожно впилась в переднюю лапу врага, рвущего его тело.
И тут произошло неожиданное. Ноги принесли протоцератопса к обрыву. К тому месту, где хлюпала болотная жижа и пузырьки газа, поднимающегося со дна, бесследно растворялись в воздухе.
Еще рывок, и сцепившиеся тела полетели вниз, в болото. Мутная вода сомкнулась над ними. Снова тишина, и снова толкутся мошки над местом их гибели. А растревоженное стадо долго еще не решается вылезти на берег.
Историю эту рассказал нам монгольский палеонтолог, один из руководителей Советско-Монгольской палеонтологической экспедиции, Ринчин Барсболд. В 1971 году он нашел в обрывах Тугрикин-Ширэ на юге Монголии скелеты обоих противников, как бы сцепившихся в смертельной схватке. Барсболд не только очень образно рассказал об этой находке, но и показал, как совершенно по-кошачьи вцепился велоцираптор в свою жертву. А коготь велоцираптора, по мнению Барсболда, похож на петушиную шпору. Только шпора у петуха смотрит назад, а коготь-шпора велоцираптора – вперед. На бегу велоцираптор прятал коготь-шпору в складки кожи, как в ножны. Он и не мешал ему. Лишь в момент нападения появлялся смертоносный коготь из ножен и рассекал жертву.
Находка Барсболда уникальна. За столетнюю историю изучения динозавров это первый подлинный документ, недвусмысленно говорящий об их взаимоотношениях друг с другом.
Находка этих двух скелетов удачно проиллюстрировала давно высказанное предположение о так называемой узкой специализации всех групп динозавров в меловое время.
Напомним, что сначала больших различий между хищниками и растительноядными не было. Преобладали всеядные динозавры и переходные формы от хищников к растительноядным. Теперь, в мелу, перед нами уже четко определившиеся, специализированные хищники и растительноядные. По внутреннему строению все они относятся к двум группам: ящеротазовых и птицетазовых.
Из знакомых нам динозавров к растительноядным относятся и протоцератопс – родоначальник рогатых динозавров, или, как их именуют, «цератопсов». Эту группу динозавров, пожалуй, можно назвать «бойцами поневоле».
Уникальная находка в обрывах Тугрикин-Ширэ на юге Монголии – два сцепившихся в смертельной схватке скелета – позволила монгольскому палеонтологу Ринчину Барсболду восстановить драматический эпизод схватки растительноядного динозавра протоцератопса с небольшим хищным динозавром велоцираптором. Произошла эта схватка 90 миллионов лет назад, и оба динозавра погибли. Необычное оружие было у велоцираптора – коготь на задних конечностях, который при беге убирался в кожистые складки ноги, а в момент нападения выбрасывался вперед и рассекал жертву. За столетнюю историю изучения динозавров эта находка – первый подлинный документ, совершенно недвусмысленно говорящий об их взаимоотношениях друг с другом.
Мирным растительноядным ящерам не приходилось думать о еде. Она была в изобилии повсюду. И поэтому главной в их жизни была забота о том, чтобы их самих не съели. Чем ты меньше и слабее, тем беззащитнее. Это ясно каждому. Значит, уцелеет тот, кто вырастет побольше и вооружится пострашнее. Видимо, это «поняли» маленькие протоцератопсы, потому что внуки их выглядели уже куда внушительнее, а о праправнуках и говорить не приходится. Трицератопсы уже ростом с буйвола. Кинжал на носу. Два острых рога на голове и костяной воротник на шее. И все же им часто приходилось принимать бои. На их окаменевших черепах видны следы ран, полученных в древних битвах.
Главным врагом протоцератопсов в те времена оказался уже знакомый нам велоцираптор, что в переводе значит «быстроногий убийца». Его стопа опиралась на два пальца – третий и четвертый, а второй – та самая «петушиная шпора с когтем» – уже не касался земли. Велоцираптор был хорошим бегуном, хотя двигался только на задних ногах. Передними он схватывал и удерживал жертву. Пасть велоцираптора была усажена острыми крючковатыми зубами. Этот хищник вел очень активный образ жизни.
Протоцератопс, как и большинство растительноядных динозавров, передвигался на четырех ногах. Когти на пальцах его ног похожи на копыта. В пасти протоцератопса были зубы, которыми он уже мог перемалывать пищу. А челюсти его заканчивались крючковатым клювом, очень напоминающим клюв современных черепах. Из защитных устройств протоцератопс мог похвастать только костным «воротником», который прикрывал его шею. Но прочность этого воротника была явно недостаточна для защиты от врагов. У протоцератопса, в отличие от других рогатых динозавров, к которым он относится, даже рога приличного не выросло. И как теперь предполагают специалисты, этот маленький, почти бесполезный рог служил разве что турнирным оружием самцов, а может быть, просто их отличительным признаком. Понятно, почему рядом с хорошо вооруженным хищником протоцератопс выглядел совсем беззащитным.
Скелеты протоцератопсов найдены в пустыне Гоби. Иногда они образуют довольно большие скопления, где можно встретить особи длиною до двух и больше метров и совсем маленькие – около полуметра и меньше. Поэтому специалисты полагают, что протоцератопеы были стадными животными или собирались в стада на период размножения. Уплощенный с боков хвост заставляет предположить, что протоцератопсы могли хорошо плавать и, скорее всего, вели полуводный образ жизни.
Хищные велоцирапторы, скелеты которых чаще всего находят вместе со скелетами протоцератопсов, охотились на них и, вероятно, пожирали их яйца. Ведь протоцератопсы, как и все другие динозавры, откладывали яйца. Велоцирапторы были немногим больше своих жертв и поэтому предпочитали нападать либо на больных, либо на тех, кто значительно меньше их по размерам. А значительно меньше их были как раз молодые протоцератопсы.
Осталось только добавить кое-что о яйцах динозавров. Их кладки найдены в Гоби в большом количестве. Сейчас уже известно восемь типов яиц из позднемеловых отложений в Гобийской пустыне.
В 1971 году профессор Герберт Генрихович Мартинсон, исследуя осадочные толщи в тридцати километрах от городка Сайн-Шанд в Гоби, наткнулся на небольшую кладку продолговатых яиц. Кладка была сильно разрушена, и Герберт Генрихович собрал лишь обломки скорлупы. В Ленинграде он передал скорлупу Андрею Владимировичу Сочаве, который как раз занимался изучением этих таинственных яиц. Можно себе представить его радость, когда на внутренней поверхности скорлупы, под вуалью кристалликов соли, он обнаружил мелкие косточки эмбриона. После ювелирной препаровки у Сочавы не остается сомнений, что перед ним миниатюрные фаланги пальцев эмбриона. По мнению крупнейших советских авторитетов в области ископаемых рептилий, А. К. Рождественского и Л. И. Хозацкого, кости, скорее всего, принадлежали эмбриону хищного динозавра.