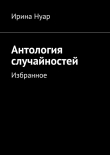Текст книги "Мир всем"
Автор книги: Ирина Богданова
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Поворот, ещё поворот, и я шагнула за кладбищенскую ограду, окунувшись в тишину и покой. Осень бросала под ноги охапки кленовых листьев. Пёстрыми ворохами они укутывали надгробные плиты и покосившиеся памятники. Прелая листва яркими сполохами устилала небольшие лужи после вчерашнего дождя. Пожухлая трава покорно склонялась перед наступающей зимой, зная, что весной возродится снова. Неподалёку от входа посетителей встречал мраморный ангел с отбитыми крыльями. Зияла чёрными прорехами разбитая часовня в готическом стиле. Я дошла до памятника на могиле Некрасова – высоком постаменте, увенчанном бюстом и надписью у подножия: «Сейте разумное, доброе, вечное. Сейте! Спасибо вам скажет сердечное Русский народ…»
Я и не знала, что Некрасов похоронен на Новодевичьем кладбище. «Стыдно, а ещё учительница», – сказала я себе, делая зарубку в памяти взять в библиотеке томик стихов Некрасова и перечитать. Через десяток шагов от могилы Некрасова в поле зрения обрисовался тёмный силуэт ещё одного бюста на чёрном гранитном камне – Сергей Петрович Боткин. Его имя известно любому ленинградцу благодаря больнице, которую по старинке именуют Боткинскими бараками.
Немного постояв в растерянности, я заметила движение в глубине кладбища, прямо напротив упокоения доктора Боткина. Там! Я сделала несколько шагов и замерла, настолько реальной казалась бронзовая фигура в простом хитоне, ниспадающем мягкими складками до каменного холода гранитного камня[6]6
Скульптор Пётр Осипович Кюфферле.
[Закрыть]. Он просто стоял, задумчиво опустив глаза долу, со спокойным смирением человека, готового без ропота принять свою судьбу. Позади высился огромный тёсаный крест и нагромождение камней, два из которых хранили на себе имя Анны Акимовны Вершининой и эпитафию. Я шёпотом прочитала: «Возьмите иго Моё на себя и научитеся от Мене, яко кроток есмъ и смирен сердцем, и обретите покой душам нашим».
Женщины в платочках тоже были тут. Одна из них обошла могилу, взобралась на камень и припала губами к бронзовой руке Спасителя. Другая, с горящей свечой, речитативом бормотала молитву. Разгоняя тучи, ветер со звоном перебрал верхушки вековых деревьев, чудом уцелевших в блокаду. Ранние сумерки накинули на памятники серые тени. Я подошла к постаменту Спасителя и поклонилась, уткнувшись лбом в ледяной гранитный камень.
– Мамочка, бабуся, я помню про вас! Каждый день помню, каждую секунду! Даже когда смеюсь, сплю или веду урок, вы всё равно со мной! Вы во мне, и так будет всегда. Я люблю вас, скучаю по вам! Если бы вы знали, как я скучаю! – Я подняла лицо к небесам. – Господи, помяни рабу Божию Марину и рабу Божию Евпраксию во Царствии Своём!
Мне казалось очень важным достучаться, докричаться до небес, с которых на меня смотрят родные глаза навсегда ушедших. В этот миг мне так яростно хотелось верить в бессмертие души, как на войне хотелось, чтобы наши скорее взяли Берлин и смели с лица земли нацистскую сволочь. Мёртвый могильный цоколь постамента медленно теплел от соприкосновения с моей кожей. Пусть бы всё тепло перетекло туда, в гранит и мрамор, лишь бы меня услышали, лишь бы увидели! Словно подарок, на моё плечо опустился багряный кленовый лист. Прижав его к щеке, я почувствовала, что он стал мокрым от слёз. Я и не заметила, что они ручьями текут по щекам. Дрожащими пальцами я расстегнула портфель и вложила лист в тетрадку с конспектами, чтобы сохранить на долгую память.
* * *
Декабрь на календаре с каждым оторванным листком приближал время к Новому году. Я стояла около витрины коммерческого магазина, с завистью глядя на коробку конфет с пурпурной розой на обложке. Слева от кондитерской роскоши сверкал кусочками бумажного сала огромный муляж колбасы размером со свиноматку. Справа высилась пирамида консервных банок с чёрной икрой и крабами, украшенная ярким флажком с призывной надписью «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы».
Крабов я никогда не пробовала и вполне допускаю, что они имеют непревзойдённый вкус, икру не любила, а конфетами с розой меня угощал директор школы Роман Романович. Может, зря я отказалась от угощения? Ничего бы не случилось, если бы я, исключительно из вежливости, взяла одну конфетку.
«Нет, ты всё правильно сделала», – похвалила я сама себя. Коробка конфет стоила сто шестьдесят рублей, а моя зарплата учительницы младших классов составляла четыреста пятьдесят. Причем почти на половину зарплаты в добровольно-принудительном порядке полагалось покупать Облигации внутреннего займа на восстановление народного хозяйства. Раз в месяц газеты печатали списки номеров облигаций с денежным выигрышем, но лично я таких счастливцев не встречала. С первой зарплаты в моей синей картонной папке накопилась уже несколько бумажек с рисунком электростанции, бодро прокручивающей в турбине бурные потоки воды. Оборотная сторона облигации сообщала, что погашать облигации Госбанк начнёт в тысяча девятьсот пятидесятом году. Через пять лет! За вычетом из зарплаты денег на облигации на руки я получала двести тридцать рублей. Как раз на коробку конфет и сто грамм колбасы.
Разница между нормированной торговлей и коммерческой не поддавалась сравнению в обыкновенном среднем уме наподобие моего. Если по карточкам вареная колбаса стоила шестнадцать рублей за килограмм, то в коммерческом аж двести пятьдесят. Рекорд било сливочное масло, которое стоило двадцать пять рублей против трёхсот семидесяти. Зато коммерческий магазин торговал без карточек – если есть деньги, покупай хоть полную сумку.
Из дверей магазина вышла девушка примерно моего возраста в пушистом пальтишке и модных ботиках с меховой оторочкой. В руках она держала увесистый свёрток, перевязанный бечевой. Описав дугу, её взгляд на миг задержался на моей потрёпанной шинели и армейских сапогах и полетел дальше, где с распахнутыми дверями её ожидал легковой автомобиль. «Виллис» тысяча девятьсот сорокового года выпуска – моментально отреагировала моя натренированная память военной регулировщицы.
«Богу Богово, а кесарю кесарево», – пробурчала я про себя, подумав, что коммерческие магазины разделили население по сортам, как говядину: есть филейная часть с вырезкой, а есть мослы да голяшки, которые на своих двоих в пехоте протопали до Берлина и яростно написали на Рейхстаге «Смерть фашизму!».
Прикинув, что коммерческий магазин мне точно не по карману, я потащилась в гастроном, куда были прикреплены мои карточки.
Вчера меня пригласила в гости Наташа Мохова – учительница третьего «А» класса. Мы подружились с ней на ускоренных курсах повышения квалификации. Наташа приехала из эвакуации из Ташкента и точно так же, как и я, долго не работала по специальности.
– Возьму у соседа патефон, девчонки принесут пластиночки, – уговаривала Наташа. – Потанцуем, поиграем в чепуху – не пожалеешь, веселье гарантирую. Стол делаем вскладчину, как, говорится, кто чем богат.
Поскольку мои богатства заключились в хлебной норме и крупах, то я решила прикупить в коммерческом что-нибудь вкусненькое к чаю. На счастье, в гастрономе талоны на сахар отоваривали конфетами-подушечками. Обычно подушечки имели свойство слипаться, и одну от другой приходилось отковыривать ножом. Но сегодня, о чудо, подушечки выглядели одна к одной, как с конвейера.
– Только что привезли свежую партию, – с видом заговорщицы известила продавщица, отмеряя мои положенные триста грамм. Это ещё народ не знает, что подушечки завезли, но ничего, сарафанное радио работает быстрее государственного.
Продавщица оказалась права, и когда я отходила от прилавка, позади меня змеилась длинная очередь.
– Граждане покупатели, готовьте карточки! – зычно выкрикнула продавщица и подмигнула мне на прощание. – Вас много, а я одна!
Перед тем как положить кулёк с подушечками в авоську, я отправила в рот одну конфету и улыбнулась: если отменят карточки и цены станут доступнее, куплю себе свежую булку, намажу маслом, посыплю сахаром и буду неспешно жевать, прихлёбывая чёрный байховый чай первого, нет, высшего сорта: ароматного, разваристого, восхитительного рыжевато-коричневого цвета. Правда, плиточный грузинский чай в магазине сейчас есть постоянно, так что не приходится, как прежде, заваривать сушёную морковь или черёмуховый цвет.
С конфетой за щекой я повернула в сторону дома.
– Антонина Сергеевна!
Спешно проглотив сладкую слюну, я замерла на месте, словно солдат, застуканный в самоволке. Меньше всего на свете я хотела бы слышать голос директора.
– Антонина Сергеевна, подождите! – Слегка запыхавшись, Роман Романович пошёл рядом, приноравливаясь к моему шагу. – А я шёл мимо, смотрю, знакомый профиль. Ходили в магазин?
Он покосился на сетку-авоську с покупками. Кроме подушечек в авоське лежал кулёк с пшённой крупой и двести грамм маргарина.
Я кивнула:
– Отоваривала карточки. Кстати, вместо сахара можно взять конфеты-подушечки, вам не надо? – Я осеклась, вспомнив коробку конфет с розой и моё твёрдое заявление, что я терпеть не могу сладкое.
– Я не сладкоежка, – сказал Роман Романович. – И вполне могу обойтись вообще без сахара. Но вот кофе, настоящий чёрный кофе с пенкой отведал бы с удовольствием. Я пристрастился к нему в студенческие годы, когда моему отцу сослуживец подарил несколько пачек превосходного кофе. До сих пор помню коричневые пачки с надписями на финском. В общем, за чашку кофе из медной турки я готов пожертвовать половиной царства.
В отличие от своей бабуси я не могу сказать, что я обожаю кофе, но его слова вызвали в памяти немецкую мызу, где нас расквартировали на одну ночь, и упоительный запах кофе, сваренного хозяйкой для нашего раненого комбата.
Роман Романович искоса глянул в мою сторону:
– А ту коробку конфет у меня в кабинете я купил специально для вас.
Не каждый день директора школ покупают учителям младших классов коробки конфет ценой в зарплату. У меня было такое чувство, словно мне швырнули за воротник пригоршню снега. Я заморгала глазами и уставилась на мостовую в надежде, что там обнаружится открытый люк, в котором Роман Романович немедленно исчезнет. Чтобы не выдать своей растерянности, промолчала, а после паузы перевела разговор на подготовку к новогодним праздникам. Роман Романович охотно подхватил, но его следующий вопрос поверг меня в ужас:
– Антонина Сергеевна, я хочу попросить вас стать Снегурочкой.
– Нет! – Я так истерично взвизгнула, что на нас оглянулась женщина с большой хозяйственной сумкой из полосатой клеёнки. – Ни в коем случае! Я не умею выступать перед публикой.
Прежде я пробовала свои силы в школьном драмкружке и до сих пор помню туман в глазах и деревянный язык, который отказывался произносить напрочь забытые фразы. Повторить тот ужас я не хочу! Я была близка к панике.
Мягкий голос Романа Романовича прозвучал с лёгкой укоризной:
– Но вы же учитель! Вы каждый день, можно сказать, выступаете у доски. Я посещал ваши уроки и наблюдал отличное владение коллективом. У вас хорошая дикция, и вообще… – Он на мгновение запнулся. – Вы идеально подходите на роль Снегурочки.
Однажды я уже была Снегурочкой. Это случилось зимой сорок третьего во время Ржевско-Вяземской операции. Красная армия наступала на Сычёвку. Шло непрерывное движение машин в обе стороны. На фронт подвозили боеприпасы и подкрепление, обратно шли машины с ранеными. Я регулировала движение в непосредственной близости от переднего края, когда на дорогу внезапно обрушился ледяной дождь. Ночь прорезали всполохи взрывов, машины буксовали и шли юзом. Ноги скользили и разъезжались в стороны, пот заливал глаза. Мне приходилось крутиться как веретено. Я охрипла от крика и полуослепла от прямого света фар. На мою шинель и ушанку налипло столько льда, что каждое движение требовало неимоверных усилий. Утром, сдав смену, я без сил притащилась в казарму и привалилась к стене.
– Снегурочка, – глянув на меня, сказала радистка Оля, – хоть сейчас в Большой театр.
– Так как насчёт Снегурочки? – повторил Роман Романович. – Даёте согласие?
– Лучше Бабу-ягу! – Я твёрдо сжала рот. – Да! Поручите мне роль Бабы-яги. Ведь наверняка сценарий предусматривает, что у Деда Мороза украли подарки или запутали след, чтобы он вовремя не пришёл к ребятам на ёлку. Без Бабы-яги тут никак не обойтись.
Директор как-то странно посмотрел на меня:
– В фантазии вам не откажешь, Антонина Сергеевна. Я утверждал сценарий новогоднего спектакля – Бабы-яги там нет, но есть злая старуха Вьюга, которая мешает пионерам и октябрятам делать добрые дела. Не думаю, что на эту роль встанет очередь из очаровательных учительниц. Скорее эта роль подошла бы нашему уважаемому завхозу.
Представив низенького квадратного Николая Калистратовича с густыми сросшимися бровями в образе Вьюги, я фыркнула:
– Спасибо за очаровательную, но уверена, что роль злой старухи мне по плечу.
– Вы стойкая девушка, – после паузы сказал Роман Романович, – с характером.
Я придала голосу шутливую интонацию:
– Мы, военные регулировщицы, все такие. Иначе не справишься с дорогой.
Как я ни старалась увильнуть от общения с директором, он проводил меня до подъезда и протянул руку на прощание:
– До завтра. На днях обязательно загляну к вам на урок. И не забудьте подойти к учительнице пения, она ответственная за новогодний спектакль.
* * *
Со мной часто бывает, что стоит о чём– нибудь упомянуть, как оно возникает в реальности. В этот раз наша коммуналка полнилась упоительным ароматом свежесваренного кофе. Забытая довоенная роскошь! Я несколько раз глубоко вдохнула, мигом представив себе, как в фарфоровой чашке медленно растворяется пара кусочков сахара– рафинада. Сначала белоснежный кубик пропитывается и становится светло-коричневым и рыхлым, а потом вбирает в себя цвет кофейных зёрен и распадается на кристаллы, которые приятно позвякивают, когда их размешиваешь чайной ложечкой. Запах кофе был неотделим от дома моей бабуси в Могилеве. Не знаю, где бабуся доставала настоящий кофе, думаю, что у польских спекулянтов, но каждое утро она начинала священнодействовать с крохотной туркой, то снимая её с горелки, то размешивая шапку карамельной пены, то осторожно переливая в миниатюрную чашку кузнецовского фарфора с росписью мелкими голубыми незабудками. Я помню бабусину улыбку, с которой она подносила чашку к губам, и её извечные слова после пары первых глотков:
– Единственная вредная привычка, которая осталась у меня от прежней жизни.
Хвала небесам, дохлая крыса на моём коврике не валялась. Я взяла ключ от комнаты с гвоздика на косяке и едва успела вставить в замочную скважину, как рядом возник Олег Игнатьевич. Он был одет в мягкую синюю блузу из вельвета и просторные льняные брюки. Наряд делал его похожим на свободного художника двадцатых годов, не хватало лишь банта на шее и живописно растрёпанной шевелюры.
– Антонина Сергеевна, я вас ждал!
– Неужели?
– Ждал, ждал, – он потёр руки, – и с большим нетерпением. Чувствуете волшебный запах? – Указательным пальцем он нарисовал спираль в воздухе. – Мне сделали презент, и я приглашаю вас в гости на чашечку настоящего кофе. – Он сделал большие глаза. – Бразильского, в зёрнах! Благо у меня в хозяйстве с давних времён обнаружилась кофемолка. Заходите без всяких церемоний, запросто, по-соседски. Мы ведь с вами, в сущности, ни разу не пообщались как следует. А самый лучший разговор, как известно, сопровождается чашечкой кофе.
– Да? И как нам следует общаться?
– По-дружески, дорогая Антонина Сергеевна. Исключительно по-дружески. – Он помог мне снять шинель и гостеприимно распахнул дверь своей комнаты: – Пока вы собираетесь, я заварю вам свежий кофе. Поверьте, я мастер кофейной гущи.
– Почему-то в последнее время выстроилась очередь из желающих меня угостить, – задумчиво сообщила я фарфоровой пастушке, вскользь подумав, что немка не знает русского языка.
Декабрьскую темноту разбавлял неяркий свет из окон дома напротив. В блокаду все окна стояли слепые, и от того, что город распахивает глаза, на душе установилась тихая радость.
Я подумала, что надо бы немного протопить печку, чтоб не замёрзнуть ночью, но с другой стороны, на фронте приходилось и в снегу спать. Но всё-таки пришлось признать, что после прогулки по улице я основательно продрогла, и чашка кофе оказалась бы кстати. Почему бы нет?
После недолгих колебаний я бегло провела расчёской по волосам и прошла к комнате Олега Игнатьевича.
Он переливал кофе из ковшика через ситечко в чашку. При виде меня его лицо просияло:
– Проходите, Антонина Сергеевна, располагайтесь, я сейчас. – Он споро обернулся и распахнул створки буфета. – У меня и конфетки есть.
На стол легла коробка конфет из коммерческого магазина с розой на крышке, и я едва удержалась, чтобы не застонать сквозь зубы. Он уловил моё настроение:
– Не любите сладкое?
– Терпеть не могу.
На этот раз мне почти не пришлось кривить душой. Не представляю, как можно съесть конфеты по цене, равной половине месяца работы от звонка до звонка, причём в буквальном смысле этого слова, имея в виду звонок на урок.
Олег Игнатьевич пожал плечами:
– Жаль. Я купил их специально для вас.
«Где-то я это уже слышала», – беззвучно проговорила я про себя, но всё же не удержалась и в кофе положила два кусочка рафинада – как бабуся.
Надо признать честно – варить кофе Олег Игнатьевич умел. Кофе был горьковато-терпкий, насыщенный, с пузырящейся пенкой. Сделав глоток, я почувствовала, как по горлу прокатилась волна приятной теплоты, и огляделась по сторонам.
Комнату Олега Игнатьевича отличал рациональный стиль обстановки под девизом «ничего лишнего». Кожаные диван и кресло, массивный стол тёмного дерева, такой же шкаф с резьбой на кокошнике и неожиданно выбившаяся из ансамбля кружевная салфетка на этажерке с книгами. Повернув ручку ретранслятора, Олег Игнатьевич включил радио. Негромкая классическая музыка настраивала на спокойную доброжелательную беседу.
Олег Игнатьевич вопросительно поднял брови:
– Антонина Сергеевна, вы любите танцевать?
Я не успела ответить, потому что романтический вечер перебил истошный вопль Гали:
– Пионе-е-ер! Чтоб тебя разорвало, наглая морда!
Моя рука с чашкой дрогнула. По коридору мимо нас простучали быстрые шаги, потом что-то грохнуло, и Галин голос вновь сорвался на фальцет:
– Ну, Пионер, поймаю – усы выдеру и хвост оторву!
– Если бы услышал кто-нибудь со стороны, то быть беде, – многозначительно бросил Олег Игнатьевич. – Всё-таки надо было назвать подлеца Мурзиком.
Я поставила чашку на стол, закрыла лицо руками и захохотала.
* * *
Время бежало так быстро, что конец декабря застал меня врасплох. Но сколько бы ни навалилось на меня работы, я постоянно держала в голове мысль, что до Нового года должна пойти ТУДА. Может потому, что мне снова приснилась бабуся. Правда, в этот раз она не пряталась за дверью, а шла по парку между белоствольных берёз. Я понимала, что не могу подойти к ней, но бабушка помахала мне рукой и улыбнулась. Вообще странно, что бабуся мне снилась, а мама никогда. Хотя я поминала их вместе и даже неуклюже, запинаясь и смущаясь подобно двоечнице у школьной доски, вечерами робко молилась за их души.
В этот раз я шла на Новодевичье кладбище как к родному порогу. Меня не смущали ни холод, ни обледеневшие ветки деревьев, которые яростно трепали порывы ветра.
Весь день я провела в радостном ожидании встречи, словно плутала среди болот и вдруг увидела горящий огонёк в окне дома, где тебя обогреют и успокоят. Я больше не оглядывалась тревожно по сторонам, а знала точно куда идти. И взгляды встречных посетителей смотрели понимающе ясно и чисто, принимая меня за свою.
То здесь, то там из снежных сугробов выступал холодный мрамор надгробий. Мрачные склепы отбрасывали на белый снег размытые чёрные тени. Я подумала, что пунктир протоптанной тропки напоминает путеводную нить, которая не даёт путнику заблудиться в сумраке стылого ленинградского декабря. Поёжившись в тонкой шинели, я увидела, как последний луч солнца вспыхнул и заиграл на медном хитоне фигуры Спасителя у могилы генеральши Вершининой.
На пятачке у надгробия снова стояли люди, и их общность дарила особенное чувство сопричастности к чему-то нужному и важному. Пожилой мужчина в ватнике, раскрыв молитвенник, нараспев читал по-старославянски. Две старушки прилаживали к постаменту пышные бархатные розы. Высокая женщина в платке стояла неподвижно и скорбно, как будто её саму отлили из бронзы. Мне казалось очень важным, чтобы мама с бабушкой увидели меня в эту минуту. Я подошла вплотную к постаменту, сняла варежку и коснулась ладонью ледяного гранита.
– Мамуля, бабуся, я помню о вас и люблю. Спите спокойно, мои дорогие, у меня всё хорошо.
Мы стесняемся выразить вслух затаённое на сердце, но здесь, рядом с фигурой Спасителя, слова любви произнеслись сами собой, с верой, что именно с этого места они будут услышаны там, на небесах, в холодном безмолвии нарождающейся ночи.
Старушки с розами перекрестились и ушли. Коренастая девушка с заплаканными глазами встала на колени прямо в снег и покаянно опустила голову. Я услышала негромкой шёпот:
– Господи, прости. Не ведала, что творила.
Поклонившись, я повернулась, чтобы уйти, как вдруг та женщина, что стояла неподвижно, широко шагнула в мою сторону.
– Тоня?
Я остановилась и всмотрелась в её лицо с тёмными кругами под глазницами и глубокими морщинами вокруг рта. Тоней меня называли только близкие, но эту женщину я определённо не знала, хотя блокада порой меняла людей до неузнаваемости. Её губы шевельнулись в бледном подобии улыбки:
– Не узнаёшь? Верно. Меня трудно узнать. Я мама Лены Воронцовой.
В моих мыслях пронеслись воспоминания о самой красивой девочке нашего класса, умнице и отличнице. Когда Лена шла по коридору, под её взглядом краснели даже отъявленные хулиганы, а все окрестные мальчишки мечтали нести её портфель или сделать любую глупость, лишь бы увидеть взмах густых ресниц, окружавших глаза-звёзды.
Кажется, маму Лены звали Серафима Яковлевна. Однажды я приходила к ним домой, и Серафима Яковлевна угощала меня компотом из сухофруктов и овсяным печеньем. В последнем классе семья Лены переехала на Охту, и больше мы не виделись.
Я подошла:
– Здравствуйте, Серафима Яковлевна. Теперь узнала. Не обижайтесь, война нас всех поменяла.
– Твоя правда, Тоня.
Она оперлась на мою руку, и мы медленно пошли по дорожке. Она то и дело спотыкалась. Я понимала, что надо спросить про Лену, но судя по почерневшему от горя лицу мамы, ответ угадывался без слов.
– Тоня, помнишь, как Леночка потеряла в грязи калошу и вы пытались её достать? – вдруг спросила Серафима Яковлевна.
– Конечно, помню. Мы тогда перепачкались, как две свинюшки, и маме пришлось ночью стирать моё пальто и штопать чулки на коленках. Мне тогда здорово влетело.
– А я Лену не ругала. – Голос Серафимы Яковлевны звучал безжизненно. – Я её никогда не ругала. И сейчас не ругаю. Бесполезно.
Я захлебнулась холодным воздухом:
– Так Лена жива?
– Жива. Но знаешь, иногда я думаю, что лучше бы умерла.
* * *
Пока мы с Серафимой Яковлевной дошли до трамвайной остановки, совсем стемнело. Кутаясь в воротники, редкие прохожие тенями проходили мимо. Остановка освещалась единственным фонарём, и свет выхватывал стальные нити рельс и часть здания на противоположной стороне улицы.
Чтобы задать вопрос, мне пришлось собраться с духом:
– Что случилось с Леной? Я могу помочь?
– Никто не может помочь. Только она сама. Да Лена с тобой и разговаривать не станет, – Серафима Яковлевна махнула рукой в овчинной варежке. – Пьёт она.
– Пьёт? Не может быть! – Я не могла поверить в сказанное. – Лена ведь умная, красивая. Как же так? Почему?
– Война покорёжила.
На остановку приехал мой трамвай, но я не поехала, а осталась стоять вместе с Серафимой Яковлевной.
Она отодвинулась подальше от фонаря и посмотрела поверх моей головы в чёрную перспективу Международного проспекта:
– Леночка в первые месяцы войны ушла на фронт зенитчицей. Сперва держали оборону со стороны больницы Фореля, у Кировского завода, а потом перебросили на Ладогу. Иногда ей удавалось передать мне несколько сухарей или пачку концентрата из сухпайка. Её помощью я и выжила. А зачем? – последняя фраза слилась с тоскливым воем ветра. – Её комиссовали по ранению, год назад. Сказали, ничего опасного, но надо время на выздоровление. Тут и понеслось. Сперва несколько раз в неделю приходила подвивыпивши, потом чаще, а тут ещё какое-то письмо получила, закаменела вся, ну и понеслось. Ты бы её видела! Не поверишь, по канавам валяется, если дружки под руки домой не приведут. Я уж и плакала, и на коленях перед ней стояла – всё бесполезно. Одна надежда на Бога осталась. Как думаешь, поможет?
Я погладила её по рукаву и честно призналась:
– Не знаю.
– Вот и я не знаю, но больше ничего сделать не могу.
Пока мы разговаривали, пошёл снег. Мелкие снежинки колючими иголками кололи лоб и щёки.
Серафима Яковлевна поправила платок на голове и глухо призналась:
– Я ведь неверующая была. Как на заводе в партию вступила, все материны иконы изничтожила. Помню, последнюю, с Богородицей, кинула в печку, а она от огня коробится и вроде как плачет. Может, Ленкина беда мне наказание? Может, это я виновата, когда вот так, в печку то, что деды-бабки пуще глаза берегли? Вот и вымаливаю прощение. – Она вздохнула. – Спасибо тебе, Тоня, что выслушала. Мне толком и поговорить не с кем, со знакомыми стыдно, соседи сперва сочувствовали, а теперь им Ленкины пьянки так надоели, что не здороваются. Вот и гибнем вместе: она от пьянки, я от горя.
Подошедший трамвай увёз Серафиму Яковлевну. Чтобы согреться, я потопала ногами и похлопала руками по бокам. В голове проносились воспоминания о школе. Вот мы собираем металлолом, и Лена с весёлым задором тащит в обнимку огромный самовар с помятым боком. А вот она в красном галстуке так читает со сцены стихи о героях Гражданской войны, что учительница русского и литературы украдкой плачет.
Спиться – значит потерять себя, свою душу, свой мир. Я много видела спившихся на станциях и полустанках. Трясущиеся и жалкие, они играли на гармошках, провожая эшелоны, стучали кружками в пивных, с пьяной злостью проклинали день, когда появились на свет, и ненавидели тех, кто пытался вытащить их из трясины. Представить гордость школы Лену в непотребном виде я не могла. Общение с Серафимой Яковлевной оставило тягостное впечатление. Невозможность помочь всегда теребит совесть тягостными мыслями.
На кладбище я больше не встречала Серафиму Яковлевну, но нет-нет да и вспоминала её застывшую позу с покаянно опущенной головой.
Через много лет, в начале шестидесятых, я увидела маму Лены около Елисеевского магазина. Шли летние каникулы. Тёплый день наполнил Невский проспект пёстрой толпой пешеходов. Шурша шинами по разогретому асфальту, мимо проезжали автобусы и легковушки. В Екатерининском садике пышно цвели кусты сирени. Бронзовая императрица Екатерина Вторая со скипетром в руке снисходительно взирала на суету у подножия её монумента.
Серафима Яковлевна копалась в сумке, перекладывая свёртки с продуктами. Рядом стояла девочка лет десяти и нетерпеливо переспрашивала:
– Бабушка, ты скоро?
Девочка была тоненькая, длинноногая, удивительно похожая на Лену в детстве.
Я подошла:
– Серафима Яковлевна? Вы помните меня? Я Тоня. Сразу после войны мы виделись с вами у могилы генеральши Вершининой.
– Тонечка! Ну конечно! – Просияв, Серафима Яковлевна защёлкнула замочком сумки и взяла девочку за руку. Хотя она постарела и поседела, но выглядела со спокойной уверенностью благополучного человека. – Как я рада тебя видеть! Пойдём, посидим в тенёчке.
Я любила бывать в Екатерининском садике: бездумно сидеть и смотреть на шахматистов с карманными шахматными досками, любоваться стройным зданием Александринского театра с летящей навстречу судьбе квадригой могучих коней Аполлона на портике над белоснежной колоннадой. Сразу за театром – моя любимая улица Зодчего Росси, завораживающая идеальными пропорциями вечной классики форм и цвета.
Серафима Яковлевна протянула внучке мелочь:
– Саша, поди купи два мороженых, пока мы с тётей Тоней поговорим.
Около лотка с мороженым стояла небольшая очередь. Розовое платьице Саши мелькнуло в водовороте людей, она встала в конец очереди и тут же заговорила с девочкой впереди себя.
– Такая болтушка! – Серафима Яковлевна сияла от гордости.
Я посмотрела на неё вопросительно:
– Это дочка Лены?
– Лены. – Она помолчала. – Я не верила, что чудеса случаются, но они есть. Я ведь наш с тобой разговор на остановке помню от первого до последнего слова. Я тогда уже неживая была – для любой матери пьянство ребёнка, да ещё дочери – конец света. И в Бога я тогда не верила. Ходила, молилась, а не верила.
– И что потом?
Серафима Яковлевна откинулась на спинку скамейки и глубоко вздохнула.
– Ишь, сирень-то как цветёт! – Она взглянула на меня. – А потом к нам в окно залетел дрозд. Это уже в начале лета было. Заму и весну Ленка пила без просыпу, и вот в июне, как сейчас помню, было двадцать второе – день начала войны, утром в стекло кто-то тук-тук-тук. Гляжу – птица. Я испугалась, говорят, примета плохая. Взяла полотенце, отогнать, а Ленка голову с подушки поднимет и говорит: – Не трогай, это ко мне его душа прилетела.
– Чья, – говорю, – душа? Что ты мелешь?
А у неё глаза после гулянки были мутные и вдруг стали ясные, как льдинки.
– Ничего ты, мама, не понимаешь! Это он на меня посмотреть хочет.
А меня такое зло взяло – снова её пьяный бред слушать, прямо прорвало:
– Не знаю, про кого ты говоришь, но пусть полюбуется, как ты колодой с разбитой мордой под столом валяешься. Пусть порадуется! Наверное, и сам такой.
Она аж подпрыгнула:
– Что ты, мама, да он в рот не берёт! Даже свои фронтовые сто грамм друзьям отдаёт. – Она замолчала и совсем тихо исправилась: – Отдавал. – А потом размахнулась и стукнула кулаком по столу, так что посуда подпрыгнула: – Капли больше не выпью. Ради его памяти.
– Я думала, пообещает не пить, а там до первой рюмки – сто раз уже через то проходила. Но нет. Неделю из дома не выходила: тряслась, завывала, головой об стенку билась, но выдержала. – Серафима Яковлевна смахнула со щёк слёзы и улыбнулась. – Ну а потом у нас другая жизнь началась, словно бы в комнате свет включили. Лена пошла работать на завод сперва рабочей, потом её в бригадиры выдвинули, а нынче уже мастер цеха. Замуж вышла, Сашку, вон, родила, – она кивнула на внучку. – Назвала в честь того, любимого, что на фронте погиб.
– Бабуля, я купила эскимо, а оно тает! Дай мне платок.
У подбежавшей Саши на носу красовалась шоколадная крошка, которую она пыталась слизать языком. Одно эскимо она успела распечатать, а второе опасно качалось в её руке, готовое вот-вот шлёпнуться на землю.