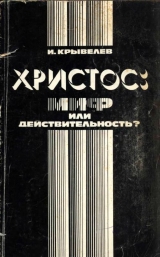
Текст книги "Христос: миф или действительность?"
Автор книги: Иосиф Крывелев
Жанр:
Религиоведение
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Может быть, эвгемеризм остался в греко-римском мире единичным и изолированным явлением? Буасье сообщает, что Энний перевел роман Эвгемера; с тех пор эта система сделалась вполне известной римлянам и была, кажется, принята ими беспрекословно. Римляне принялись наперебой очеловечивать своих богов. Не будем приводить имеющийся по этому вопросу обильный фактический материал, ограничимся лишь общей характеристикой римской религии этого периода, сделанной французским исследователем: «Все приняло в ней до невероятности точный вид. Казалось, самые невероятные выдумки не отличались здесь от самых достоверных рассказов…»[156]156
Ibid., p. 124.
[Закрыть]. Порожденные фантазией земные биографии богов не только передавались изустно, но и запечатлевались в литературных произведениях во всей своей конкретности, с массой деталей и жизненных реалистических штрихов. Обилие и точность биографических деталей, относящихся к земной жизни эвгемеристических богов, никак не уступает описанным в евангелиях элементам биографии Иисуса.
Отдельные явления истории идеологии, и в частности истории литературы, показывают удивительное сходство с христианством и с образом Христа, обнаруживаемое в дохристианской культуре. Дело в некоторых случаях доходит до того, что христианские богословы вынуждены признавать своими явления, безусловно, предшествовавшие христианству и имеющие совсем иное происхождение. Это относится, в частности, к одному произведению римского поэта I века до н. э. Вергилия.
Знаменитый автор «Энеиды» сделал содержанием IV эклоги своего сборника «Буколики» поэтическое возвещение предстоящего рождения некоего божественного младенца, несущего людям смену железного века золотым. Раннехристианская церковь считала IV эклогу почти или даже прямо христианским произведением. Блаженный Августин, цитируя некоторые места ее, утверждал, что они могли относиться только к Христу: к кому иному мог обратиться человек с такими словами?! На Никейском соборе император Константин в своей речи даже привел большие цитаты из Вергилия – ими он аргументировал тезис о божественности Христа. А может быть Вергилий действительно имел в виду самого основателя христианства?
Если не исходить из возможности чуда, то следует безоговорочно признать, что христианство здесь ни при чем. К тому же Вергилий предсказывал рождение чудесного ребенка на самый год написания эклоги, а Христос, если верить евангелиям, родился лишь через 40 лет. «Такая ошибка, – иронически отмечает Буасье, – была бы не извинительна для пророка…»[157]157
Ibidem.
[Закрыть].
Вергилий признан христианской церковью если не пророком, то, по меньшей мере, прозорливцем. В средние века он даже ставился в ряд с Моисеем, Исаией, Давидом и другими ветхозаветными персонажами, якобы предсказавшими рождение Христа. А на самом деле Вергилий лишь выразил широко распространенные идеи и чаяния своего времени. И конечно, такие литературные произведения, как его IV эклога, сыграли известную и, может быть, немалую роль в подготовке идеологических условий для распространения учения о новом мессии.
Если случай с IV эклогой доставил немало хлопот отцам церкви, то еще более трудным оказалось объяснить многочисленные другие случаи совпадения евангельских сказаний с мифами более древнего происхождения. Они видели необходимость как-нибудь объяснить такой конфузный факт, по существу дискредитирующий идею не только уникальности, но даже просто независимого оригинального происхождения христианства И вот. например. Фирмик Матерн утверждал, что язычники пытаются подражать христианству в своих культах и подменять богооткровенные истины этой религии своими нечестивыми россказнями. При этом он, конечно, отвлекался от факта, который и тогда уже был всем известен, что «язычество» куда древнее христианства, так что если здесь и имеет место подражание, то совсем противоположного порядка. Тертуллиан объяснял компрометирующее единоспасающую христианскую веру положение кознями дьявола: он, враг рода человеческого, распространял среди своих приверженцев воззрения предвосхищающие христианство, специально в целях дискредитации последнего. Этого уж, конечно, ничем не опровергнешь… Но для научного рассмотрения вопроса вряд ли кто-нибудь примет всерьез такое объяснение.
Надо указать на один элемент древних культов, который мог в еще большей мере облегчить тогда восприятие легенды о Христе, – в этих культах было обычным делом приношение отцом своего сына в жертву божеству Общеизвестен культ финикийского бога Молоха, медная статуя которого питалась сжигаемыми в ее раскаленном чреве детьми. В Ветхом завете сохранились многочисленные указания на приношение в жертву детей, особенно первенцев, практиковавшееся не только у соседей Иудеи и Израиля, но и у самих древних евреев. То, что современному человеку может показаться до несуразности удивительным в воззрениях людей древности, для них в силу привычности таких взглядов было вполне нормальным и приемлемым. Нам, например, кажется более, чем странным представление, что бог приносит в жертву своего сына, тем более, что непонятно, кому он его приносит. А тогда это должно было восприниматься, как нечто довольно обыденное, ибо так уж повелось, что глава семьи в нужных случаях прибегает к этому культовому приему.
Посвятивший этому вопросу специальное исследование под названием «Страдающий бог в религиях древнего мира» М. Брикнер проводит ряд аналогий между древневосточными религиями и христианской легендой об Иисусе, из которых отметим следующие: 1) и там и здесь «в центре поклонения и культа стояла вера в смерть и воскресение бога спасителя, подчиненного высшему богу», а в некоторых из этих религий спаситель считался сыном высшего бога; 2) и здесь и там «смерть и воскресение бога имеют для верующих спасительное значение» – верующие рассчитывают получить в результате этой деятельности спасителя возможность собственного воскресения для вечной жизни; 3) даты смерти и воскресения богов-спасителей во многих случаях приходятся, как и в евангельской мифологии, на весну, а воскресение божества происходит на третий или четвертый день после его смерти[158]158
M. Bruckner. Der sterbende und auferstehende Gottheiland in den orientalischen Religionen und ihr Verhaltniss zum Christentum. Tubingen, 1908.
[Закрыть].
Эти аналогии приобретают тем большее значение, что соответствующие культы были распространены особенно в тех местностях, где зафиксированы наиболее ранние христианские общины. Такой факт означает, что население этих местностей было исторически подготовлено не только к восприятию легенд, связанных с Христом, но и, может быть, к самостоятельному мифотворчеству в том же направлении.
Что же касается иудеев, то и для них восточные культы умирающего и воскресающего спасителя отнюдь не были чем-то новым и неслыханным. В Ветхом завете имеется много следов знакомства евреев с этими культами и с лежавшими в их основе мифами. У пророка Иезекииля упоминаются «женщины, плачущие по Фаммузе», т. е. по Таммузу. И занимаются они этим делом в самом неподходящем месте – у ворот Соломонова храма. Языческий культ проник, таким образом, в самую цитадель иудаизма. В Ветхом завете, помимо того, имеется еще много указаний на «идолопоклонство», с которым пророки, разумеется, ведут неустанную борьбу. Даже царь Соломон поддался искушению и через своих чужеземных жен приобщился к языческим культам. И другие цари иудейские и израильские, как свидетельствует Ветхий завет, неоднократно совращались в грех поклонения языческим богам. Следовательно, и для иудеев мифы об этих богах, в частности те, которые были связаны с погибающими и воскресающими спасителями, к началу нашей эры не могли быть неизвестны.
Из сказанного не вытекает, что христианское учение об Иисусе просто позаимствовано в одной из более древних религий. Это был бы неправильный вывод. Сказания и легенды, в которых нам предстает образ Иисуса Христа, возникли как комплекс представлений новой религии, вызванной жизнью, социально-историческими и прочими условиями. Важно лишь иметь в виду, что, во-первых, строительным материалом для этого нового идеологического комплекса могли служить давно ставшие привычными для народных масс представления и что, во-вторых, порождения религиозной фантазии раннего христианства, работавшей в том же направлении, ложились в привычную колею старинных, давно вошедших в обиход народных верований. Человеку второй половины I века н. э. не казались странными и удивительными идеи мессианизма, как и образы богов-царей, спасающих человечество. И когда общественно-историческая обстановка обусловила соответствующее идеологическое состояние, мессианские чаяния обездоленных и исстрадавшихся в реальной жизни людей находили уже готовые формы, отправляясь от которых, их фантазия могла строить дальше. Здесь сыграли свою роль ветхозаветные мессианские учения и многие верования и представления народов Древнего Востока и греко-римского мира.
Для создания синкретического образа мессии большого международного размаха и огромной впечатляющей силы религиозная фантазия народов Средиземноморья к первым векам нашей эры имела вполне достаточно строительного материала в дохристианских верованиях древности, и прежде всего в иудаизме. Нужны были только соответствующие социально-исторические условия, которые толкали бы ее к работе в этом направлении. А в них недостатка не было.
У всех народов Римской империи, порабощенных могучей рабовладельческой державой, условия общественно-исторического бытия складывались таким образом, что мессианские представления и легенды имели для своего развития чрезвычайно благоприятную почву.
Железное ярмо римского господства сковало многочисленные народы так, что у них не оставалось никакой надежды на освобождение реальными земными средствами. Поражения национально-освободительных движений и рабских восстаний создавали ощущение полной безнадежности вооруженного сопротивления. Оставалось надеяться только на помощь сверхъестественных сил. И пышным цветом расцветают в этот период мессианские культы на всей территории Римской империи. Ряд исторических обстоятельств привел к тому, что из всех этих культов наиболее приспособленным к укоренению и распространению среди широких масс населения Римской империи оказался иудейский мессианизм.
Легенда о Христе и связанный с ней культ были первоначально одним из вариантов иудейского мессианизма. Он не имел успеха среди евреев, ибо слишком силен был среди них дух ожидания обещанного пророками реального мессии-воителя, деятельного и храброго божьего посланца, под водительством которого рано или поздно избранный народ добьется своих целей. Но перебросившись в среду «иноплеменных», Иисусов вариант иудейского мессианизма очень быстро захватил широкие массы. Для этого он должен был претерпеть такие существенные изменения, что по существу перестал быть иудейским. И прежде всего он должен был фактически расстаться с концепцией избранности Израиля, превратившись в космополитическое религиозное учение. Должна была измениться и самая мотивировка мессианского спасения человечества.
Если в основе специфически иудейского мессианизма лежало положение, что мессия придет спасать избранный народ от последствий тех грехов, которые он совершил против избравшего его бога Яхве, то в нееврейской среде мессианская идея должна была найти другое выражение. И оно было найдено в учении, что все люди страдают из-за лежащего на них проклятия первородного греха и что мессия явится не в порядке примирения иудеев с Яхве, а в порядке искупления последствий греха Адама и Евы, с целью примирения всего человечества с универсальным вселенским богом. Одновременно с этим произошли такие изменения в культе, которые облегчили неевреям возможность присоединения к новой религии: были упразднены многочисленные пищевые и прочие запреты иудаизма, отменено обрезание. В итоге новая религия полностью порвала свою связь с иудаизмом.
Распространение христианства среди многочисленных народов Римской империи вызвало и ассимиляцию многих бытовавших у этих народов мифологических сюжетов, многих религиозных представлений, многих обрядово-культовых форм. И прежде всего это сказалось на иудейском по своему первоначальному происхождению образе мессии – Иисуса. На него стали наслаиваться, с ним стали переплетаться элементы образов и культов местных богов-спасителей, страдающих, умирающих и воскресающих богов. В итоге получился сплав большого количества элементов, составивших в целом образ Иисуса Христа.
Основой этого сплава являлся все же иудейский мессия, учение о котором было в общем виде достаточно противоречиво и туманно сформулировано в Ветхом завете. Об этом говорит то обстоятельство, что евангельское жизнеописание Иисуса самым активным образом опирается на ветхозаветные пророчества о грядущем приходе мессии.
Помимо общей идеи, из Ветхого завета прямо взяты многие отдельные штрихи и детали евангельских повествований. Иисус вступает в Иерусалим на ослице и молодом осле (Матф., XXI, 5). Как мы уже говорили, само по себе немного непонятно, как можно сидеть верхом сразу на двух животных. Но источник этой странной картины обнаруживается в книге пророка Захарии: «Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (IX, 9). В тех возгласах, которыми народ встречает «сына Давидова», – «благословен грядущий во имя господне», – повторяется один текст из псалма, гласящий буквально то же самое (Пс., CXVII, 26). Знаменитые тридцать сребреников, за которые Иуда предал Иисуса, предвосхищены у пророка Захарии: «И они отвесят в уплату мне тридцать сребреников» (Зах. XI, 12). Даже то употребление, которое нашел Иуда для этих денег – «бросил в храме», – мы находим у того же Захария, где сказано, что по совету бога «взял я тридцать сребреников и бросил их в дом господень…» (13). Слова Иисуса на тайной вечере – «один из вас, ядущий со мной, предаст меня» – перекликаются с псалмом, гласящим: «Даже человек… который ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (Пс., XL, 10). В сцене распятия Иисуса тоже много такого, чему имеются прецеденты в Ветхом завете. Иисусу на кресте дают пить «уксус, смешанный с желчью», а в псалме сказано: «Дали мне в пищу желчь и в жажде моей напоили меня уксусом». (Пс., LXVIII, 22.) Предсмертные слова Иисуса на кресте прямо взяты из псалмов: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» (Пс., XXI, 2). Фантастические картины Апокалипсиса тоже в некоторых случаях оказываются заимствованными из Ветхого завета и прежде всего из книги пророка Даниила. Так, например, зверь с семью головами, десятью рогами, десятью диадемами и богохульными именами, а также барс с медвежьими ногами и львиной пастью прямо взяты оттуда.
Эти совпадения можно толковать и по-иному. Для церковников и консервативных богословов здесь есть повод к тому, чтобы восславить мудрость ветхозаветных пророков, которые предвидели и предсказали имеющее произойти через несколько столетий. Но при научном подходе к вопросу такое его решение не может считаться приемлемым. Здравый человеческий рассудок требует сделать довольно элементарное, но очевидное умозаключение: одни документы написаны раньше, другие – значительно позже, первые были хорошо известны авторам вторых, и если в тексте есть совпадения, то значит, одни просто позаимствовали у других. Поэтому не так уж далеки от истины те историки и оперирующие научными методами богословы, которые считают, что при создании евангельской биографии Иисуса Христа были во многом использованы тексты Ветхого завета. Современный протестантский богослов Мартин Дибелиус сказал по этому поводу, что тексты Ветхого завета «творили историю», т. е. история самого Иисуса прямо построена на ветхозаветном тексте. Это надо признать в какой-то мере преувеличением, ибо помимо Ветхого завета было немало и других источников, которыми, видимо, питалась фантазия авторов новозаветных повествований.
Да и сама ветхозаветная идеологическая и вероисповедная система воспринималась к началу нашей эры не только в ее традиционном и буквальном смысле, но и в том аллегорическом значении, которое ей стали придавать со времен Аристобула и которое получило особое развитие в сочинениях Филона Александрийского.
Энгельс в согласии с Бруно Бауэром называл именно Филона отцом христианства. Каков мог быть вклад, который сделал Филон в формирование образа Иисуса Христа?
Основная религиозно-философская установка произведений Филона была гностическая. Одна из главных же идей гностицизма заключалась в том, что так как бог в силу своей безмерной возвышенности не имеет непосредственного отношения к низменному и презренно-грубому материальному миру, то связь между ним и миром осуществляется через некие посредствующие силы, одновременно плотские и духовные, таинственным образом исходящие от бога. В этих «гипостазиях», «зонах», «идеях» (по платоновской терминологии) воплощалась та или иная сторона или свойство бесконечного и непостижимого божества, принимая телесную, доступную для восприятия людей оболочку.
Наиболее популярными в разных течениях гностицизма были зоны или гипостазии, известные под греческими названиями София (мудрость) и Логос (слово). Понятие Логоса играло особенно большую роль в гностическом философствовании Филона. Именно Логос являлся у Филона посредником между богом и людьми, он характеризовался им как истолкователь божьих предначертаний, наместник бога, посланник его, первородный сын божий, а иногда и бог или второй бог. Эта концепция достаточно ярко отразилась в Евангелии от Иоанна, которое и начинается ссылкой на Логос – слово, которое «было у бога» и которое «было бог».
Логос – не человек, а некая мистическая сущность, сама по себе бестелесная. Но она может по велению бога воплощаться, облекаться в плоть, в человеческое тело. В этой его особенности открывалась возможность влияния гностических идей на мессианское учение. Мессия под этим влиянием легко превращался из человека, хотя и облеченного высшими полномочиями, но все же человека, в сверхъестественную сущность, лишь принявшую телесные формы. Соответственно изменялся самый характер ожидания людьми прихода мессии.
В тот сплав разнородных элементов, который составил образ Христа, иудейский гностицизм вложил свою лепту. Но его представление о мессии как Логосе, в своем чистом виде не могло составить основу этого образа. Для религиозно-мифологического представления оно было слишком философски утонченным и туманно бесплотным. Религиозное сознание масс требует образной конкретности, а не метафизических абстракций. Поэтому гностический Логос мог проникнуть в христианство только в переработанном и огрубленном виде. Энгельс указал на это существенное обстоятельство, говоря, что «христианство произошло именно из популяризированных филоновских представлений, а не непосредственно из произведений самого Филона»[159]159
К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, с. 309.
[Закрыть]. Он несколько раз подчеркивал «опошленную, вульгаризированную форму», которую приняли в христианстве гностические воззрения эллинистической философии, и настаивал вместе с тем на том, что при исследовании проблемы происхождения христианства их необходимо учитывать.
Для ортодоксального иудаизма обожествление человека было невозможно, ибо с точки зрения Ветхого завета это являлось бы неслыханным кощунством. В форме модернизированного для той эпохи филоновского иудаизма это выглядело как обожествление не конкретного существа, а абстрактного Нечто, исходящего из бога и заключенного в самом боге. При помощи таких построений «облагораживались» и могли делаться в какой-то мере приемлемыми для иудеев языческие представления о богочеловеках, призванных спасти род людской. Но только в какой-то мере, притом, как показала история, в небольшой мере, ибо христианство у евреев так и не привилось. Ему пришлось искать среду для своего распространения среди других народов Римской империи. Известно, что ему в полной мере удалось найти ее там.
Так «сплавлялись» в более или менее единый образ Иисуса Христа разнообразные черты религиозно-мифологических представлений разных народов о мессии-спасителе. Мы сказали о более или менее едином образе Христа, имея в виду, что по-настоящему единым он не стал. Зияющие в нем внутренние противоречия ярко демонстрируют многообразие источников его происхождения. Но все же в общем итоге получилось нечто новое – зафиксированный и канонизированный впоследствии в священных книгах и в догматике христианской религии евангельский Иисус Христос.
Его облик, как мы видели, не вырос на пустом месте, он был подготовлен всем предшествовавшим развитием. Таким же образом было подготовлено и его учение. Приписываемое ему евангелиями предсказание близкого конца света и связанные с ним призывы к покаянию, проповедь пренебрежения земными благами во имя заботы о спасении души в будущем царстве, враждебное отношение к богатству и богатым, любовь к ближнему и непротивление злу насилием в качестве основы морального кодекса – все это было уже в предшествовавших христианству религиозно-общественных движениях и учениях.
В романе португальского писателя Эса де Кейроша «Реликвия» раввин Гамалиил говорит о христианстве:
– Ну что во всем этом нового, что особенного? Или ты воображаешь, что назаретский равви извлек эти догмы из глубин своего сердца? Но ими полно наше вероучение!.. Хочешь услышать о любви, милосердии, равенстве? Прочти книгу Иисуса, сына Сираха… Все это проповедовал твой друг Иоканаан, который кончил столь печально в застенках Махерона (имеется в виду Иоанн Креститель. – И. К.)[160]160
Эса де Кейрош. Реликвия. М., 1963, с. 211.
[Закрыть].
Действительно, раввин Гиллель, например, живший как раз в I веке н. э., проповедовал мораль, чрезвычайно близкую к духу нагорной проповеди. Известно, что, когда у него спросили, в чем суть того вероучения, которого он придерживается, Гиллель ответил:
– Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы было сделано тебе. В этом весь закон, все остальное – лишь комментарий.
Но Гамалиил не напрасно упомянул о язычниках, хотя и сопроводил это упоминание презрительной оговоркой. И у них основы евангельской морали были до евангелий сформулированы достаточно четко. Вспомним в этой связи о римском философе-стоике Сенеке, которого Энгельс именно поэтому называл дядей христианства. Этот царедворец Нерона проповедовал мораль притчи о богатом и Лазаре, хотя сам был скорее богачом из этой притчи. Независимо, однако, от личных побуждений Сенеки, который был, несомненно, выдающимся образцом лицемера, его этическое учение мало чем отличается от евангельского. А кстати сказать, вряд ли не только современные, но и многие древние проповедники последнего в отношении лицемерия и расхождения слова с делом во многом уступали Сенеке…
В общем итоге мы видим, что строительного материала для создания образа Иисуса накопилось к началу нашей эры в общественной мысли разных народов вполне достаточно. Этот материал мог быть использован религиозной фантазией для обогащения облика действительно существовавшего человека, из него мог быть создан и мифологический образ. Первую из этих возможностей мы выше разбирали достаточно обстоятельно. Более правдоподобной мне представляется вторая.
Наиболее вероятным местом возникновения христианской легенды надо считать не Палестину, а одну из стран иудейской диаспоры – скорей всего Египет или Малую Азию. Первая по времени появления книга Нового завета – Апокалипсис – обращена к семи христианским общинам, находившимся в Малой Азии. Самые древние обрывки евангельских рукописей, имеющиеся в распоряжении ученых, обнаружены в Египте. Нет никаких доказательств того, что книги Нового завета были первоначально написаны на древнееврейском или арамейском языках, известен только их греческий текст, причем язык, которым они написаны, изобилует арамеизмами и гебраизмами. Это может свидетельствовать лишь о том, что их авторы были евреями, жившими вне Палестины, в пределах распространения эллинистической культуры, что они овладели языком этой культуры, но не настолько совершенно, чтобы их еврейское происхождение не давало себя чувствовать. Возражение, исходящее из того, что в Иудее греческий язык мог быть тогда в достаточной мере известен, так что книги Нового завета могли быть и там написаны по-гречески, не имеет силы: в Иудее того времени писали именно на арамейском, а не на греческом языке, тем более если соответствующие произведения предназначались для распространения в народных массах, которые, конечно, по-гречески читать не умели.
Представим себе идеологическую обстановку в городах еврейской диаспоры начала нашей эры. Главным мотивом, определявшим самый дух этой обстановки, было напряженное ожидание прихода мессии, связанное с надеждами на радикальное изменение всего существующего порядка, на восстановление иудейского царства в наибольшей его мощи и славе. Сердца и души изгнанников и эмигрантов были обращены к Иудее и Иерусалиму, ибо именно там должен был появиться из рода царя Давида мессия-Христос. Время от времени оттуда проникают смутные и волнующие слухи о том, что он уже пришел или вот-вот собирается прийти. Каждый раз эти слухи оказывались не подтвердившимися или не осуществившимися. Они обманывали надежды заждавшихся людей, но все же не убивали эти надежды, ибо слишком сильно было стремление людей к мечте о благоденствии и свободе, об избавлении от национального и социального гнета. На смену одним слухам и легендам приходили другие. Одни из них оказывались нежизнеспособными и скоро дискредитировали себя своим неправдоподобием или своим несоответствием идеологическим запросам времени и места; они забывались и бесследно исчезали. Другие укоренялись, находили все большее количество приверженцев, а фантазия вновь примыкавших оснащала и обогащала первичную легенду новыми элементами и деталями. В порядке своего рода «естественного отбора» выжила и одержала в дальнейшем триумфальную победу легенда, связанная с именем Иисуса Христа.
В чем была та ее сила, которая дала ей возможность пустить такие мощные корни?
Христианская легенда обладала той притягательностью, которая заключалась и во всех других мессианских легендах: она давала надежду на выход из, казалось бы, безвыходного положения. Но у нее была еще одна особенность, которая обеспечивала ей важнейшее преимущество: она не поддавалась проверке жизненной практикой. Любой персонаж, претендовавший на мессианское достоинство, должен был доказывать правомерность своей претензии реальными делами, военными или какими-нибудь другими победами, теми или иными достижениями, которые могли бы свидетельствовать о том, что, наконец, осуществляется воля Яхве, решившего помиловать, спасти и возвеличить свой избранный народ. И когда из далекой Иудеи приходили сведения, что очередной мессия потерпел поражение и дело его пропало, наступал конец и его легенде. Если в основе этой легенды лежал вымышленный персонаж, то практика почти столь же неотвратимо приводила к его развенчанию: шли годы и десятилетия, все глуше становились слухи о нем, ничем реальным его мнимая деятельность не обнаруживалась, и легенда умирала естественной смертью. По-иному сложилась судьба легенды о Христе.
Главным элементом ее содержания было положение о том, что мессия должен в реальном видимом мире не победить, а погибнуть. «Окончательный расчет» с лежащим во зле миром должен наступить лишь в будущем. К ожиданию этого будущего людям было не привыкать – на таком ожидании построена вся мессианская идеология. Но здесь было уже не только ожидание. Легенда давала и видимость какого-то осуществления, чего-то уже свершившегося, но в то же время оставляла место для надежды, которая была тем более живуча, что проверить достоверность того свершившегося, на чем она покоилась, не было возможности.
Если бы христианская легенда возникла в Палестине, то в случае ее мифичности она могла быть легко разоблачена: обязательно требовались бы свидетели и очевидцы, участники и «болельщики» событий, а люди, находившиеся в соответствующие моменты в Иерусалиме и других пунктах, где, как гласит легенда, разыгрывались события, могли легко ее опровергнуть, – ничего, мол, такого не было в это время в этом месте. Но если рассказывается о том, что происходило в отдаленной Палестине ряд десятилетий тому назад, то нет возможности проверить достоверность этих рассказов. Родился (чудесным способом!), проповедовал, творил неслыханные чудеса, подвергся преследованиям, был распят, воскрес, вознесся на небо – как это все можно проверить, если оно происходило за тридевять земель и в довольно неопределенное время? А то, что в этой легенде может быть проверено, должно состояться лишь в будущем. Остается верить и ждать.
Здесь, правда, легенда имела свою ахиллесову пяту. Второе пришествие Христа «во всей славе своей» было обещано в качестве чрезвычайно эффектного события, долженствующего произойти в самом близком будущем, при жизни этого самого поколения. То, что оно никак не наступало, могло в сильнейшей степени подорвать новую веру. С момента возникновения самых основ христианской легенды до ее оформления в законченной догматической системе прошло несколько поколений, а второе пришествие так и не наступало. Вероятно, немало последователей нового учения под влиянием этого факта отступилось от него. Но многие, может быть, их было большинство, а не исключено, что и меньшинство, лишь укрепились в своей вере и в ожидании. На помощь приходили соображения и аргументы, которые нередко и сейчас спасают скандально провалившиеся пророчества: не так истолковали сказанное, ошиблись в расчетах сроков и т. д. Как известно, адвентисты до сих пор не теряют веры в скорое светопреставление, несмотря на все конфузы с его точно исчисленными датами. Уязвимое место христианской легенды оказалось в общем не таким уж опасным.
Легенда о мессии, родившемся и погибшем в далекой Иудее, могла возникнуть и распространиться среди иудеев диаспоры «из ничего» в том смысле, что ее основой не был реальный исторический человек. А появившись у евреев диаспоры, она могла очень быстро перекинуться в среду тех народов, с которыми они находились в постоянном экономическом и культурно-идеологическом общении.
А. Робертсон правильно отмечает, что «евреи и не евреи не находились в изоляции друг от друга и ежедневно общались в средиземноморских городах, где еврейские бедняки рассказывали видение о грядущем мессии, приноравливая его к мечтаниям бедняков не евреев о боге-искупителе, восторжествовавшем над смертью»[161]161
A Robertson. Op. cit., p. 76–77.
[Закрыть]. В непрестанной миграции идей среди народов эллинистического культурного круга легенда о Христе с каждым десятилетием завоевывала все большие массы приверженцев, заодно непрерывно обогащаясь всем тем, что новые последователи привносили в нее из собственного жизненно-исторического и религиозного опыта.








