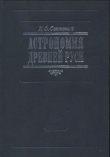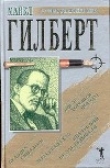Текст книги "Иммануил Великовский"
Автор книги: Ион Деген
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
9. ХАИМ ВЕЙЦМАН И ХАИМ БЯЛИК
Структура «Scripta» была весьма сложной с издательской точки зрения. Статьи в каждом номере должны быть напечатаны на языке оригинала, то есть, на одном из европейских языков, и в переводе на иврит. Учитывая это, даже выбор типографии представлял немалую проблему. Но еще труднее было найти переводчиков на иврит, которым предстояло осуществить весьма нелегкую работу, если учесть, что в древнем иврите не существовало терминов соответствующих современному уровню математики и физики.
В конце концов, Великовский остановил свой выбор на типографии в Лейпциге. Это еще больше осложнило его жизнь, так как значительную часть постоянно дефицитного времени занимали поездки из Берлина в Лейпциг и обратно.
Штат переводчиков был полностью укомплектован к началу сентября 1922 года.
Вскоре Великовский сообщил отцу: успешно продвигается работа по созданию второго тома «Сфатейну» – того самого, первый том которого Шимон Великовский издал еще Москве. И это – несмотря на невероятную загрузку, связанную со «Scripta».
Трудоспособности Великовского действительно не было предела. Работу ответственного секретаря, координатора и издателя крупного многоотраслевого научного журнала он совмещал с посещением лекций на биологическом факультете Берлинского университета. Несколько позже в дополнение к этому он стал слушателем исторического и юридического факультетов. Но и это – не все!
Редакция «Scripta», состоявшая из Великовского и помогавшего ему Генриха Леве, приступила к изданию монографий на иврите. В основном это были переводы с европейских языков. Однако вскоре появились и оригинальные работы. Ассистент Эйнштейна, доктор Громмер, предложил Великовскому написанную им на иврите, которым он владел в совершенстве, «Теорию относительности» – изложение теории Эйнштейна. Так постепенно пополнялась библиотека еще не существующего еврейского университета в Иерусалиме.
Производственным помещением редакции «Scripta» служила небольшая жилая комната, которую Великовский снимал в пансионате. Все чаще и продолжительнее в ней стала бывать второй помощник Великовского – Элишева Крамер. Сортировка писем, отправление корреспонденции, учет работы, выполняемой типографией, и многие другие обязанности легли на ее плечи. И все это – безвозмездно, в редкие свободные часы, а затем и в ущерб исполнительской и преподавательской работе.
Тонкий психолог, Великовский на сей раз не разглядел истинной последовательности событий. Он считал, что общность идеи и интересов медленно приближает к нему Элишеву, потому что именно такое происходило с ним. Ему и в голову не приходило, что восхищение трудолюбием дорогого ей человека, желание помочь ему приблизило Элишеву к сионистской идее.
Как бы там ни было, но осенью 1922 года Великовский мечтал приехать в Эрец-Исраэль с женой Элишевой. Правда, сказать ей о своей мечте он никак не решался, не зная, как девушка отреагирует на это. Он боялся оказаться в положении отвергнутого молодого человека, претендующего на то, что ему не полагается «по чину».
Чиновники в почтовом отделении, расположенном неподалеку от пансионата уже привыкли к высокому широкоплечему доктору Великовскому. С поселением здесь этого симпатичного иностранца почти удвоился объем работы их отделения. Всегда корректный, спокойный, аккуратный, он пользовался неизменным расположением у служащих. Но никогда еще они не видели доктора таким возбужденным и светящимся, как в то утро одного из первых дней октября 1922 года, когда Велиовский вошел в почтовое отделение, буквально сгибаясь под тяжестью трех больших посылок.
Все пакеты содержали книги, отправляемые в Палестину. Книги были тщательно упакованы, и доктор доверил их, как большую ценность, только заказной почте. Еще бы! Ведь в посылках находились книги, подаренные тель-авивской гимназии Альбертом Эйнштейном. На каждой – его автограф!
Радости Великовского, действительно, не было предела. Мало того, что книги с автографом Эйнштейна сами по себе – драгоценный подарок, они – свидетельство того, что большой ученый не просто симпатизирует их идее, а сам становится одним из ее приверженцев.
В дополнение ко всему, в одну из посылок Великовский положил полученный из Москвы экземпляр первого номера журнала «Сфатейну», уже в ту пору ставший библиографической редкостью. Великовский представлял, как обрадуется этому подарку отец: журнал был его детищем в пору сионистской деятельности в Москве.
За полгода, проведенные в Германии, Великовский познакомился со множеством людей.
Он встречался с выдающимися учеными, литераторами, еврейскими писателями и поэтами, сионистами и противниками сионистской идеи. 18 января 1925 года Великовский встретился с Хаимом Вейцманом, официальным главой сионистов – президентом Исполнительного комитета Всемирной сионистской организации. Вейцман, видный ученый-химик, сразу же оценил важность работы по изданию «Scripta», и одним из первых дал согласие на включение его в состав редакционной коллегии. И вот сейчас он впервые встречается с издателем, с тем человеком, который добровольно взвалил на себя столь сложную, но очень важную работу. Огромное впечатление на ученого произвела эрудиция Великовского и его организаторские способности. Идея создания в Иерусалиме не только университета, но и Еврейской академии наук вызвала у Хаима Вейцмана особое одобрение.
Во время этой встречи Вейцман предложил Великовскому стать официальным создателем и руководителем Еврейского университета. Вейцмана не смутила его молодость, – он был уверен в правильности своего выбора.
Великовскому, конечно же, польстило такое предложение, взволновало его. Но серьезные соображения были важнее эмоций. Он понимал, что, не будучи всемирно признанным ученым, не имеет права принимать столь почетную должность. Он не поделился с Вейцманом этими своими соображениями, только поблагодарил его и сказал, что взвесит собственные возможности и сообщит Вейцману в Лондон о своем решении. Спустя некоторое время Великовский действительно туда написал. Свой отказ он мотивировал большой загрузкой, связанной с работой над «Scripta».
Небольшая комната, которую снимал Великовский, стала тесноватой из-за все увеличивающегося количества бумаг. Заниматься редакционно-издательской работой здесь уже было невозможно. В течение дня рукописи, верстки, корректуры заполняли все вокруг, включая кровать. По утрам вход в комнату загромождали сооружения из пакетов с книгами, рукописями и письмами. Великовскому пришлось подыскивать другое, хотя бы небольшое помещение для редакции. Это удалось сделать в конце января 1923 года.
К этому времени выпуск «Математика и физика» был накануне выхода из печати, а в типографию полным ходом поступали материалы для гуманитарного выпуска «Scripta universitatis».
Беседуя со многими учеными-евреями, Великовский убедился в том, что их участие в «Scripta», их симпатия сионистской идее, их желание содействовать созданию в Иерусалиме Еврейского университета вовсе не означает, что они готовы уже сегодня приехать в Иерусалим и начать работать в университете. И только организация академии наук в Иерусалиме, о чем Иммануил уже подробно говорил с Эйнштейном и Вейцманом, могла бы объединить ученых-евреев всего мира даже в том случае, если они и не вернутся на свою землю.
Беседа с Эйнштейном осенью прошлого года, перед его отъездом в Японию, оставила у Великовского впечатление, что ему все-таки не удалось сделать этого большого ученого своим единомышленником. Вейцман же не скрывал энтузиазма. Создание академии он считал очень важным для сионизма. Но Иммануил понимал: нужна поддержка других авторитетов. В Берлине появился еще один человек, имя которого в еврейском мире звучало не менее громко, чем имена Эйнштейна и Вейцмана. Благодаря вмешательству Максима Горького советские власти выпустили из России Хаима Бялика.
В гимназические и студенческие годы поэзия Бялика оказывала на Великовского огромное эмоциональное воздействие. Он помнит, как непроизвольно сжимались кулаки, как спазмы перехватывали горло, когда он читал поэму «Сказание о погроме» в изумительном переводе Владимира Жаботинского. И вот этот человек, имя которого для еврейского народа звучит так же, как Байрон – для англичан, Пушкин – для русских, Гете – для немцев, обосновался пока в Берлине.
Две цели преследовал Великовский, когда 12 марта 1923 года направился к Бялику, надеясь привлечь того к созданию Академии наук в Иерусалиме и убедить этого замечательного поэта в необходимости переезда в Эрец-Исраэль.
Бялик встретил Великовского с теплотой, необычной для этого едкого и не всегда доброго человека. Оказывается, еще в России он узнал о Великовском и его «Scripta universitatis». Человек огромного ума и еще большей интуиции, Бялик, как никто другой, оценил важность такого начинания. А потому, после первых слов приветствия, с некоторым пафосом он сказал:
– То, что вы затеяли, глубокоуважаемый доктор, это – строительство Иерусалима.
Все, что делается в еврейском мире с шумом и криком, не стоит и частицы того, что совершается вами в скромной тишине. Я склоняю голову перед вашей работой.
Великовский поблагодарил Бялика за теплые слова и заговорил об академии.
10. СВАДЬБА В РЕДАКЦИИ «SCRIPTA»
В конце зимы 1923 года в адрес 237 университетов и академий был отправлен первый выпуск «Scripta». В обмен со всех концов мира в библиотеку еще не существующего Еврейского университета в Иерусалиме пришли тысячи томов научной литературы.
«Scripta» вызвала в ученом мире живейший интерес и самый положительный отклик.
Никогда еще ни в одном издании не было одновременно подобного созвездия имен выдающихся деятелей науки.
В университетских кругах Дании и Скандинавских стран «Scripta» пробудила национальное самосознание евреев. В обстановке отсутствия антисемитизма профессора – евреи чувствовали себя полностью ассимилированными. Отголоски борьбы евреев за свой национальный дом доходили до них приглушенными, а потому и не находили никакого отклика. «Scripta» не только заставила многих из них задуматься над проблемами мирового еврейства, но и активно включиться в его дела.
У Великовского были основания чувствовать себя удовлетворенным.
Кроме того, неожиданно, как он считал, сложились самым лучшим образом и его личные дела. Оказалось, его опасения по поводу равнодушия к нему Элишевы были безосновательными. Кто бы мог подумать? Эта удивительная, миловидная и талантливая девушка, как выяснилось, питала к нему нежные чувства, а он, погруженный в работу, даже не замечал этого.
О грядущих переменах в личных делах Иммануила родители догадались по скупым фразам в его письмах еще до того, как об этом догадался сам автор писем. В посланиях в Эрец-Исраэль содержался, в основном, отчет о его работе.
«…Очень печально, что не пришлось нам быть вместе в дни праздника. Я сидел за столом „седера“ в Гамбурге, и было у меня такое ощущение, что оставил я вас, мои престарелые родители, без помощи и внимания среди трудностей многих, возникших, чтобы помешать тебе, отец, осуществить цель твоей жизни, начало ее в Эрец-Исраэль.
Очень я соскучился по вас.
Единственное, что в какой-то мере успокаивает меня, это то, что мы остались здесь для работы во имя нашего народа. И работа успешно осуществляется и развивается. Мы стараемся завершить печатание двух томов; в их создании участвуют десятки авторов и десятки переводчиков, следует проследить, чтобы все было в порядке.
В эти дни завершена верстка большой и важной статьи из сборника „Древность и еврейство“, написанной проф. Шварцем из Вены о логике в Талмуде. В ней он показывает, что Талмуд построен соответственно законам логики.
Я счастлив, что в ближайшие дни мне предстоит еще одна очень важная работа.
Неделю тому назад проф. Эйнштейн вернулся в Берлин. Вчера я был у него, рассказал о работе над „Scripta“. Он очень рад. По его мнению, в научном мире „Scripta“ была воспринята как труд на очень высоком уровне. Я посоветовался с ним по вопросам создания академии.
Мне очень интересно сравнить его мнение с мнением Бялика и Вейцмана. Эти три человека уже сегодня находятся на вершине национального движения. Сперва идея академии показалась Эйнштейну странной – вероятно, потому, что была новой. Но постепенно он проникся ею. Он стал говорить не как посторонний, а как непосредственно причастный к ней. Он сказал мне, что эта идея очаровала его, и мы можем осуществить ее сейчас же, поскольку это соответствует нашим нынешним возможностям. Ученые есть у нас во всем мире, но нет ничего, что могло бы их объединить. Когда возникнет Еврейский университет в Иерусалиме, он не будет соответствовать мировому уровню по статусу и научному уровню, потому что еврейство дает науке значительно больше, чем сможет дать университет на первых порах.
Он был полон энтузиазма, спрашивал и отвечал, и я видел, что сейчас он более предан нам, чем был полгода тому назад. Тогда я видел в нем одного из тех сионистов, которых следует опасаться, которые пойдут с нами лишь тогда, когда что-нибудь произойдет. А сегодня, мне кажется, он – один из нас, преданный сионист.
По возвращении в Берлин я собираюсь кое-что сделать для осуществления моей идеи.
Сегодня уже есть соглашение по этому поводу между Вейцманом, Бяликом, Эйнштейном и мной, кроме того, я беседовал по этому поводу с большим немецким философом – Эрнестом Касирером в Гамбурге, а также с проф. Подор, которого Вейцман привлекает к подготовительным работам для открытия химического института Еврейского университета в Иерусалиме. Идея академии поможет университету начать дышать, потому что свяжет прочными узами ученых-евреев с Иерусалимом и с еврейством».
Выход в свет первых выпусков «Scripta» и женитьба были счастливым завершением берлинского периода жизни Великовского. В четверг, 12 апреля 1923 года, в скромных комнатах редакции «Scripta» были сервированы столы для свадебной трапезы. А на следующий день новобрачные отправились в библиотеку изучать статусы академий наук и их изданий.
В одном из писем отцу из Берлина Великовский писал, что физически ощущает, как из него струится энергия. Вероятно, он действительно излучал какие-то флюиды.
Ведь не только Эйнштейн под его влиянием проникся идеями сионизма. В семье Крамеров соблюдались еврейские традиции. Еврейские праздники отмечались по всем правилам. Элишева не работала по субботам. Но, как и большинству просвещенных немецких евреев, идеи сионизма были чужды этой семье до появления в их доме Великовского. Сейчас, в мае 1923 года, вместе с Иммануилом в Эрец-Исраэль уезжала Элишева, – жена сиониста и сионистка. Позже, оставив благополучный быт, уехали в Палестину сестры Элишевы – Мирьям, Трудель и Дора. И только Зельма и Зигфрид Крамеры, когда стало ясно, что евреям нельзя оставаться в Германии, эмигрировали в Америку.
11. ДОКТОР В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ
Парадоксальное состояние наблюдается у людей, приезжающих в Эрец-Исраэль. Чем выше у них накал сионизма, тем труднее им вживаться в окружающую действительность. Легко представить себе чувства романтичного юноши, вдруг обнаружившего, что обожаемое им «эфирное создание» – всего лишь обычная сварливая баба. Насколько лучше тому, кто, рассчитывая провести время с потаскушкой, неожиданно открывает в ней нежную понимающую душу. …Рахель-Белла и Шимон Великовские радостно встретили и приняли молодую чету.
Приезд сына с невесткой смягчал горечь обрушившихся на них невзгод. Некоторые из тех московских евреев, которые в свое время внесли деньги на покупку земли в Негеве и которые, не будь в России революции, не помышляли бы ни об этих деньгах, ни о Негеве, сейчас внезапно оказались в Эрец-Исраэль и потребовали у Шимона Великовского свой вклад. Причем немедленно и наличными. Они не хотели ждать, пока земля даст прибыль или когда кибуц «Рухама» сможет вернуть им деньги. Нет, не такими виделись Шимону истинные сионисты.
Молодые Великовские поселились в Иерусалиме. Иммануил занялся врачебной деятельностью, требующей от любого серьезного медика полной отдачи. Впрочем, ему не надо было привыкать к этому. Полная самоотдача стала постоянным свойством его характера, чем бы он ни занимался. Редкие часы свободного времени тратились, в основном, на самообразование, изредка – на общение с друзьями, самым близким из которых всегда оставался отец.
Элишева занялась концертной деятельностью. В кибуцах у нее была понимающая и благодарная аудитория.
Великовские считали, что только истинный профессионализм в сочетании с идеализмом в лучшем смысле этого понятия может принести пользу ишуву и послужить делу создания будущего государства. Великовские не имели ничего общего с политической деятельностью. Они не поддерживали профсоюзных боссов. Не стали сторонниками левого большинства в ишуве, с осторожностью относились и к правым, хотя лидер ревизионистов, – Владимир (Зеэв) Жаботинский, всегда вызывал у Великовского глубокую симпатию: он ценил в Жаботинском поэта и журналиста.
В конце 1939 года, увидев, как сбываются мрачные пророчества Жаботинского, Великовский встретится с ним в Нью-Йорке, чтобы попытаться помирить его с истэблишментом ишува, чтобы объединить все лучшее в сионизме. Но, увы, это случится слишком поздно, когда смерть уже будет подстерегать Жаботинского. …Вероятно, не биограф, а социолог должен разобраться и найти причину того, что в нынешнем Израиле имена Великовских известны не больше, чем, скажем, имена бывших израильтян, ныне нью-йоркских таксистов или собирателей макулатуры в Лос-Анжелесе.
Сейчас таблички с именами жертвователей можно увидеть на корпусах Еврейского университета в Иерусалиме на горе Скопус и в новом кампусе в Гиват-Раме, на здании библиотеки университета… Имени Великовского вы нигде не найдете.
Отсюда печальный вывод: журнал «Scripta», который стоял у истоков создания университета, для самого университета значит гораздо меньше, чем несколько тысяч долларов, пожертвованных американским или канадским миллионером. Но даже если современное общество все ценности измеряет в денежном выражении, то следовало бы подсчитать, сколько же сотен тысяч долларов стоят книги, присланные в адрес библиотеки из университетов и академий всего мира в благодарность за 237 томов «Scripta».
Нет имени Великовских и в Еврейской энциклопедии, изданной в Израиле. Даже в книге о кибуце «Рухама», земля которого куплена на деньги, мобилизованные Шимоном Великовским (среди них – полтора килограмма золота внесены им лично), имя это упоминается вскользь, в сноске, к тому же с ошибкой: местом его рождения почему-то названа Москва. …В те далекие времена о докторе Великовском говорили в Иерусалиме с уважением.
Знания, а, главное, – сострадание к больному делали незаметным отсутствие опыта на первых шагах его врачебной практики. Интеллигентность и бескорыстие – качества, которые ценились, хоть и в разной мере, всеми слоями общества, – сделали доктора Великовского популярным в Иерусалиме.
Первого февраля 1925 года у Великовских родилась дочь – Шуламит-Фани. Через год и три месяца в семье родилась вторая девочка – Рут, или Рухама, как по имени кибуца в Негеве, называли ее родные.
В 1927 году семья переехала в Хайфу и поселилась на горе Кармель. Быт был тяжелым не только в сравнении с Берлином, но даже – с Иерусалимом. Воду доставали из колодца, пищу варили на примусе. Чтобы посетить своих пациентов, Великовский должен был преодолевать немалые расстояния. Иногда единственным транспортом оказывался покорный симпатичный осел. Хороший карикатурист, Великовский представлял себе, как выглядит он, длиннющий, на маленьком ослике: когда расслаблял уставшие мышцы, ноги волочились по земле, пыля, словно повозка на проселочной дороге.
И все-таки жизнь была великолепной. Девочки росли, не стесняемые бюргерским бытом, как часть окружающей их прекрасной природы. Жаль только, что Элишеве пришлось резко ограничить свою концертную деятельность. Но дома всегда звучала музыка. Среди учеников Элишевы в Хайфе был будущий большой скрипач Иза Гителис.
Как-то, между двумя визитами к больным, Великовский по делу зашел в Пастеровскую станцию на горе Кармель. Завязалась дискуссия об изменчивости болезнетворных микробов. Присутствующих поразило то, что врач, занимающийся общей практикой, в научных вопросах микробиологии оказался осведомленнее специалистов.
С той поры, вплоть до переезда Великовских в Тель-Авив, – Пастеровская станция на горе Кармель стала своеобразным клубом интеллектуалов Хайфы. Люди сходились сюда послушать увлекательные рассказы Чудака, как стали называть Иммануила, на различные темы.
Имя «Чудак» произносили с уважением и любовью. Невероятное бескорыстие и идеализм Великовского послужили тому причиной. Спустя несколько лет выдающийся психиатр профессор Вильгельм Штеккель, лучший ученик Фрейда, скажет о своем ученике Иммануиле Великовском: «…выдающийся представитель медицинской психологии… идеалист первого порядка». – А в письме к Хаиму Вейцману добавит: «…один из наиболее высоко одаренных психотерапевтов».
Таким уж вылепила Великовского природа – предельным во всем. И ростом он выделялся среди своих невысоких коллег по «клубу интеллектуалов», и разносторонностью интересов, И глубиной знаний, и скромной терпимостью в споре с менее образованным собеседником. Но в дискуссии со специалистом он был жестким, цепким, неуступчивым. Возможно, какие-то из этих качеств и послужили своеобразным поводом для рождения прозвища «Чудак». Хотя, конечно, Великовский заслужил его, в основном, за необычность своих рассказов на Пастеровской станции.
Необычным был подход Великовского даже к делам злободневным. Говоря об арабских предводителях и представителях английской администрации, Великовский представлял их поступки как проявление некоторого отклонения от нормальной нервной деятельности или явной психической патологии. Собеседникам Великовского в «клубе интеллектуалов» и в голову не приходило, что судьба целых стран и народов порой не меньше, чем от логики объективных условий, зависит от подсознания, от комплексов и их подавления у людей, занимающих ключевые позиции. Великовский иллюстрировал это положение яркими примерами из истории – от глубокой древности до текущих дней.
Рассказывая о работе головного мозга, Великовский образно называл его фантастическим переплетением десятков километров проводников электрических импульсов, с системой контактов и реле. Эпилепсию, например, он считал «коротким замыканием» в системе этих проводов. Он верил, что токи головного мозга будут обнаружены и записаны, равно как и «замыкание» при эпилепсии.
Говоря о пяти чувствах человека, Иммануил сравнивал их с потоками электрических импульсов от соответствующих рецепторов к центрам в головном мозгу. Он считал, что, если бы можно было создать устройство, в котором мозаика чувствительных элементов преобразовывала свет в электрические импульсы и эти импульсы поступали в соответствующие клетки зрительного анализатора головного мозга, безглазый человек мог бы видеть. Если бы создали аппарат, в котором колебания воздуха в звуковом диапазоне превращались бы в электрические импульсы, поступающие в нервные клетки слухового анализатора головного мозга, глухой мог бы слышать.
Чудак он, этот Великовский! В то время такие рассказы можно было считать лишь талантливой научной фантастикой.
Но пройдет чуть больше года, и в научном медицинском журнале появится первая статья об электроэнцефалографии – была записана электрическая деятельность головного мозга здорового человека. Пройдет еще чуть больше десяти лет, и с помощью электроэнцефалографа станет возможным диагностировать эпилепсию.
Рассказы Великовского сотрудникам и посетителям Пастеровской станции оказались не фантастикой, а научным предвидением.