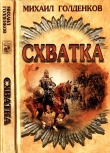Текст книги "Схватка"
Автор книги: Ильяс Есенберлин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
И тут он услышал голос Ведерникова.
– Итак, товарищи, начнем! Наша сегодняшняя беседа, как вы знаете, называется «Раздумья о казахской песне». Основной наш докладчик – геолог Бекайдар Нуркеевич Ажимов. Вот ему я сейчас и предоставляю слово. Я думаю, в помещение мы заходить не будем, а вынесем стол и проведем беседу прямо на воздухе. Есть возражения? Нет! Бекайдар Нуркеевич, тогда прошу вас.
Бекайдар подошел к столу – его сейчас же притащили из помещения – положил на него свою тетрадь с записями, достал из портфеля книги с закладками и начал говорить. Говорил спокойно, обстоятельно. А сердце у него так и екало. «Дамели, Дамели...» – восклицало в нем что-то.
– Я думаю, что нет человека, который не любит песен своего народа... – так начал он. – Они говорят о печали или радости, о любви или ненависти, о встрече и разлуке... Все чувства человечество отображало в своих песнях. Но песни говорят и о большем. Это интеллектуальная жизнь народа, его недовольство настоящим, его мечты о будущем, его надежды. Все большие исторические события обязательно отражаются в песнях, ибо в них народ как бы осознал самого себя. Вот именно потому я люблю слушать наши народные песни. И совсем не потому, что я казах, то есть вернее не только потому, что я казах. И первое, о чем я думаю, когда слушаю такую песню, – это, чью же радость или печаль передает мне она? Кто смеялся или плакал, сочиняя ее? Потому что создатель такой песни не только весь народ целиком, но еще и какой-то конкретный человек в отдельности. Ликующий или страдающий человек. Он долго ходил, думал, страдал или радовался, и вот наконец его чувства отделились от него и превратились в песню. И народ подхватил эту песню и понес ее дальше, и все страдающие и радующиеся тоже присоединились к этому шествию. В этом слиянии народа и человека заключается, по-моему, та великая тайна, которую я и стараюсь угадать. Вот, например, одна старинная песнь. Она возникла почти 300 лет тому назад во время Джунгарского нашествия. Это были годы гибели, огня и смерти. Туркестанская степь тонула в крови.
И он заговорил о песне Елим-ай (Край родной), затем он сказал о песне «Жас казах», созданной в годы Великой Отечественной войны, о песнях обрядных – «Прощанье», «Колыбельная», «Жар-Жар», и про то, как они, вероятно, возникли. Затем он заговорил о великих композиторах – об акынах, Биржане-Сале, Акане-Сате, Естай-акыне, Мусе и других.
– Любовные песни, – сказал он дальше, – песни о счастливой или несчастной любви, разделенной или отвергнутой, – занимают в казахском фольклоре особое место, на них я и хочу сейчас остановиться.
Бекайдар увидел, как сразу притихла молодежь. Увидел и то, как вздрогнула Дамели. Говоря, он все время следил за ней.
Дамели действительно сидела как на иголках. Она чувствовала, что ей просто не хватает воздуха. Когда она увидела на стене клуба объявление о том, что очередная беседа проводится на тему «Казахские песни» и проводить беседу будет Бекайдар Ажимов, она подумала: «Боже мой, ну к чему ему это?», – но теперь, когда он заговорил о любовных песнях, ей стало ясным все: «Да, вот он и нашел способ вылить все, что у него лежало на душе», – подумала она.
А Бекайдар продолжал. Так же не торопясь, обстоятельно и четко, он сказал о том, что любовные песни очень разнообразны. Есть песни шуточные, есть задорные, есть жалобные, а есть и такие, в которых влюбленный просто поведал миру о своей любви. Например, знаменитая «Кара Торгай» – в этой песне есть такие строки:
Была бы ты птицей – я шелком связал бы,
Подставку твою – серебром оковал бы,
И золотом перья сверкали б твои,
А домом служили ладони мои.
Дамели вся задрожала. Она отлично знала эту песню. Ее Бекайдар ей пел часто. Они оба ее любили! Как виденье, ясно, до галлюцинации, представились ей тихая лунная ночь, белый-белый камень, еще более белый от луны, и она на нем. Бекайдар сидит рядом, слегка обхватив ее за плечи, и поет. И оба они счастливы. И она такая легкая, любящая, тихая, счастливая.
«Была бы ты птицей...» Ох, если бы она верно была птицей...
– А вот другая песня и уж совсем о другом – хотя тоже о любви, – продолжал Бекайдар. – Джигит упрекает любимую. Он поет о своем гневе, о своей печали, несбывшихся мечтах:
О мир, как бессердечен ты,
Разбивший все мои мечты:
Кипит моя от гнева кровь,
Я потерял тебя, любовь...
Голос у Бекайдара в самом деле был отличный и пел он тоже хорошо: спокойно и грустно. Словно и не пел даже, а рассказывал. Рассказывал о себе, о своем разочаровании, о той тяжести, которая легла на его сердце.
«Боже мой, боже мой, – подумала Дамели, – неужели ты не понимаешь, Бекайдар, что мне-то еще тяжелее. Ведь вот ты все-таки вот говоришь, а я-то должна молчать. А ты, конечно, считаешь меня предательницей! – Если бы ты знал! Если бы знал хоть что-то!»
И тут вдруг Бекайдар запел.
Да, это уже прямой вопрос. Он спрашивает именно ее и ждет от нее ответа, но что она может ответить ему? «Эх, Беке, Беке, ты ведь думаешь, что все это какие-то пакости, интриги, небось отца моего винишь. Конечно, винишь, а я тебе ничего и сказать не могу. Но вот теперь скажу. Открытая-то рана ноет меньше закрытой. А знаешь? Я тебя сейчас еще больше люблю, чем до свадьбы. Ну, положим, я тебе все открою. Скажу, почему ушла со свадьбы. Почему пришла сюда. Но разве тебе будет от этого легче? Может быть, и еще тяжелее будет. Ну, да все равно сказать придется.
Она и не заметила, как доклад кончился и начались высказывания. Посыпались вопросы. Их было много. Спрашивали о трагической истории Кулагера – этого Пегаса казахских песен. Коня убили завистники, и его хозяин, великий певец казахской степи Ахан-серэ, создал эту песню великого гнева. На все вопросы Бекайдар отвечал уверенно. Видно было, что он действительно хорошо подготовился. Потом, когда вопросы исчерпались, Ведерников продолжал:
– Ну, что ж, тогда приступим к обмену мнениями. Кто возьмет слово первым?
Начались выступления, но Дамели никого и ничего уже не слушала. Она была потрясена. Ведь он ей сейчас сказал при всех то самое, что и хотел высказать наедине. Сказал о своей любви, о своей обиде, о тревоге за нее, и слушать его было больно и хорошо. Ее до дрожи волновал уже самый его голос. Она хотела слушать еще и еще – хотя это и было мучительным. Но кто сказал, что мучительная любовь тоже не радость? Радость, радость, конечно! Горькая, скорбная, но такая же светлая и сильная, как и все, что есть в любви. И Дамели сейчас, после этого свидания с любимым, чувствовала себя по-настоящему счастливой. Потому уже счастливой, что она убедилась, как крепко ее чувство. Какая она богатая, именно потому что любит.
Она и не заметила, как собрание кончилось, уже уходили последние слушатели. Встала и она. Пришла домой тихая, удовлетворенная. Разделась, легла в постель. У нее было такое чувство, будто она опять поговорила с Бекайдаром.
4
Казахстан! Родина моя! Твои богатства неисчислимы. Твоя щедрость неисчерпаема. Кто-то из ученых сказал о тебе: «Перечислить, что здесь есть, еще можно, а вот доискаться до того, чего здесь нет, – это труд пока невыполнимый». Человек, сказавший это, знал, что он говорит, ведь он родился здесь, тут вырос и тут изучил свою землю так, как когда-то в школе он изучил таблицу Менделеева. Да впрочем, ведь это в Казахстане и обнаружен девяносто третий элемент ее и заполнена еще одна пустующая клетка.
Но это все только про богатства. Есть у Казахстана и другая сторона. Природа. По красоте и разнообразию ландшафтов не много найдется на земле стран, могущих соперничать с Казахстаном. Тут и швейцарские горы, окутанные тонким туманом, то голубым, то нежно-розовым, тут и озеро Боровое с есенинскими березами, тут «альпийские луга» на склонах Ала-Тау, тут и прозрачный источник с чистой, как хрусталь, ломящей зуб водой и золотыми соринками. Тут сотни рек и десятки пустынь, страшных, безлюдных и жгучих, как Сахара, или библейские степи. Тут... впрочем, разве перечислишь, что тут есть?
Машина мчится в Саяты. Двое пассажиров и один шофер. Все трое молчат, но каждый молчалив по-своему. Даурен молчит потому, что не может наглядеться на свой родной край, он пролетает мимо него со скоростью ста километров в час. Еламан гонит газик вовсю.
– Да, родина, родина, – говорит в раздумье старый геолог, – ничего кроме нее.
Жариков, пробужденный от своих дум, повернулся к нему.
– Вы что-то сказали? – спросил он.
– Нет, это я с самим собой, – улыбнулся Даурен, и в действительности он говорил с камнями, с песком, с зелеными кустами, что попадались по дороге, а никак не со своими соседями. Конечно, только при долгих, иногда многосуточных скитаниях по тайге могла появиться такая привычка, но сейчас, на людях, он никак не мог избавиться от нее. А надо, надо избавиться: нечего смешить ближних! Так молча проехали они еще с десяток верст. Стало смеркаться.
– А вы видели когда-нибудь джидовую рощу? – спросил вдруг Жариков и приказал Еламану: – Вон, пожалуйста, поверните к той сопке. Поглядим немного. Сейчас самая пора сделать привал.
В зарослях джиды Еламан остановил машину и все соскочили на землю.
– Ну, какая красота, а? – радостно воскликнул Жариков. – А воздух-то, воздух, чувствуете, товарищи, а?
Он дышал полной грудью. Воздух здесь действительно стоял острый, пряный, настоянный на запахе трав и ветвей. Лес был крохотный, но удивительный. Серебристые листки кустарника, сплетенные друг с другом, казались выкованными из серебра. А дальше, наверно, текла река, или просто пахло чем-то речным, может быть, водорослями или влажной землей.
– Пойду туда, – сказал Жариков. – Не могу не искупаться, когда нахожусь рядом с водой. Как вы, Даурен-ага?!
Даурен покачал головой.
– Воздержусь! Чувствую себя что-то не вполне здоровым, устал что-ли?!
Жариков ушел, и около машины остались двое: Еламан и Ержанов. Как Еламан ждал именно такого случая! Но он не сразу взял быка за рога.
– Вы не покажете свою трубку, – попросил он Даурена, – уж больно она хороша!
– Хороша? – слегка удивился Даурен, и в голосе его прозвучало что-то почти неприязненное. – Не знаю! Интересна – да! А хороша... Ну смотрите, если понравилась.
Еламан взял в руки трубку. Действительно, ничего особенного в ней не было. Трубка как трубка, черная, прокуренная, выдолбленная, видно, из корня кедра или сосны. На люльке цифры: «1946» и надпись: «Колыма. Прииск «Партизан». Конец трубки изрядно изгрызан. Видно, старик часто нервничает. Еламан быстро и искоса взглянул на него. Тот вздохнул и спросил: «Ну, дорогой, все?» И протянул руку за трубкой.
«Не он, – быстро решил Еламан, – просто похожий. Тот не назвал бы меня дорогим. Он бы сразу мне все выложил. И генералу тоже. Нет, нет, это не он».
Старик взял трубку, бережно обтер платком, словно стирал с нее прикосновение Еламана, и спрятал трубку в карман.
– Колыма! – сказал Еламан. – И долго вы пробыли там?
– Пустяки! Двадцать лет! – усмехнулся старик.
«Не он, – снова решил Еламан, – тот давно умер».
И облегченно вздохнул.
И тут старик вдруг спросил с любопытством:
– А что, разве я похож на какого-нибудь вашего знакомого? И так как Еламан чуть задержался с ответом, – махнул рукой: – Бросьте, какое это имеет значение! – и усмехнулся.
«Он, – решил Еламан, – он, он! И еще издевается, скотина».
Он хотел что-то сказать, но как раз вернулся Жариков, довольный, веселый, с мокрыми волосами. Было видно, он действительно только что вылез из воды.
– Ух, хорошо! – сказал он. – А вода-то, вода какая! Сто пудов грехов с себя смыл. Ну как, друзья, погуляли, поговорили? Поедем, пожалуй. Надо дотемна хоть до озера добраться.
Перевалили через Илийский мост и вылетели на шоссе – это была дорога от Сары-Озека на Уш-Тобе. Еламан пустил машину на самую последнюю скорость. Так можно нестись только по степи. Белесый ковыль, черные кусты степной полыни, какой-то жесткий кустарник, взлетающие ажурные шары перекати-поля, все это только мелькало в глазах. Ни зимовки, ни аулов, ни надгробных памятников: беспредельная пустая степь. Так они пролетели километров триста. Потом пошли песчаные дюны, и шоссе повернуло к северу.
К вечеру они доехали до большой реки. Здесь дорога раздвоилась.
– Как поедем? – спросил Еламан.
– Я бы предпочел правую ветку, – сказал Даурен. – Если можно, конечно!
– Да можно-то все можно, – с неудовольствием ответил Еламан. – Только по ней ехать тяжелее. А что там смотреть? Та же пустыня.
– А интересно, охота здесь есть? – спросил Жариков.
– Ну, какая охота! – махнул рукой Еламан. – Если целый день пробродишь, может, принесешь барсука или лисицу. Да и то, наверное, не каждый день.
– А зайцы есть?
– Зайцы здесь редкость. Так как же, поедем? До экспедиции осталось километров триста. Придется заночевать.
Поехали все-таки по правой дороге.
– Ну, если ты нас утопишь в песках... – пригрозил Жариков.
– Не бойтесь, не утоплю, не первый раз! – усмехнулся Еламан. – Осенью здесь гоняют гурты из Каражалского колхоза. А вон ниже перевал и озеро. Тут ондатру разводят. Там мы и воды наберем, а то машина совсем задохнулась...
Пролетели еще километров пятьдесят. Из озера набрали воды и помчались дальше. Степь вдруг резко изменилась – стали появляться кусты, заросли, целые небольшие рощицы. Недавно был, видно, дождь, и песок казался рябым от крупных капель. Тишь, безлюдье. Стук мотора, наверно, слышен километров за десять. И вдруг из-за какого-то поворота появилась целая саксаульная роща. Саксаул – странное растение, именно растение, а не дерево, хотя размером оно больше всего напоминает именно дерево. Его толстые стволы мучительно изогнуты, вывернуты; они как будто застыли в болезненной судороге. Ствол, лежащий на земле, больше всего напоминал тело человека, скончавшегося в конвульсиях. Ясно обозначены застывшие бугры мускулов, изогнутые члены, голова откинута так, что ее не видно, и выдается только вздувшееся от мук горло. А цветы на этих безобразных стволах родятся нежные, белые, мягкие, как клочья ваты. Саксаульник живет своеобразной жизнью. То и дело мелькают сойки, похожие по расцветке на попугаев (их так и зовут – саксаульные сойки), лежит, свернувшись в клубок, толстая пестрая змея, медлительно ползет ящерица. На вершине холма, грозный и спокойный, как дракон, стоял варан – огромная ящерица песочного цвета. Небольшое стадо кииков пробежало и исчезло.
– Эх, ружья нет! – вздохнул Еламан.
– А тут, наверно, и руда есть, – снова закинул удочку Еламан и покосился на Даурена. – Но тот молчал и смотрел на степь.
Теперь Еламан был уверен, что он везет именно Даурена. На перевале старик сбросил темные очки, и Еламан впервые увидел его глаза. Увидел и понял, что это точно – он. Еламан знал, что человека можно прежде всего узнать по глазам. Все в нем переменится, все знакомое исчезнет – глаза останутся прежними.
К вечеру показалось озеро Балташы. Было оно голубое, широкое, все пылающее в лучах заходящего солнца. Если бы не этот блеск, его можно было бы смешать с небом, настолько оно сливалось с ним.
Еще через час они добрались до тростниковых джунглей.
– Ну, товарищи, все! Будем устраиваться на ночь, – решительно сказал Еламан и остановил машину.
– А ужинать? – спросил Жариков, вытаскивая свой чемоданчик.
– Вы как хотите, а я спать пойду! Устал!
Еламан вытащил шинель, постелил ее под машину и не лег, а просто бросился под нее.
– Покурим? – спросил Даурен и вынул трубку.
– Покурим, – ответил Жариков. – Только давайте сначала сходим за сухим тростником и разожжем костер, а то к ночи здесь может даже иней появиться.
Костер разожгли (тростник, если он сухой, горит ровным, белым, высоким пламенем), легли по обе стороны его и медленно, со вкусом закурили. Даурен два раза потянул из трубки и протянул ее Жарикову: «Пробуйте-ка». Тот затянулся и закашлялся.
– Что, крепка? – спросил казах, улыбаясь.
– Крепка, проклятая! Да не только в этом дело, – сказал Жариков отдышавшись. – Я ведь первый раз курю трубку. Мы на фронте больше всего цигарки крутили.
– Хм! – усмехнулся казах. – Если бы у нас всегда были газеты.
– А что, не было? – удивился Жариков.
– Не всегда! Ох, не всегда, – вздохнул Даурен и вдруг начал рассказывать:
– Я ведь в Сибирь, как в сказку, попал. Буквально во сне попал. Мы под городом Старая Русса стояли – он три раза из рук в руки переходил. Знаете, даже река помельчала, столько мы в нее танков навалили. И горят они! В воде – горят! Если б не видел, никогда не поверил бы. Стояли мы насмерть. И выстояли бы, конечно, если бы не самолеты. На третий день их налетело столько, что все небо почернело. Ну и разбомбили они, конечно, все на свете. И последнее, что я помню, – это лежу я в какой-то колдобине и сажу по «мессершмиту» из автомата. А он, подлец, летит на бреющем и косит все из пулемета. Да еще разрыв бомбы помню. Высокий такой желтый огонь. Но это уже как сквозь сон. То ли было, то ли нет. Очнулся я месяца через два, посмотрел вокруг себя – все белое. Кровать белая, товарищи в белых бинтах, сам я с ног до головы в белом – загипсовали, значит. Взглянул в окно, а там белым-бело. Первый снег только что выпал. Мягкий, пушистый, ласковый снежок. Оказывается, лежу я в эвакогоспитале. Подобрали меня как мертвого, повезли на кладбище, а по дороге я и зашевелился. Потом, через пару лет, я товарища, который служил в ту пору санитаром в обозе, встретил. «Никто, – говорит, – не полагал, что ты выживешь. Уж не дышал, и сердца не было». А взяли меня, можно сказать, голеньким. Ничего на мне не было. Воздушной волной даже гимнастерку сорвало. А в ней в нагрудном кармане и были все мои документы – партбилет, свидетельство о награждении, воинская книжка – ну все, все. В общем – голый человек на голой земле. Вот так и доставили меня сначала в Иркутск, а потом во Владивосток, но и там долго было неясно – то ли выживу, то ли нет. Два года боролся я со смертью. Только главврач меня и спасла. Замечательный доктор была! Мягкая, заботливая, как говорится, мастер своего дела! Так вот я через два года встал на ноги. Куда деваться?! Написал домой жене. Письмо возвратилось за смертью адресата. Написал брату – возвратилось из-за выбытия адресата. Что делать! А война-то ведь в разгаре. Забирают все новые и новые возрасты. Везде лозунги: «Больше меди, олова, свинца и цинка!» Ну, подумал я и устроился в геологическую партию. Тогда не больно документами интересовались. Переэкзаменовали наскоро – и все. Ну, вот так я очутился на Дальнем Востоке. Копал, странствовал, разведывал, добывал. От Иркутска дошел до Тихого океана. И тут однажды встретил земляка и он рассказал, что на меня уже давно пришла похоронная. Потом узнал и другое: говорят – Ержанов попал в плен и стал редактором какой-то газеты военнопленных. И третий слух: прямо из плена попал в лагерь и там умер. Кто-то меня даже видел, как я под конвоем тачки вожу. Что ж, может быть и так: у нас в то время и заключенные работали. Их так и звали «пленяги». Ничего они не умели – приходилось их учить.
– Да, страшное дело плен, – покачал головой Жариков.
– Ох, какое страшное! И там страшно, а после так еще страшнее. Потом как-то я поглядел за людьми в лагере. А там следователь при мне кричит на старого полковника, тот стоит перед ним вытянувшись и руки по швам, а этот мозгляк с вздернутым носиком, бесцветный, как вошь, и фамилия-то подходящая – Харкин – орет на него: «Как ты мог попасть живой в руки врагу! – орет. – Почему не застрелился! – орет! – Сто раз лучше умереть человеком, чем жить рабом, – орет! Значит, этот Харкин человек, а он никто! А тот три войны прошел, в царских острогах сидел, у него орден Ленина, и в партии он с 1915 года, а эта вша... Эх, проклятый, – думал, – посмотрел бы я тебя на фронте. Уверен, при первом же налете ружье бы бросил. Ну одно слово – Харкин! И откуда-то он из наших мест! Из Алма-Аты, кажется, – Даурен скрипнул зубами и отвернулся.
– Ох, и горячи же вы, – покачал головой Жариков. – Попортил вам этот Харкин крови! Ладно! Сейчас все это в прошлом. А дальше что? Почему же не возвратились при первой возможности в свой институт?
– Да вот не было этой возможности. Узнал я, Хасена за меня таскали, допрашивали, кажется, это тот самый подлец, Харкин, и допрашивал. Я когда узнал об этом, понял, что буду сейчас не у места. А думал я об Алма-Ате все время. У меня ведь был наполовину написан большой труд о Жаркынском ущелье. Война помешала окончить. Потом слышу – Нурке Ажимов открыл богатейшие в стране Жаркынские месторождения меди. Ну, думаю, значит, теперь я ни к чему. Ну, а к тому же говорят: на одном месте и камень обрастает. Вот и я также оброс: появились друзья, дом, жена – та самая врачиха, которая спасла мне жизнь, а тут еще с работой вышла промашка: то, что я думал закончить в год, потребовало пять лет. А потом и край полюбился. Ведь он замечательный, богатый, в каждой сопке там руда. А однажды вызвали меня в управление, предложили поехать на Колыму, на золотые прииски. Ее там зовут «Золотая Колыма». Подумали, подумали, собрались с женой и поехали. Прожили еще три года в Магадане. Да я, пожалуй, бы там и насовсем остался, но вдруг жена умерла, – сердце! Остался я бобылем: ни семьи, ни детей, никого! Тут и напала на меня тоска! И такая тоска, такая тоска, что и сказать не могу, я даже спать спокойно не мог, все горы снились. С год еще протерпел, потом чувствую – не вынесу, с ума сойду – собрался, рассчитался и приехал.
– И правильно сделали, – улыбнулся Жариков.
– Да и мне тоже кажется, что правильно, – согласился Даурен. – Приехал и узнал, что не такой уж я полный бобыль – есть где-то у меня здесь дочь. Кунсары, так звали мою жену,– скончалась от родов, но ребенка удалось спасти. Так сказал один старый казах. Значит, тогда вы мне правильно сказали о дочке Хасена, только не дочь она ему, а племянница. Ну вот встречу брата, узнаю все. А пока не хочу тешиться надеждой! А вдруг это не так?
– Но уж сейчас позвольте вас поздравить, – сказал Жариков и протянул руку, – это такое счастье, такое счастье! Вам так повезло, дорогой Даурен Ержанович!
– Да, мне всегда везло, – ответил Даурен. И вдруг очень спокойным и естественным движением протянул генералу трубку.
– Не велик подарок, но прошу принять на память! И видя, что тот смешался, добавил: – В степи у нас такой обычай – тому, кто первый принес благую весть, преподносится дорогой подарок. Пожалуй, ничего дороже этой трубки у меня нет. Она вырезана из корня таежной березы. Под этой березой похоронен мой друг. Дважды эта трубка пересекала Тихий океан, ее набивали табаком, стружкой, сеном, морской травой. Когда мой второй друг умирал, – он пошел проверять невзорвавшийся запал, и глыбина ударила его по спине, – я сидел над ним и курил. Видите следы зубов? Это мои зубы. Я изгрыз трубку в ту самую ночь. Ведь это я должен был пойти к запалу, а не он. И он тоже сделал из нее две последние затяжки. Вот что я вспоминаю, когда курю эту трубку. У нас подарок за хорошее известие называется суюнши. Не обижайте же меня, Афанасий Семенович, возьмите мое суюнши.
– Спасибо, – ответил генерал растроганно, – возьму и буду помнить. Всю жизнь буду помнить. Хороший вы человек, Дауке!
И обо многом, многом они говорили еще. А Еламан лежал и слушал их. Слушал и вспоминал. О, как он ненавидел этого человека! Как пытался всю жизнь его унизить, оклеветать, уличить. И ничего не получилось, а ведь он был начальником Даурена и несмотря на свою молодость сидел на очень высоком посту. Он всегда мог запросто вызвать к себе Даурена в кабинет для разговора или нагоняя. Но никогда не делал этого: знал, какой разговор у них может получиться. Ведь если он Даурена ненавидел, то Даурен его попросту презирал – молчаливо и спокойно. Ведь это были суровые предвоенные годы, и тут Еламан показал себя вовсю. Почти к каждой гибели своего подчиненного он приложил руку.
Наступило утро 22 июня. Даурен в первый же день подал заявление об отправке его на фронт. Вот только тогда Еламан и вызвал Даурена к себе. Он хорошо приготовился. Приказал в кабинете сервировать стол и принести старого коньяка. При появлении Даурена встал и пошел ему навстречу. Простились бы вроде и дружески, но...
– Я очень рад – сказал Еламан, разливая коньяк по рюмкам, – что такой почтенный человек, как вы, подали пример патриотизма. Подвиг увлекает, за вами последуют другие.
– И вы с ними тоже? – усмехнулся Даурен. Еламан развел руками, он хорошо улавливал насмешку, но предпочел не показать вида.
– Была бы на то моя воля! – сказал он, грустно улыбаясь. – Если отпустят, то хоть завтра, хоть сегодня...
–Не отпустят, не отпустят, – успокоил его Даурен, – и поэтому вот к вам покорная просьба: добейтесь брони для Нурке Ажимова. Как вы знаете, мы много лет с ним разрабатываем одну и ту же капитальную тему. Так вот, я ухожу воевать, а он пусть продолжает работать над ней. Это жизненно необходимо для фронта. Медь – стратегический металл, а наши работы касаются именно ее.
– Будет сделано, – по-военному ответил Еламан и налил по второй. – Ну, позвольте поднять посошок на дорогу и...
Они чокнулись, Даурен подхватил что-то на вилку, зажевал, пожал начальнику руку и ушел.
Это была их последняя встреча. Даурен воевал на Западе. Изредка до Еламана доносились какие-то фразы и строки из фронтовых писем. Воевал Даурен лихо, и его имя упоминалось в сводках. О нем рассказывали раненые, вернувшиеся домой на излечение. И вдруг прошли слухи совсем иного рода. Даурен не то сдался в плен, не то просто перебежал к немцам. Ох, как эти слухи были на руку Еламану. Он и не скрывал торжества. Ничего не проверив, он вызвал брата своего врага (а он считал Даурена своим кровным врагом, хотя поводов для этого, по-видимому, и не было), кладовщика Управления геологии Хасена Ержанова. Хасен вошел хромая. Вид у него был очень неказистый: на плечах фронтовая шинель, на ногах ужасные солдатские кирзовые сапоги. Ведь он почти год пролежал в госпитале и был списан как инвалид второй группы. «Да, на жалованье заведующего складом, если не воруешь, пожалуй, лучше и не оденешься, – подумал Еламан, – а он, верно, не ворует, проклятый?! И думает, что раз так, то его и рукой не достанешь! Ну, погоди же!» Еламан и сам не понимал, почему он боится своего юродивого кладовщика. Но он точно боялся его. Боялся почти так же, как и его прославленного брата, и так же, как с тем, никогда не вступал в разговоры («здравствуй, прощай», – вот и все их разговоры), старался не замечать его и не оставаться с ним наедине. А сейчас он заговорил:
– Ну, так как воюет твой драгоценный братец? – спросил он ядовито. Хасен пожал плечами.
– Не знаю. Уже полгода нет от него писем. Я думаю, уж жив ли?
– Жив ли? – усмехнулся Еламан. – Брось, брось валять дурака. На убитых приходят похоронные, а вот на пленных да на изменников родины...
Он нарочно не договорил. Хасен стоял перед ним по-прежнему спокойный и недосягаемый.
– Так значит, не знаешь, где твой братец? – прищурился Еламан. – Ну! Ну! Так с тебя, дорогой, суюнши: в плену твой братец! Вот так!
– Так он жив! – воскликнул Хасен, поняв только одно: Даурен жив!
– А ты что обрадовался? Жив, жив, еще нас переживет, только такой живой – хуже всякого покойника. В плену он! Понимаешь, в плену. Бросил винтовку и сдался.
Хасен покачал головой.
– Если попал в плен, то, значит, не мог уж стрелять, значит, шибко раненый был.
– Хм! Хорошие рассуждения! Так что же, у него винтовки не было, чтоб застрелиться? Ножа, чтоб перерезать себе горло? Знаешь, что мне сказал майор Харкин? Вернется ваш Даурен, сошлем на двадцать пять лет в Сибирь. Советские воины не сдаются, они либо побеждают, либо умирают. У советского народа нет пленных, есть изменники родины и враги народа. Вот так сказал майор Харкин – храбрейший человек!
– Так он что, не на фронте с ним встретился? – спросил недоуменно Хасен, он действительно что-то не все понимал.
– Такие люди здесь нужны! Они укрепляют тыл! – прикрикнул Еламан. – Помогают бороться с таким врагом, как твой брат, если он вернется, и с такими приспособленцами. как ты. Так вот, дорогой. Мы тебя больше держать у нас не станем. Не то мы учреждение! Подавай заявление об уходе, понял?
– Это все Харкин вам велел? – спросил Хасен.
– Что Харкин! Я сам хозяин! Сам все знаю! – взревел Еламан. – А с товарищем Харкиным у тебя еще будет разговорчик! Не бойся! Будет! Получай расчет – и скатертью тебе дорога, понял?!
– Понял! – по-солдатски зычно ответил Хасен. – Все понял! Понял, что и ты и твой Харкин мизинца моего брата не стоите. Сто раз скажи, что Даурен добровольно сдался в плен – я сто раз тебе плюну в лицо. Тебе и твоему подлецу Харкину! Будь он неладен, – и Хасен хромая выскочил за дверь.
– Ну, погоди, погоди! – крикнул ему вслед Еламан. – Придешь ты ко мне за расчетом! О майоре Харкине так отзываться! Ну, погоди, погоди!
За расчетом Хасен не пришел, но доблестный майор Харкин, герой тыла, с этого дня Хасеном заинтересовался всерьез. Как неделя – так повестка. Как день – так вызов. Вот тогда он и решил оставить город и заняться охотою. По пустыням и лесам майор Харкин за ним, верно, гоняться не стал: плюнул! А теперь, значит, нос и ему, Еламану, и славному майору Харкину! Правда, уже вышедшему на пенсию и на свободе мирно играющему в преферанс и дурачка, но все равно герою. Да-с, будет ему теперь и дурачок и джокер. Даурен вернулся! От этих мыслей Еламан заворочался и поднял голову. И сейчас же услышал голос Жарикова.
– Спи, спи, еще рано, – и к Даурену: – Так значит, эти степи вы знаете насквозь?!
– Хорошенькое дело! – усмехнулся Даурен. – Не знать своего родного дома. Ведь в этих местах я вырос. Одна у меня мечта была все время: обнаружить тут медь. Тогда край оживет.
– Что медь здесь есть – это уже доказано, – сказал Жариков.
– Промышленное это месторождение или нет! – вот что нужно определить, – ответил Ержанов. – А это труд немалый. Нужно в совершенстве обладать современными методами разведки и анализа, чтоб ответить на этот вопрос. Впрочем, на этот счет я спокоен. Ведь здесь работает Нурке Ажимов.
– Так вот мы и дошли до основного пункта нашего разговора, – сказал Жариков и сделал очевидно какой-то резкий поворот в сторону Ержанова. – Оставайтесь здесь работать вместе с нами. Ведь Ажимов ваш ученик! И не ездите больше никуда. Вам необходимо хорошо отдохнуть и посидеть на месте. А главное – вы здесь нам очень нужны. Прямо таки позарез. Имейте в виду – это не просто разговор, это официальное предложение. Говорю от имени Геологического комитета.