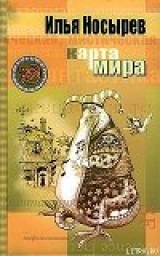
Текст книги "Карта мира"
Автор книги: Илья Носырев
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 23 страниц)
Но заботливые руки подхватили его в миллиметре от земли и поставили на ноги. Он протирал глаза от пыли, кричал и чихал одновременно. И, когда пыль рассеялась и воздух стал прозрачен, его взору предстала ужаснейшая картина.
До самого горизонта не было видно ни единого здания; ни дерева; ни человека; ни животного; ни малейшей неровности ландшафта; ни единого пятна, которое цветом бы отличалось от мертвого, белого, похожего на пластмассу песка, простиравшегося во все стороны и занимавшего все видимое пространство.
«Кругом нет ничего… Глубокое молчанье… Пустыня мертвая… И небеса над ней».
Только звезды в высоком синем небе.
Они были нарисованы, эти звезды. С посохами, как неустанные путники, брели планеты, а в глубинах созвездий притаились боги с головами животных.
А чуть ниже, под небесным сводом, была надпись на языке, на котором Рональд никогда в жизни не говорил и не читал, но настолько общим был этот язык для всех людей, настолько глубоко он угнездился в глубинах мозга еще до того, как человек стал человеком, что каждый понял бы эту надпись:
Когда люди поймут, что управляет звездами, Сфинкс рассмеется и жизнь иссякнет.
Ему удалось то, что еще ни одному человеку не удавалось, – он прошел Муравейник – от начала и до конца.
Сквозь круглую арку он покинул этот зал с нарисованным на потолке небом – и оказался в центральном помещении лабиринта.
ГЛАВА 19
Три безумца
То был еще один зал этого бесконечного музея, ничем не отличающийся от тех, сотню которых он миновал во втором круге. Он разочарованно вздохнул – а затем схватился за меч, внезапно осознав, что он здесь не один.
Кто– то притаился в темноте, дремлющей за металлическим корпусом громадной машины, возвышавшейся на его пути.
– Выходи, если ты не трус, и сразись со мною!
– Я не только сам не трус, но и научил тебя не быть трусом, – произнес бесконечно знакомый голос. – Теперь я это вижу ясно, хоть и стою в темноте.
Пауза шелестела сухими листьями, которые непонятно откуда берущийся ветер гнал по коридору лабиринта.
– Отец? – удивился Рональд.
– Я, сынок, – ответила темная фигура.
Она вышла на свет, и Рональд увидел человека, которого считал безвозвратно потерянным. Он пал отцу на грудь, обнял его и хотел было заплакать, но вовремя вспомнил, что рыцарь плакать не должен – никогда, ни при каких обстоятельствах.
– Папа, – произнес Рональд сдавленным голосом. – Почему ты исчез? Зачем ты оставил нас одних? Мама рассказывала мне в детстве, что ты был драконоубийцей и пал в битве с драконом. Когда я подрос, то понял, что это ложь во спасение. Так где же ты был, папа?
– Сын, – отвечал Исаак. – Все не так просто. Пойдем.
И они двинулись по длинной галерее. По обе стороны от них возвышались громадные непонятные машины столь причудливого вида, что Рональд и в сказках о таких не слыхивал.
– Арьес послал меня на разведку в деревню еще в 53-м году, вскоре после исчезновения короля, – рассказывал Исаак спокойным тоном. – Уже тогда в Новых Убитах завелись эти крестьяне-мертвецы. О них мало кто тогда слышал – ведь в Вечном городе вообще ни о чем, кроме цен на доспехи и новых модах знать не желают. Но Правитель чувствовал, что заваривается серьезная каша, которую всем его потомкам не расхлебать, и решил разузнать, что здесь и как.
Я приехал сюда один, на рассвете. Я помню этот день, словно это было сегодня. В сущности, в каком-то смысле это и было сегодня. Что есть время, как не один день, в течение которого мы возвращаемся воспоминаниями к утру, а сами движемся к вечеру?
Крестьяне встретили меня на удивление радушно: я назвался им купцом, караван которого ограбили разбойники. «Какие ж тут разбойники, батюшка, когда мы сами над Убитами крышу держим?» – удивился староста и, видно, не поверил. Но поселил меня как гостя, потчевал, чем мог – а я целых три месяца безуспешно пытался подслушать какой-нибудь разговор, касавшийся мертвецов, найти хотя бы намек на их присутствие в деревне.
Ты знаешь, я ведь был гением дознания всяких секретов. Меня посылали даже ко двору турецкого салтана – ведь я и по-турецки говорю, как настоящий турок, – и там я сумел завоевать доверие Великого визиря и вызнать те тайны, что потом позволили нам выиграть всю войну.
А тут я растерялся. С одной стороны, крестьяне вроде и не таили ничего. С другой стороны, вроде им и таить-то было нечего: живут они так же, как все, веруют в Христа, ревенантов в деревне не видно… Вопрос, заданный в лоб, их только напугал бы и настроил против меня – и вот я терпеливо заговаривал со знакомыми, намеками пытаясь вывести их на тему Муравейника – но новоубитцы настолько ловко обходили мои расспросы, что складывалось впечатление, что они действительно ничего не знают. Тогда я решил прибегнуть к своим самым эффективным трюкам.
Прежде всего, я пролез на сельский сход, переодевшись кузнецом Иеродулом, загримировавшись и нацепив бороду. Самый прихотливый контрразведчик при дворе турецкого салтана не отличил бы меня от настоящего кузнеца. Я просидел на сходе битых два часа, слушая, как мужичье спорит о меже, корме для свиней и испускает газы, да так и ушел ни с чем.
Затем я соблазнил дочь старосты, тайком от ее отца крутил с ней роман – целую неделю – а затем назначил ей свидание на кладбище, надеясь, что именно там ее легко будет вывести на нужный разговор.
«И, батюшка, – сказала она. – Чтой-то у вас скус извращенный; напрасно я с вами связалась». И действительно обидевшись, ушла. «А существует ли этот Муравейник вообще?» – задумался я, когда бесцельно прошли два месяца.
Наконец я решился на самый отчаянный шаг – забрался под косяк избы сельского старосты на свадьбе его дочери, чтобы подслушать разговоры пьяной компании. Ты же понимаешь, у пьяных нет секретов. Правда, долго мне там не удалось провисеть – избу топили «по-черному», и из-за отсутствия трубы весь дым скапливался именно под косяком. Я терпел почти целый час – а потом свалился прямо на обеденный стол.
Мужики едва меня не убили – только сам староста, у которого я жил на правах гостя, меня спас.
«Ты, мил человек, хватить дурить-то, а то мы тебе навешаем», – предупредил меня староста, когда свадьба закончилась. – «Пришел в гости, так и живи как человек, не бесчинствуй; а то вон что вытворил: кузнеца нашего в стог затолкал, на женитьбе дочки моей посуду побил, сверзнувшись с неба, точно звезда какая. Известно, ты человек веселый и любящий всякий розыгрыш, иначе бы не стал бы рядиться кузнецом на сельском сходе, когда всякий знал, что кузнец орет там, в сено запрятанный, да и над головами нашими повиснуть не решился бы, пока мы целый час есть и пить нормально не могли, а крепились, как бы не захохотать: мы ж думали, ты веселое что устроишь, подарок какой оттуда сбросишь моей дочке (чай, не зря ее брюхатил, поди) – и оттого вид делали, что не замечаем. Однако ж всякому веселью свой предел положон, и шутки у тебя все старые, ничего нового изобресть не умеешь. Ежели хорошо тебе у нас, то живи; а ежели скучно и занять себя нечем, иди куда шел, скатертью дорога».
И тогда я, осознав, что методы мои желаемого результата не принесли, спросил старосту в лоб:
– А правда ли, что вы якшаетесь с мертвецами?
– Лгать не буду – так и есть, – отвечал староста. – Я уж и надеяться перестал, что ты спросишь; уже третий месяц у нас живешь, а о главной-то нашей примечательности и слова не сказал. Я и сам тебе хотел рассказать, да рассудил: раз уж Новые Убиты такое знаменитое село, то негоже, чтобы мы сами нахваливали свою родину и сами начинали о чудесах всякому встречному расписывать. Нет уж, отец, ты сам нас обо всем спроси, а мы своей гордости не уроним. Ко мне даже и мужички приходили спрашивать: «Рассказать разве ему, малахольному, про наших мертвяков?» – а я им: «Никак нельзя, раз уж он себя таким фанфароном протестовал, задается на орехах и вопросика единого нам еще не задал про наши дива дивные, так и хрен с ним, пускай фанфаронничает, а мы себя держать будем и в грязь не оступимся».
«Ооооо, вот дурачье», – только и подумал я. Три месяца хитрых расспросов, продуманных акций, напряжения умственных сил и целое море дедукции – и все впустую из-за безмерной тупости и спеси этих презренных вилланов! И это я, Исаак Турецкий, коему прозвище сам Государь даровал за великие услуги, оказанные при османском дворе, оказался бессилен перед дремучим сознанием этих крестьян! Ибо поистине логику отличных от нас с тобой людей понять просто невозможно – и кто смог бы понять логику всех народов и племен, что населяют круг земель, тот стал бы подобен богу.
– Веди же меня туда, где живут эти мертвецы! – потребовал я, ибо не хотел больше терять времени.
– Изволь, – отвечал он. – Путь туда короток, а вот обратно – длинен.
И мы зашагали по дороге, ведущей в лес.
Мы шли, как и обещал староста, недолго. Вскоре я увидел разбитый среди леса лагерь, нет, какой там лагерь, настоящую деревню! Она казалась оживленной, я заприметил это еще издали. Я не боялся, сынок, страх, как ты помнишь, истинному рыцарю неведом. Но я опешил (удивление ведь простительная вещь, верно?), когда на меня набросилась толпа с вилами. За три месяца жизни среди крестьян я привык к тому, что народ это незлобивый и спокойный. А тут… Я поскакал от них прочь, они гнались за мною. Время от времени, дождавшись, когда один из мужиков вырывался вперед, я оборачивался и давал ему попробовать меча – старая, испытанная тактика растягивания вражеской линии – ты помнишь мой урок? Но – о ужас – несмотря на страшные раны (некоторым я даже голову с ходу отрубал), они не умирали, а бежали за мной все с той же прытью. Удивлению моему – да, да, сынок, именно удивлению, а не страху – не было предела. У самого леса один из них упал головой вперед и вцепился зубами в ногу моему коню. Зубы у парня были самые обыкновенные, а мой конь лягнул простака по маковке, раздробив ему череп – но безумец не разжимал челюстей. Мы так и скакали – втроем. Затем, уцепившись за ногу, он вспрыгнул моему коню на спину, схватил меня за шею и сбросил на землю. Остальная орава набросилась и примяла меня к траве.
«Души сеньора, души!» – вопили они. Но тот, что сбросил меня, возбранил им, сказав, что меня ждут в Муравейнике. И они потащили меня туда. О небеса! Каким ужасом все это казалось мне тогда. Они принесли меня сюда, вот в этот зал и показали эту стену.
И тут Рональд, погруженный в рассказ отца, понял, что они стоят у странной стены – сделана она была, похоже из камня, но по мере отдаления камень терял свои очертания и превращался практически в туман. Рональд почувствовал, что хочет обернуться – и не смог: некуда было оборачиваться. Он вдруг понял, что тело его стало плоским, двумерным и он висит на этой стене в качестве рисунка, барельефа.
Отец с силой рванул его за плечи, и Рональд очутился в обычном мире. Стена по-прежнему, впрочем, находилась перед ним, и рыцарь чувствовал неодолимое очарование вновь пасть на нее и обратиться в рисунок.
– Так нельзя, – сказал отец, – ты не вернешься, если будешь путешествовать и телом и душой. Сними свое тело.
И тут Рональду стало страшно так, что его язык отказался ему повиноваться. Он, правда, через миг пришел в себя и изобразил глубокую задумчивость, но отец, кажется, что-то заподозрил и нахмурился укоризненно.
– Что это за стена? – выдавил Рональд, как ему показалось, все-таки вполне уверенным и куртуазным тоном.
– Стена Вечного возвращения, – ответствовал отец, – Видишь ли, Муравейник гораздо больше, чем об этом принято думать. Ведь Правитель уже присылал сюда людей вроде Иегуды и чудотворцев более сильных, которые видят сквозь стены – и ты думаешь, если бы король находился внутри лабиринтов Муравейника, они его не нашли бы? Но король спрятан не в этих коридорах – ты ведь сам уже прошел их большую часть и, наверное, заметил, что там нет почти ни одной живой… кхе-кхе, ни одной души.
– Король спрятан там, – длинный тонкий палец отца указал на стену, – там, в глубинах, в том мире, где мертвецы обретают силу вернуться на этот свет.
Рональд сглотнул. Страх уже прошел, но новое мерзкое предчувствие проникло в его душу.
– И мы пойдем туда? – спросил он.
– Да, – ответил отец. На его молодом лице не было ни тени каких-либо переживаний по этому поводу, и Рональд понял, что для него идти этим путем – все равно что ходить из одной комнаты родового замка в другую – ежедневное, ординарное занятие.
– Но прежде ты должен снять свое тело, – заключил отец.
– Снять тело?
– Именно. Смотри.
Рональд посмотрел направо и увидел длинные ряды вешалок, на которых, словно одежда, висели… человеческие тела! За эти полчаса реальность показалась ему такой же сказкой, как сказка о мальчике-с-пальчике или семерых козлятах. Он уже не боялся и не удивлялся, а лишь медленно брел вдоль вешалок, рассматривая тела. Они не были мертвыми и не были живыми – кожа лиц и рук производила впечатление вычищенной и отутюженной ткани хранимой в строгом порядке одежды. Тела принадлежали крестянам, рыцарям, монахам, мужчинам, женщинам, детям. Ему показалось, что он увидел в этой бесконечной веренице несколько знакомых лиц. Рональд вгляделся и едва не вскрикнул от неожиданности.
– Король Эбернгард!
– Тело короля Эбернгарда, – уважительно поправил его отец. – Ты немного заслужишь почета, если вернешь его в Город. Оставив настоящего Короля там.
Он показал на стену, а затем на две свободные вешалки, висевшие рядом с королем.
– Одна – моя, одну берег для тебя, – пояснил отец. – Знаешь, как это делается? Как рубашку – возьми тело за горло и сними с себя.
Он взялся за свое горло и стал стаскивать тело с чего-то серого и плоского, что в нем крылось. Рональд едва не взвизгнул от страха.
Не взвизгнул, нет, черт, не взвизгнул, это бы совсем стыдно было. Громким, но уверенным голосом Рональд молвил:
– Отец, погоди!
– Что? – невнятно спросила серая фигура с наполовину скинутым через горло телом.
– Скажи мне: ты меня не обманываешь?
Исаак надел тело обратно, сидело оно немного криво, но лицо было тем же: лицо отца.
– Нет, сынок, – сказал он, пристально глядя Рональду в глаза.
– Я тебе верю, – ответил Рональд, взялся за свое горло и рывком снял тело с себя. В двумерном мире, где двигалось то, что оказалось под телом, возиться с вешалкой и пристраивать на ней свое тело, как оказалось, такое увесистое и громоздкое, было делом нелегким, но, к счастью, отец помог управиться.
Вместе они скользнули на стену и начали двигаться по ней, словно картины волшебного фонаря или китайского теневого театра. Рональд первое время краем глаза косился со стены на проплывавшие мимо них предметы, стоявшие в зале, – вешалки, машины, а потом понял, что видит их не потому, что его тень движется по камню стены, а потому, что время повернулось вспять и он снова проходит по тем коридорам, где был полчаса назад.
Но так было только сперва, если правомерно употребить это понятие, – а потом мир и вовсе превратился в туман. Рональд, ведомый своим проводником, смотрел отцу в затылок и не видел его – ибо у фигуры отца не было ширины. Сколько они шли – должно быть, века, и ничего не менялось.
Лишь один раз их спокойное скольжение было отмечено событием: вдруг Рональд почувствовал как бы нарастающий гул ног и бряцание оружия и увидел, что навстречу им движется целая армия в несколько тысяч. Они двигались вереницей, слегка налегая друг на друга, как ассирийский барельеф, – тьмы воинов тьмы – вереница в тьмы и тьмы воинов. Они прошли мимо как курьерский поезд (Рональд часто встречал в старых манускриптах сравнение с этой машиной), не поприветствовав и не бросив ни одного копья, – тихо прошагавшее эхо многих ног.
Некоторое время они с отцом вновь скользили по этой пустоте – две тени на стене.
Затем Рональд увидел мир, сотканный из разноцветного тумана. С удивлением он понял, что его тело вновь обрело форму, а сам он стоит на красном поле, над ним ходят белые облака, впереди раскинулось синее море, вокруг зеленая трава, по небу летают какие-то неразличимые птицы, говорящие человечьим языком, бесы тащат по двору упирающегося пьянчугу, роща справа от него весело, без дыма и чада горит малиновым огнем – и все вокруг на сто миллионов миль заполнено душами людей, животных, растений. Цвета были яркие, словно на детском рисунке.
– Ого! – только и сказал Рональд.
И, хоть он и унизился до подлого слога, отец не нахмурился.
Ярмарку напоминало это место – так здесь было весело. Правда, и страшновато тоже было: очень уж блестели глаза у людей, точно были нарисованы гуашью.
Крыши домов словно таяли, превращаясь в радужный туман, проглядывали друг сквозь друга и сквозь тела людей, растекались потоками акварельной капели – и собирались вновь. Мир-леденец, мир – цветное стекло – Рональд диву давался, глядя на эту картину, сквозь которую они шли.
Деревья и вовсе были похожи на рождественские елки количеством нестерпимо ярких огоньков, неспешно путешествующих в их листве, испаряющихся и нарождающихся вновь среди корней. В воздухе возникали паутинчатые надломы, изгибались и искрились ярким светом.
– Вот там он, – сказал отец.
Рональд увидел радужную реку: ее воды текли, словно ртуть, и принимали разные цвета каждую секунду их движения. Оттого течение это не имело видимого направления и скорости: изменения цветовых пятен завораживали и приковывали к месту. И только одно пятно, серого цвета, оставалось неподвижным; прошла почти минута, прежде чем Рональд сообразил, что это силуэт сидящего на берегу человека. Рональд видел только его спину и золотую корону, из-под которой ниспадали седые волосы.
– Мой король! – воскликнул Рональд, падая на одно колено.
Эбернгард смотрел на него с грустью; вид у него был какой-то опустившийся, лицо стало морщинистым, словно у пьяницы, но тяжелый взгляд серых глаз был тот же самый, что Рональд запомнил во время какого-то ушедшего в прошлое праздника, когда отец впервые представил его своему сеньору.
– Долго же я ждал, – произнес он, и изо рта его упал на землю черный камень, растаявший дымом в сантиметре от почвы. – Неужто за все эти годы нашелся всего лишь один человек, который сумел сюда проникнуть?
– В этом нет моей заслуги, Повелитель, – признался Рональд. – Меня провел сюда Иегуда, монах из монастыря Св. Картезия.
– Не только и не столько он, – усмехнулся король. – Да уж: в Риме пятнадцать раз пожелтели и опали листья, а затем пятнадцать раз выросли новые…
Он провел рукой по бороде и та истаяла, а затем появилась снова, дрожа в этом волнующемся воздухе, который, словно штрихи, распадался на отдельные линии.
– Что же ты делал все это время, Повелитель?
– Я размышлял, сидя у реки, не сходя с места вот уже несколько долгих лет. Размышлял о том, насколько жалок удел человека, каждый поступок которого, даже преисполненный благородных намерений, производит лишь разрушения. Я пытался сделать людей счастливее, я покинул Рим оттого, что осознал: скука, там царящая, есть нечто большее, чем скука: это – мерзость запустения в головах у людей.
Знаешь, чем я занимался, сидя в Риме? Я пытался предсказать будущее – не по звездам, не по печени жертвенных животных и даже не научно – просто по ощущениям. Я видел, что Вечному городу уже недолго остается: мы были сильны все пять веков после Конца Физики, но империя наша окружена молодыми народами, им хочется крови – и они ее вскоре вкусят, и это будет наша кровь…
Он потупил взор, а глазные яблоки его отчего-то стали светиться внутри головы. Река уже текла совершенно в другом направлении, ее ложе отошло на несколько метров в сторону – это Рональд только что заметил. Дерево над их головой превратилось в хрустальный гриб, медленно качающий громадной шляпкой.
– Есть нечто недоступное варварам – сила науки. Варвар может купить автомат или атомную бомбу, но к тому времени, как он обучится ими пользоваться, мы изобретем новое, гораздо более мощное оружие – и ему ничего не останется, как только проситься в Вечный город торговать пирожками… Не в этом дело. А вот в чем: мы – тоже варвары, самые настоящие. Дикарь интересуется прогрессом только тогда, когда ему нужен новый мушкет или атомная бомба, способные снести голову более сильному противнику. А когда вспоминает о прогрессе цивилизованный человек? Ему хочется летать только тогда, когда лень ходить…
Социальный прогресс отстает от технического, и в этом кроется возможность греха. Я, глупец, искренне поверил в то, что люди минувших дней просто заблудились и пошли не по той дороге, по которой нужно было идти. Я вновь открыл секрет жидкого света, текущего по проводам, я вновь построил заводы и фабрики – но люди сломали их, они прокляли секреты химии, отравившей их воду. Они не готовы к изобретаемым ими самими же чудесам: человек создал мыслящие машины, но чтобы жить с ними в гармонии, ему самому нужны миллионы лет, чтобы стать принципиально другим существом. Разве это справедливо? Отчего мертвую материю можно усовершенствовать в течение нескольких дней – а живой для этого нужны миллионы лет?
Появились секты, уничтожающие машины, святые, проклинающие науку и отрицающие самые очевидные законы физики… И они были правы – наука в неизбежно неумелых руках цивилизованных варваров всегда будет опасна. В обществе животных самое светлое открытие будет направлено на то, чтобы пересажать всех и каждого по клеткам, унизить, заставить делать то, к чему душа не лежит… Антиутопия – это тень человека, ни тень не живет без него, ни он без тени. Люди каждый день идут на бой за то, чтобы превратить землю в ад – возможно ль с ними бороться?
Гриб вновь приобрел форму дерева, чьи ветви плавно отделялись от ствола и медленно улетали в сторону реки. Уже над самой ее стремниной они превращались в какие-то живые существа – Рональд был готов поклясться, что это чайки. Пошел ливень, теплый, радужный: капли не долетали до земли, а останавливались в двух метрах от нее и начинали медленно подниматься обратно. Можно было подставить руку и ласкать этот странный дождь, словно шкуру волшебного животного.
– Не знаю, были ли попытки использовать Карту мира в века, предшествующие нашему. Поэтому говорю только о том, что знаю достоверно. Было на свете два безумца. Первый был истеричным мальчиком, перечитавшем множество бессмысленных книжек о мировой гармонии, сродстве всех стихий и общечеловеческих идеалах. Он отыскал Карту мира, вещь, загадочным образом оказавшуюся в здании, где некогда работал Лоренс Праведник, и исполнился невероятной магической силы, позволяющей творить каких угодно существ, – но столь больным было воображение этого юноши, что породил на свет он только чудовищ и сам сделался страшнейшим из них. Вся земля была поражена немыслимым бедствием. И тогда второй безумец, не в силах глядеть, что творит с собственными крестьянами первый, взял Карту в другой раз и пробудил ото сна умерших, позволив живым путешествовать в этот странный мир, который, видимо, является раем – а мертвым появляться в мире людей и творить добро и зло по своему усмотрению. Но он только расшатал грань между миром живым и миром мертвых – и сделал эту землю еще ужаснее, нежели она была, ибо и сам был человеком не вполне здоровым и тоже прочитал множество бесполезных книжонок. Звали этих безумцев Альфонс фон Бракксгаузентрупп и Эбернгард Исповедник. А теперь к этим двум безумцам собирается присоединиться третий, и горе этому миру, где так много безумцев.
Старик-нищий из монастыря Св.Ингеборги, что просил его убить ради светлого рая, подал мне новую мысль. Я решил: отчего не даровать людям заменитель вечной жизни, позволив им возвращаться с того света? Я помню ночь, когда сидел на холме, глядя на гаснущие огни, и разговаривал с Картой… О ночь та! Да не вспыхнет в ней ни одна звезда, да войдет в нее забвение! Птицы небесные да угнездятся на ее развалинах, демоны да утащат ее в ад! Я приказал Карте исполнить мое желание, и она принесла меня в это странное место. Оно существовало и до моих упражнений с Картой, разумеется, – я только позволил существам из него возвращаться в наш мир. А Муравейник родился в качестве своеобразного шлюза между тем светом и этим…
Он повернулся в профиль и голова его стала плоской, как на отчеканенных в его честь монетах. Слеза путешествовала по его щеке, хаотично двигаясь вниз-вверх и в стороны.
– Так вот что здесь случилось! – выдохнул Рональд.
Дождь кончился. Мимо прошагал циклоп и растаял в лесу. Единственное облако в небе вдруг сорвалось со своего места и с грохотом рухнуло на ближайшую избу. Эбернгард бросил усталый взгляд на лезущих из разрушенного дома людей и продолжал:
– Иегуда – фанатик, ему лишь бы восстановить status quo – он даже не понимает, что нет никакого status quo – мир меняется ежедневно, а возвращаться в прошлое – глупейшее из занятий. Не лучше ли путешествовать по океану Времени спокойно, не задумываясь, принимая на веру любое обличье и образ?
Дерево стало жидким и медленно стекло в реку – а на гладкой поверхности появилась фигура скорбящей женщины, статуя, едва заметно пожимающая плечами и качающая головой; она поплыла по течению, но вскоре утонула, а радужная вода побелела, словно молоко. От этой постоянно меняющейся пестроты начинало рябить в глазах, а еще откуда-то с самого глубокого колодца души стала подниматься тревога.
– Государь, – вопрос, будоражащий графа, не мог дать ему промолчать. – Я видел странную картину в третьем круге, картину времен Конца Физики. Я видел Лоренса Праведника, которого убил рукотворный дух, я видел гибель Аль-Магадана – и теперь хожу, словно в бреду, пытаясь понять, что же случилось на моих глазах…
– Все очень просто, – хмыкнул король. – Лоренс Праведник отнюдь не взывал к Богу с мольбой уничтожить Злой город, как раньше об этом говорили. Он сам создал Бога…
– О повелитель! – воскликнул Рональд. – Казни меня, но не говори, прошу тебя, этих еретических речей.
– Ереси тут нет, – строго сказал король. – Тот бог, которого создал Лоренс Праведник, не есть Бог всей нашей Вселенной. – То был бог только нашего мира, после явления которого и перестали действовать старые законы физики. Я разговаривал с людьми, знавшими Св. Лоуренса, я понял смысл его работы. Он был атеистом, как ни странно это звучит – атеистом, истово верующим в необходимость гармонии. Используя восемь измерений, прячущихся за кулисами нашего мира, он создал божество, потворствующее нашим желаниям, божество, которое всегда идет нам навстречу – либо сумме слабых устремлений множества людей, либо силе устремления одного человека, умного, образованного, верящего в свое видение мира. Люди мира хотели, чтобы Аль-Магадан пал – он пал, они боялись науки – физические законы и вовсе перестали действовать, им хотелось в те уютные легендарные времена, что рисовала их фантазия, – времена эти вернулись. Не знаю наверняка, но вероятно, я все-таки понял главный принцип этого божества – оно стремится сделать счастливым максимальное количество людей; однако, зная, что представления плебса о счастье могут привести его только лишь к гибели, оно оставляет мудрецам возможность корректировать курс, которым движется корабль. Эта возможность – Карта мира. Святой Лоуренс не случайно оставил ее в башне; не случайно никто никогда не мог спрятать ее у себя, чтобы узурпировать право управлять мирозданием в одиночку.
– О государь! – воскликнул Рональд. – Ты, должно быть, оговорился: разговаривал с людьми, которые знали Лоренса Праведника… Но ведь они должны были умереть много веков назад…
Он осекся. Король прищурился:
– А что это, как не место мертвых? – спросил он. – Здесь обитают все мертвецы, не все с сотворения мира, правда, а все, кто умер, начиная с того самого момента, как чаша терпения Господня переполнилась, и Аль-Магадан пал. На всех, кто жил после Конца Физики, пало проклятие – для них нет ни светлого Рая, ни мрачного Ада – а только это место, забавное, но довольно бессмысленное. С севера на юг ходил я по этому царству, и с востока на запад – и вопрошал всех: где же сам святой Лоренс? И никто не ответил мне, и понял я, что он не умер, а жив и ныне.
– Жив? – вздрогнул Рональд и даже устыдиться за был этого.
– Да, жив – только никто из мертвых не указал мне места, где он пребывает. Раньше я думал, что, в отличие от тех, кто жил после разрушения Аль-Магадана, на него не пало проклятие нашего мира и он попал в светлый Рай, а не в то место, где мы с тобой разговариваем. Но однажды я сидел на берегу радужной реки и размышлял о судьбах этого мира – и вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся – и сразу понял – вот он, Лоренс Праведник, хоть он выглядел совсем не так, как на иконах. Я хотел пасть ему в ноги – но он остановил меня жестом. А затем он сказал мне: «Дни этого мира сочтены. Я сделал большую ошибку, дав своему творению свободу воли. Видишь, во что превратилась эта земля. Пусть кто-нибудь из твоих рыцарей найдет мой дом в Аэрусе Бонусе, я живу там до сих пор. Тогда я расскажу ему о том, как родился этот мир и что за бог им управляет. Пусть он успеет в ближайшие десять лет – ибо я знаю, что Вечный город скоро будет разграблен и сожжен, и последнее Знание, что еще живо, погибнет». И говорил он не высоким слогом, подобно дворянам, и не цитировал Библию, словно духовенство, и речь не была его низкой и подлой, как речи крестьян. Но говорил он так, как и все люди, когда не было ни королей, ни третьего сословия. И он дал мне это зеркальце, в котором я увидел страшные вещи. И исчез. Видишь, – король достал из кармана маленькую вещицу, – я замотал его в платок – чтобы не умножать скорбь, глядя в него. Возьми его и открывай только в дни сомнений в своем выборе – чтобы увидеть, что случится с твоим родным городом, если ты не успеешь.
– Государь, – забормотал Рональд, – пойдемте отсюда, мне кажется, за нами погоня!
– Почему тебе так кажется? – усмехнулся король. – Не за нами это погоня, и не того ты боишься, чего следовало бы.
К ним со всех сторон летели вытянутые в длину птицы, разворачивая на лету свои огромные крылья, которыми они вовсе и не махали, точно детские самолетики. Их острые клювы были нацелены прямо в сердца всех троих.
– Пойдем! – сказал король, схватил Рональда и его отца за плечи и резко дернул.
Они снова двигались в тумане, снова плоские и двумерные. Яркие краски исчезли, как чудесный сон, птицы – как кошмар.
Стоя на дне колодца, под белым кругом неба высоко вверху, Рональд смотрел, как поднимаются по лестнице его спутники. Делали они это одинаково легко, но каждый на свой манер: Иегуда – по-кошачьи мягко, отец – напрягая мышцы так, что веревки звенели, как струны, причем на удивление мелодично, Правитель – вовсе не проявляя никаких усилий, словно был облаком, не имевшим веса.








