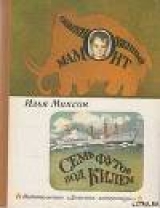
Текст книги "Семь футов под килем"
Автор книги: Илья Миксон
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Илья Львович МИКСОН
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ
ШЕСТЬ СТРОК
(Вместо предисловия)
Худые вести обуты в тысячемильные сапоги. Трагическое сообщение из Вьетнама догнало грузовой теплоход «Ваганов» в Северном море.
В рубке стоял полумрак. Горела лишь надстольная лампа в нахлобученном алюминиевом колпаке. Вытянув гибкую шею кронштейна, лампа близоруко уставилась в пишущую машинку. Каретка машинки от качки съехала до упора в сторону и спрятала в тень густо заполненный лист бумаги, словно напечатанные строчки заключали тайну.
Принятая радиограмма не была ни секретной, ни служебной. Очередной радиобюллетень газеты пароходства. Урезанной, предельно сжатой, втиснутой в жёсткие рамки отпущенного эфирного времени. Всё второстепенное отброшено, факты очищены от лишних слов, как орехи от скорлупы.
Встреча высокого гостя из братской страны.
Досрочный пуск домны в Сибири.
Открытие новой станции метро в Ленинграде.
Зарубежная хроника.
И эти шесть строк из Вьетнама…
Сеанс радиосвязи кончился. Николаев имел право спуститься в свою каюту на отдых. И время – самый сон, два часа после полуночи. Справа и слева по курсу ни огонька. Европа спит. Не засветились ещё окна и в Ленинграде, но там в прошедшую ночь в одной из квартир, наверное, и не смыкали глаз. Женщина, во всяком случае…
Николаев лежал на диване, упёршись длинными ногами в подлокотник. Крутые волны заваливали судно то на один борт, то на другой. Николаев тоже качался, но не замечал этого. Из головы не выходили шесть строчек.
И думал он вроде бы не о них, не о том, что случилось во Вьетнаме, вспоминал давнишнее, полузабытое, занесённое давним слоем времени. Копался в памяти, словно археолог на раскопках. Попадалось драгоценное, существенное и нечто случайное, забытые пустячки. Но теперь всё имело значение, было важным и дорогим.
Мысли Николаева обращались по замкнутым орбитам, как спутник вокруг Земли, то удаляясь, то приближаясь к главному центру.
Над головой, насторожённо выпучив рубиновое око, приглушённо урчал автомат SOS. Случится в море беда – автоаларм сработает, поднимет тревогу, зазвонит-затрезвонит, вызовет в рубку радиста. Сейчас автоматический приёмник сигналов бедствия молчал. Тому, что произошло во Вьетнаме, уже никто и ничем не мог помочь…
Через приоткрытый иллюминатор ветер трепыхал накрахмаленную занавеску. Она билась и шуршала, как светомаскировочная штора в разбитом окне.
Как тогда, в Ленинграде, в сорок втором…
Надо было встать. Встать во что бы то ни стало. Встать, преодолеть бесконечное расстояние между диваном и окном, прижать нижнюю кромку бумажной шторы к стене, приколотить гвоздями, сделать что-нибудь. Не для затемнения: электричества в городе давно не было, а последняя плошка сгорела.
Надо встать, закрыть амбразуру окна. Через раму с выбитыми стёклами врывались снежные заряды, сугроб дорос до дивана.
Он замерзал. Не мёрз, а замерзал. Насовсем, навсегда.
В одурманенном сознании билась несбыточная мысль: выбраться из-под вороха одеял и пальто. Они не грели, лишь давили на истощённое, сморщенное от холода и голода тело.
Выбраться, отгородиться от метели, спастись от лютого мороза. Изрубить бабушкин буфет с аппетитными тетеревами и виноградом на дверцах, разжечь железную печку-«буржуйку». (Бабушка и мама, когда ещё были живы, называли печку «буржуйкой».) Набрать в чайник снегу, поставить на огонь и потом медленно, обжигаясь, отхлёбывать животворный кипяток.
Всей жизни уже не хватит на эту работу! Руки, ноги – будто и нет их совсем. И не было никогда.
Разве эти ноги – неподвижные тонкие жерди – били когда-то по мячу? Возносили без передышки на пятый этаж?
Разве эти руки – тонкие ветки засохшего деревца – водили пером, держали паяльник? Отрывали киркой и лопатой щели-убежища у дома?
Разве была когда-то мирная жизнь? Без войны, без блокады, без смерти?
Он не сразу сдался: пережил всех в квартире и подъезде, а быть может, и во всём доме. Вокруг – мёртвая тишина.
Говорят: толстые больше страдают от голода. Но у тощих ведь никаких внутренних резервов! Вася с рождения худой и тонкокостный, вот и обессилел. На шестом месяце блокады.
Встать. Надо встать. Помог бы кто, одному не справиться. Верный друг Коська Смирнов исчез куда-то, неделю не виделись. Или две. Или месяц. Дни считать – тоже силы нужны.
Встать. Надо встать…
От мучительно долгого напряжения опять помутилось в голове. Тетерева на дверцах буфета ожили, принялись клевать виноград, защебетали:
«Вася… Вась, ты жив?»
Бред, конечно. Тетерева не попугаи, не разговаривают. Тем более деревянные. Это Коська зовёт. Стоит, наверное, внизу, на тротуаре, задрал вихрастую голову, приложил ладони рупором и кричит на весь Васильевский остров:
«Ты жив?»
Подбежать бы к окну, навалиться на подоконник, помахать рукой, ответить:
«Жив! Заходи! Ты где пропадал так долго?»
Вася собрался с силами и приоткрыл глаза.
Раскачиваясь, как белый медведь, мохнатый с головы до ног от инея, кто-то медленно-медленно приближался к дивану.
«Смерть пришла», – равнодушно подумал Вася и закрыл глаза.
Смерть тяжело присела на краешек дивана и заговорила немощным, старческим голосом:
– Вася, ты жив?
«Не видишь, что ли?» – хотел ответить Вася, только не смог.
Смерть наклонилась к самому уху.
– Ты жив?
Вася слабо шевельнул смёрзшимися ресницами. Теперь он точно знал, что жив. Перед ним был Коська Смирнов.
– Держись, – сказал Коська и опять исчез.
Через какое-то время явились два старика. А может быть, и не старика. Тогда все выглядели дряхлыми – и дети и взрослые.
Коська ждал в подъезде, выдохся. Первый день из госпиталя. Коську ранило осколком на Университетской набережной, рядом с госпиталем. Если бы его не ранили, он бы, наверное, просто умер от голода. И не пришёл бы за Васей.
Санки – на таких возили раненых, воду с Невы, мёртвых – потряхивало и качало на неровностях и ледяных торосах проспекта. Когда удавалось разлепить веки, виднелось серое небо в снежной кутерьме или заиндевевшее лицо Коськи. Он часто спрашивал:
– Вась, ты жив?
Он всё молил, требовал: «Живи… Живи. Живи!»
Ветер срывал верхушки сугробов, как пену с морских волн. Санки переваливались с холма на холм, и Васе казалось, что он на пароходе в штормовом Индийском океане. Стоит тропическая жара, и совсем не хочется есть. Нисколечко не хочется, как до войны.
Пароход качает, в лицо хлещет белая пена. Но ничего, стальной корпус не такой шторм выдержит, и машина сильна.
«Полный вперёд!» – капитанским басом командует Вася.
– Полегче, полегче, – хрипит кто-то, – перевернём…
А Коська одно и то же твердит:
– Вась, ты жив?
Он увидел в белом тумане Коську и снова провалился в небытие. Спустя несколько минут воспалённый мозг опять заработал, но теперь Вася очутился не в будущем, а в прошедшем. Они с Коськой третьеклассники и уже связаны нерушимой клятвой, сверхсекретной. Никто и не догадывается, что они посвятили свою жизнь морю. Никто, разве что дома…
«А это откуда? – упавшим голосом спрашивает мама, разглядывая вывернутый манжет рубашки. Там лиловое пятно. – А ну покажи руку, безобразник!»
Этого он не сделает и под страшной пыткой! На левом запястье «вытатуирован» чернильным карандашом матросский якорь.
…Огромный вал с такой силой обрушился на палубу, что застонали переборки. Теплоход затрясся на пенистых обломках волны, как на ледяных торосах.
Николаев крепче упёрся ногами.
– Вконец озверели, – пробормотал он вслух.
И было непонятно, кого он имел в виду: штормовые волны, атаковавшие «Ваганов», фашистов, вцепившихся в горло Ленинграда в ту войну, или тех, кто напал вчера на советское торговое судно в мирном вьетнамском порту.
Если бы он был в ту минуту там! Броситься на помощь, подхватить оседающего, залитого кровью Костю. «Коська! Друг! Живи, Коська! Живи!»
А Костя ответил бы, наверное, умирающим голосом блокадного мальчика: «Поздно, Вась… конец».
Николаев так живо представил себе последний разговор с другом, разговор, который не был и уже никогда не мог состояться, что на лбу выступила испарина. Он покрутил головой. Плакать Николаев не мог: разучился в блокадные дни и ночи.
В детдоме на Урале Вася Николаев и Костя Смирнов уже не рисовали якоря на запястьях, но остались мечта, клятва, верность намеченной цели жизни.
Константин стал механиком, Василий – радистом. Друзья плавали одну навигацию вместе, затем морская служба разъединила их.
Годами не встречались, только и обменивались праздничными телеграммами и радиограммами.
Когда у Кости с Мариной родился первый сын, Лёшка, Николаева, как ближайшего друга, объявили названым отцом. Но Николаев впервые увидел своего крестника, когда тот уже топал по комнате. Потом появился Дима. Костя был счастливым отцом.
И вот эти шесть строк… Военный лётчик с американского самолёта «Фантом» сбросил бомбу за много тысяч миль от берегов Америки.
Советский теплоход доставил во Вьетнам одежду и хлеб для городов и селений, уничтоженных напалмом. Доставил с трудом и риском, почти как доставляли когда-то в осаждённый Ленинград продовольствие по Ладожской «Дороге жизни».
«А Костина семья! – горько подумал Николаев, и сердце его сжалось. – Им каково? Жене – вдове теперь, детям – сиротам отныне, Лёшке и Диме. Конечно, Лёшке уже восемнадцатый пошёл, а всё равно не взрослый».
Николаев рывком поднялся с дивана. Пока нагревались лампы передатчика, заполнил бланк радиограммы. Перечитал, скомкал. Написал заново. Опять не то!
– Словами не поможешь, – сказал вслух Николаев. – Отпуск надо брать.
Глава первая
КАЛЫШКА
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
– Отдать кормовой!
Загудела лебёдка. Продольный швартовый обвис дугой, и двое на причале стянули с лобастой головы кнехта толстую петлю.
Последний трос, связывавший судно с берегом, плюхнулся в воду.
– Вирай!
Конец спешно вытянули на палубу.
Портовый буксир натужно вскрикнул и потащил судно от пирса. Тёмная полоса между кормой и стенкой расширилась, заиграла отражёнными огнями.
Второй штурман перегнулся через оградительную цепь, посмотрел на воду и доложил в микрофон на капитанский мостик:
– Корма чисто!
В ответ прозвучал охрипленный мегафоном голос:
– Хорошо.
Лёшка стоял поодаль от работавших. От его помощи отказались. Он обиделся, но промолчал.
Отход судна, как и швартовка, момент серьёзный. Не до просвещения новичков, только поспевай выполнять команды, несущиеся из динамика, и приказы второго штурмана, который находится здесь же, на корме. И старший матрос рядом. Распоряжения следуют одно за другим, промедление недопустимо, и без твёрдых навыков, без опыта не управиться.
У Лёшки не было ни навыков, ни трудового опыта. Официально он палубный практикант, а на самом деле всего-навсего матросский ученик. Настоящие занятия начнутся, наверное, завтра. Сейчас тоже урок, но, как выразился боцман, оглядный.
Лёшка и стоял без дела, стоял и глядел. Никто не обращал на него внимания. Лёшка тихо удалился. Он прошёл на нос и поднялся на полубак.
Матросы сматывали на барабан вьюшки тонкий стальной трос. «Шпринг», – отметил про себя Лёшка. Что-что, а морские термины он усвоил с детства. Отец даже дома называл лестницу трапом, порог – комингсом, пол – палубой, стены – переборками.
Кряжистый, плотный человек, боцман Зозуля хозяйственно распорядился:
– Манилу завтра уложим. Обмакнули всё-таки. И калышек полно.
Лёшка напряг память: «Манила» – манильский трос, свит из волокон абаки, дикорастущих бананов. Прочен, намокает мало. Странное слово «калышка» встретилось впервые. Что оно означает?
Спросить было некого: все заняты. Лёшка спустился обратно, вернулся на корму, а оттуда забрался по наружным стальным трапам на самую верхнюю палубу, именуемую пеленгаторным мостиком. Здесь было промозгло и безлюдно, как на плоской крыше высотного дома.
Ночь и туман скрывали город. Фонари пакгаузов и подъездных путей, высокие, как звёзды, оградительные огни портовых кранов светились расплывчато и тускло.
Судно казалось частью города, одним из его островов, населённым, густо застроенным, но уплывающим в море.
Название судна было написано на носу и на корме – «Ваганов». На корме стояло ещё одно слово – имя прославленного города. «Ваганов» носил его как отчество – Ленинград. И так же, как Ленинград, «Ваганов» был частицей всего Отечества.
В каких бы водах мирового океана «Ваганов» ни плыл, в каких бы чужеземных портах ни стоял, все члены экипажа, от капитана Астахова до матросского ученика Лёшки Смирнова, чувствовали себя полномочными послами, дипломатами, представителями Советского Союза.
Торжественный, полный высокой значимости акт выхода в заграничное плавание сейчас никого не занимал на «Ваганове». Привычное дело, очередной рейс, по горло срочной, ответственной работы.
И Лёшка не впервые уходил в море – несколько раз совершал малый каботаж на судне отца. Вернее, на судах: отец плавал и на пароходах, и на турбоходах, и на теплоходах. Лёшка ездил с мамой, а позднее и с Димкой в Ригу, Таллин, Калининград. Они встречали отца. Судно не каждый раз возвращается в порт приписки. Бывает, что доставленные товары удобнее или выгоднее разгрузить в другом месте.
Вот тогда Лёшке и удавалось пожить несколько дней в отцовской каюте. Потом судно уходило в Мексику, Канаду, Францию. Или ещё куда-нибудь, на другой край земли.
Последний рейс отца был во Вьетнам…
Лёшка вздохнул.
Справа остался последний береговой огонь. Буксир прощально гуднул, отвалил в сторону и круто развернулся на обратный курс.
Палуба под ногами задрожала сильнее и чаще, вдоль бортов запенились и зашипели белые волны. Казалось, судно не плывёт, а едет по заснеженной дороге и, словно бульдозер с треугольным ножом, расчищает путь.
Главный двигатель набирал обороты, входил в полную мощь, а Лёшка внезапно ослабел, припал грудью к планширу, зашмыгал носом, замотал головой, чуть не заревел в голос. Так ему вдруг тошно, так одиноко и тоскливо на свете стало! Но он тотчас опомнился, пугливо оглянулся: нет ли кого?
На мостике не было ни души. Закутанные в брезент, стояли по бокам тумбы навигационных приборов.
Согнутая ладонь антенны локатора непрерывно вращалась, озирая туманное море. На верхушках двуногих мачт горели топовые огни.
Залезть бы туда, сложить ладони рупором и закричать, чтобы дома услышали: «Ма-ма!»
«Тебе так хорошо-о, – сказал Димка, прощаясь, – ты та-ак уезжаешь, а мы так не-ет».
Привычку взял такать и завидовать! Стоило Лёшке собраться куда-нибудь, Димка сразу хныкал: «Ты та-ак…» Сейчас, в эту минуту, Лёшка не злился, как обычно, на брата. Свершись чудо и окажись он тут, на мостике, Лёшка бы, наверное, поклялся никогда и никуда не уходить без него.
Из распахнутого светового люка машинного отделения сочилась блёклая желтизна. Остеклённые створки люка похожи на парниковые рамы, но снизу пахнет не огурцами, а перегретым машинным маслом. Так пахли отцовские рубашки, белые нейлоновые рубашки, которые мама перестирывала, хотя отец и уверял, что отмачивал их в специальном мыльном растворе сутками.
«Но ты же в них спускался в машину!» – говорила мама.
«Один раз, Мариночка! – оправдывался отец. – И я всегда закатываю рукава!»
Когда привезли отцовские вещи, они тоже пахли маслом. Они и до сих пор пахнут машиной и морем.
Трудно сказать: если бы отец был жив, пошёл бы Лёшка в матросы или нет? Скорее всего, нет. Отец и мама и заикаться о море не разрешали. «Думать не смей! Куда хочешь: в сапожники, художники, астрономы – только не в море!»
Но Лёшка мечтал только о море. Это было не просто возвышенное и туманное желание, а неодолимая сила. Всё остальное – рисование, гитара, футбол – было второстепенным увлечением. Он не отдавался им и наполовину, быстро охладевал, не достигнув сколько-нибудь заметных успехов. Причиной тому была всё та же страсть к морю, единственно настоящая. Все же считали, что мешала леность, и с детства попрекали его. Лёшка не был лодырем, он не питал отвращения к работе, но страдал замедленностью во всём, что делал. Это проявлялось и в походке – вперевалку, нога за ногу, в манере говорить – тягуче, с паузами, даже в улыбке – растянет немного губы да так и застынет.
Округлое лицо с широко поставленными глазами и ямочкой на подбородке выражало постоянное благодушие и доброту.
Выше среднего роста, широкий в плечах, крепко сбитый, Лёшка по всем статьям годился в моряки, но дома об этом и слышать не хотели.
«Хватит нам и одного вечного бродяги!» – категорически заявляла мама, выразительно поглядывая на отца.
С раннего детства Лёшка только и слышал: «приходит», «уходит», «в рейсе». Не сосчитать, сколько раз встречали и провожали отца.
Сегодня провожали Лёшку. Впервые – в море, в самостоятельную жизнь. Расставание было тяжким, мучительным. Отход затянулся, и Лёшка – стыдно признаться! – с тайным нетерпением ждал, когда наконец объявят по судовой трансляции: «Внимание! Всем посторонним покинуть судно».
Это значит: на борт прибыли пограничники и таможенная комиссия, члены экипажа обязаны разойтись по своим каютам, а посторонние – жёны, дети, родители моряков – сойти на берег.
Трап превращается в пограничный мост. На пирсе, как на государственной границе, стоят солдаты в зелёных фуражках.
Судно уходит в дальнее плавание, за границу.
«Посторонним покинуть судно». Холодные, строгие, обидные слова, а ничего не сделаешь: граница! «Ваганов» ещё стоял у родного причала, но граница уже разлучила моряков с семьями, с «посторонними». Они остались по ту сторону трапа, на земле.
Когда этот мост вновь соединит их: через месяц, два, полгода? И отец, бывало, уходил как будто ненадолго. «Ерунда, Мариночка! Трамвайный рейс – в Амстердам и назад». Но из Голландии прилетала радиограмма: «Пошли на Кубу». Или в Марокко. Или ещё куда-нибудь за семь морей и океанов.
Лёшка тоже уверял маму, что скоро вернётся, но она-то знает, каким долгим сроком оборачивается это «скоро». Всю жизнь мама ждала отца. И Лёшка ждал. У других ребят отцы как отцы – все триста шестьдесят пять дней в году дома. Дети моряков не видят отцов месяцы и годы.
Ничего нет на свете хуже, чем расставание! Когда в конце концов защёлкал динамик, Лёшка вздрогнул, словно и не ждал этого момента.
Мама не плакала, но и по глазам было видно, что у неё всё внутри плачет. Димка затянул было своё «Тебе та-ак…» и осекся. Мама обняла обоих, Лёшку и Димку, громко прошептала:
– Всё будет хорошо, мальчики мои. Всё будет хорошо…
Так всегда говорил отец: «Всё будет хорошо, мальчики мои, всё будет хороню, Мариночка». А мама напутствовала: «В добрый путь!» Потом от отца приходили короткие вести с разных концов земли, и Лёшка перетыкал на большой, в полстены, карте мира красный флажок, отцовский след.
Не так часто видел Лёшка своего отца, чтобы забывать его слова. И умел отец говорить так, что помнилось.
Накануне последнего рейса отец долго стоял у карты мира, вспоминал свою жизнь по тонким цветным линиям рейсов, которые с малых лет старательно вычерчивал Лёшка.
– Это мои следы на земле, – задумчиво проговорил отец.
Трассы проходили по голубому и синему, они лишь начинались и оканчивались у коричневых, жёлтых и зелёных берегов. Лёшка хорошо знал карту, он и читать научился по географической карте, а не по букварю.
– На море! – поправил Лёшка.
Отец покачал головой.
– Нет, сын. На воде следы не остаются, только на земле. Всё, что творит человек – в океане, на берегу, в небе, – всё для людей. Человек оставляет свой жизненный след на земле.
На другой день отец ушёл в свой последний рейс.
После гибели отца Лёшке всё как-то сделалось безразличным. Мама почувствовала, поняла его настроение и потому, наверное, дала согласие. И дядя Вася сыграл важную роль. С другим мама не отпустила бы. Будто Лёшка отправлялся в турпоход, а не на работу.
Отец и дядя Вася плавали матросами, пока не поступили в высшее мореходное училище. Отец – на заочное отделение, а дядя Вася на дневное. И Лёшка будет учиться, но не на радиста или механика, а на штурмана и станет капитаном, капитаном дальнего плавания.
До этого ещё далеко, ох как далеко!..
Лёшка протяжно вздохнул и зябко повёл плечами.
Бак обезлюдел, никого не было уже и на главной палубе. Пора было укладываться, но уходить не хотелось.
– Так я и думал, – раздался за спиной голос Николаева. – Не спишь, конечно.
Он положил руку на Лёшкино плечо.
– Всё правильно. И я, когда впервые попал в море, сутки проторчал здесь. Не один, правда…
О той ночи и отец рассказывал: до самого рассвета простояли тогда на верхнем мостике два друга.
Когда отец уходил в рейс вечером или ночью, мама до утра не ложилась.
Приедет домой из порта, сядет в кресло и вяжет. Свитер для отца, пуловер Лёшке или Димке что-нибудь. И перед возвращением отца не спит никогда.
– Мама, наверное, новый свитер начала, – сказал вслух Лёшка.
– Всё будет хорошо, не тревожься. – Николаев притянул его к себе.
Они постояли молча. У Лёшки немного отлегло от души.
– Всё будет хорошо, – повторил Николаев и отстранился. – А теперь – отдыхать, Лёша. У тебя завтра нелёгкий день будет. Рабочий…
Иллюминаторы в каюте были зашторены плотными занавесками. В темноте Лёшка опрокинул складной стул с одеждой соседа. Тот мгновенно зажёг у изголовья свет. Лицо оставалось в тени, а рыжие волосы засветились, как неоновые.
– Кто? Что?
– Это я. Спи.
– Да-да, – пробормотал сосед.
– Ты не знаешь, что такое «калышка»? – спросил вдруг Лёшка.
– Кто? Что?
– Ка-лыш-ка, – по слогам сказал Лёшка.
– Калышка… – Сосед сладко почмокал губами, будто варенье пробовал. – Загогулина такая.
Лёшка невольно заулыбался. Сосед помедлил секунду и нашарил выключатель.
«Загогулина… – повторил про себя Лёшка, опять оставшись в темноте. – А что значит загогулина-калышка?»
КАЛЫШКА
Розовое небо светилось над розовым морем.
Тесно прижимаясь к стальному корпусу, неслась от форштевня тугая белая волна. Дойдя до середины, она косо отходила в сторону, гофрируя зеркальную гладь. От кормы до неразличимого горизонта тянулся клокочущий пенный след.
Лёшка глубоко вдыхал полной грудью ароматный, йодистый воздух, жмурился от солнца, улыбался, сам не замечая этого, – так хорошо ему было.
Прекрасное утро предвещало прекрасный день. Не только день – будущее.
Впереди белые заморские города, легендарные тропики Рака и Козерога, синяя бесконечность. Впереди удивительные приключения, необыкновенные встречи и события.
Впереди ураганные ветры, свирепые штормы, жизнь отчаянного риска и схваток с необузданной со дня сотворения мира водной стихией.
Вёсельные галеры, парусные фрегаты, колёсные пароходы, турбоходы, теплоходы и атомные корабли… Техника мореплавания проделала путь, не меньший, чем живая природа от червя до альбатроса, а морская профессия – одна из самых древних мужских профессий на земле – по-прежнему одна из самых мужественных.
Он думал о море красивыми, возвышенными, но чужими словами, ибо своих слов у него ещё не было. Ему лишь предстояло познать настоящую цену матросского хлеба, не самого лёгкого хлеба на свете.
И всё-таки Лёшка думал о море и своём будущем светло и радужно не потому, что пребывал в полном неведении о трудностях жизни моряка. Напротив, они-то, трудности и опасности, привлекали его романтическую душу, жаждавшую приключений и героических действий. Конечно, он никому не признавался, что мечтает о подвигах, как и не задумывался над тем, способен ли на это. Просто он считал: сын героя не может быть трусом. Не должен. И уж во всяком случае сын обязан быть достойным своего отца, а Лёшка хотел этого больше всего. Отец сказал когда-то: «Ты моё будущее». Слова запомнились и после гибели отца приобрели особенный смысл: Лёшка заменит отца.
«Не держи его, Марина», – сказал дядя Вася.
«Как я могу отпустить его? Опять бояться и ждать, ждать и бояться!»
«Море и его призвание, Марина. Один рождается математиком, другой – композитором. Лёша – прирождённый моряк. Отпусти его. Увидишь: и тебе легче будет. Ты уже не можешь не ждать».
За неделю до вступительных экзаменов Лёшка забрал из института свои документы. Молодая секретарша уставилась на него как на сумасшедшего: «В матросы? В простые матросы?! Эх, ты… Матрос вроде чернорабочего…»
Лёшка не удостоил её ответом. «Чернорабочий…» Все великие мореходы и адмиралы начинали с простых матросов!
«Чернорабочий…» Слово-то какое брезгливое, высокомерное. Вспомнил, и сейчас противно стало.
Лёшка сплюнул за борт. Белый комочек утонул в белой кипени и умчался назад.
Посмотрим ещё, кто чёрный, кто белый, кто настоящий, кто «эх ты!»…
– Эй, ты! – окликнул с верхней палубы грубый голос Зозули. – Чего расплевался!
Море для моряка, что колодезь в деревне. Плевать за борт – невоспитанность.
Лёшка отпрянул назад, повернулся и встретился лицом к лицу с соседом. Он выглядывал в иллюминатор.
Каюта практикантов была на главной палубе и выходила иллюминаторами в открытый коридор правого борта. Палуба второго «этажа» нависала над коридором, словно крыша веранды.
– Койку прибирать не думаешь?
– Думаю.
– Живее! На завтрак опаздываем.
Лёшка равнодушно отмахнулся: человеку настроение испортили, а тут какой-то завтрак.
Он переступил высокий комингс и дёрнул ручку. Дверь не подалась. Лёшка дёрнул сильнее, ещё сильнее.
Сосед выглянул из каюты:
– Защёлку подними. Сверху, в уголке. Вот-вот. Впрочем, не закрывай, тепло на улице.
– На улице, – пробормотал Лёшка и пошёл застилать постель.
– Живее, на завтрак опоздаем! – опять напомнил сосед.
В рабочих брюках на лямках и разодранной на тощей груди тельняшке он выглядел забавно. Звали его Павел, а фамилия – Кузовкин.
В столовой команды людей было немного. Ночная вахта ещё не освободилась, утренняя уже поела и ушла. Первый стол от двери занимало непосредственное матросское начальство: боцман, старший матрос, старший моторист, артельный. Все гладко выбритые, причёсанные, в белоснежных рубашках с туго закатанными рукавами. И не подумаешь, что несколько часов назад они тащили тяжёлые мокрые канаты, ворочали бочки, орудовали гаечными ключами, сматывали промасленные стальные тросы.
У Павла развязался шнурок на ботинке.
– Иди, я догоню.
Перед входом в столовую Лёшка столкнулся с высоким блондином, матросом первого класса Федоровским. Лёшка вежливо пропустил его вперёд.
– Доброе утро, приятного аппетита! – поздоровался Федоровский, сразу обращаясь ко всем.
– Доброе утро. Приятного аппетита, – повторил вслед Лёшка.
Кто сказал «спасибо», кто – нет, но все ответно кивнули.
Лёшка опустился в удобное вращающееся металлическое кресло с подлокотниками и мягким кожаным сиденьем.
Место ему отвели такое, что он всё время видел перед собой боцмана. Ел Зозуля степенно, домовито, основательно. И молча. Вдруг он опустил кружку с чаем и уставился на Лёшку.
Сзади заученной скороговоркой невнятно произнесли:
– Доброутроприятноаппетит!
– Паша, – врастяжку сказал боцман.
Федоровский коротко хмыкнул: «Ну даёт твой сосед!»
– Распустилась молодёжь! – прокурорским тоном изрёк боцман.
– Чего, товарищ боцман? – невинно спросил Паша.
– Сейчас ему дракон задаст на полный максимум-минимум! – предсказал Федоровский.
– Далеко собрался, Паша? – ласковым голосом поинтересовался Зозуля.
– Завтракать и на работу.
– На работу, значит. А я думал, на праздник Нептуна. Только далековато ещё до экватора, Па-ша.
– Далеко, товарищ боцман.
– Ну, тогда сходи да переоденься в человеческое, Паша. Сделай такое одолжение, уважь компанию.
Паша исчез.
– Распустилась молодёжь. – Зозуля так и сверлил Лёшку чёрными глазами.
У Лёшки хлеб в горле застрял.
– Паштет бери. – Федоровский пододвинул раскрытую консервную банку.
– Спасибо, – прохрипел Лёшка.
– Напрасно отказываешься: до обеда проголодаешься как зверь.
С трудом проглотив застрявший хлеб, Лёшка заторопился вон.
– Смирнов!
Всё в Лёшке замерло. Сейчас дракон ославит его на весь экипаж: «Распустилась молодёжь! Только на борт поднялся, заплевал всё море!»
– Спецовку получи. После чая сразу к шкиперской подходи.
Лёшка перевёл дух.
– Я уже, я готов.
– А я – ещё нет, – спокойно сказал Зозуля и взялся за чайник. На облупленном носу боцмана блестели капельки пота. – Распустилась молодёжь, – повторил он. – Разве такие матросы раньше были?
– В русско-японскую? – насмешливо подал кто-то голос из угла.
– Перед Отечественной.
Лёшка стоял, не зная, уходить или оставаться. «Сколько же Зозуле лет, если он ещё до Великой Отечественной войны плавал? Меня тогда и на свете не было». Зозуля не досказал, какие раньше матросы были, занялся очередным бутербродом.
Лёшка вышел в коридор и стал дожидаться боцмана. Откуда знать, куда идти? Много у боцмана кладовых: всё палубное судовое имущество на его ответственности. Тросы, краски, ветошь, инструменты, чехлы, запасные части, шлюпки, плотики, даже запасной якорь, что лежит на корме, в ведении боцмана. И спецодежда, и обувь…
Выдав Лёшке тёмно-синие брюки, куртку, ватник, тяжёлые ботинки и лёгкие туфли, похожие на домашние шлёпанцы, но на резиновой подошве, Зозуля повёл его на корму, в тросовую. Там держали мыло и порошки.
Стиральный порошок хранился в деревянной бочке; Зозуля насыпал с полкилограмма в бумажный кулёк.
– Для нейлона малопригоден, а робу отстирывает добела.
Лёшка подумал, что отец, наверное, замачивал свои белые рубашки в растворе из такого порошка.
– Прачечная знаешь где? Внизу, да. Там две стиральные машины. Пользуйся. Выключать только не забывай… Ну, лады. Переодевайся – и на полубак. На нос, значит. Да, как устроился?
«Почему его драконом зовут? Никакой он не дракон. Боцманы-драконы давно вывелись на флоте, вымерли, как динозавры. Это ещё отец говорил».
– Спасибо, товарищ боцман, нормально.
– Ну, лады.
Сделать калышку ничего не стоит. Перекрутился трос, запетлил – вот и калышка. Разгоняй теперь, распрямляй, вытягивай в нитку.
Жёсткий швартовый манильский трос толщиной с руку боцмана Зозули. Распутать манилу и уложить не просто. Впятером бились. Лёшка с напарником разворачивали калышку в петлю диаметром с колесо самосвала, ставили вертикально и перекатывали до конца троса. Петля исчезала, а вместе с ней и калышка. Федоровский и Паша вытягивали всё удлиняющийся участок манилы по палубе.
Разделавшись с одной калышкой, приступали к следующей. Манила, будто гигантский удав, вырывалась, изворачивалась, сопротивлялась яростно и жестоко. Матросы бились с ней, как с живой. Петля то и дело заваливалась, её снова ставили торчком и, напрягаясь всем телом, катили вперёд.
Катить с каждым разом всё дальше и дальше, а калышкам числа нет. Вперёд, опять назад, опять толстенный золотистый жгут петлёй-колесом, опять – навались! Ноги напряжены до дрожи, немеют пальцы, жилы на шее вздулись.
– Давай-давай! – подгонял Зозуля. И помогал то одним, то другим.







