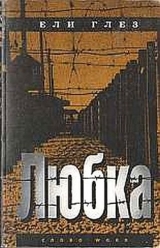
Текст книги "Любка (грустная повесть о веселом человеке)"
Автор книги: Илья Глезер
Жанр:
Контркультура
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
IV
Гудел Казанский вокзал. Любка раззявился на замысловатые башенки и цветные стекла. Такой красоты он еще не видел. Вокруг топотала и спешила столичная жизнь. Цокали копыта потрепанных рысаков, разносчики в цветных рубахах истошными голосами предлагали бублики и пирожки. Ковыляли слепые, припадочные, безногие и безрукие инвалиды. Скрипели телеги, груженые снедью для московских нэповских рынков. Любка совсем растерялся в кипящей толпе. Он и вздохнуть не успел, как чьи-то ловкие руки срезали его заплечный мешок с провизией и немногочисленными пожитками. Любка кинулся за удирающим пацаном. Да, куда там – верткий оборвыш скрылся в густо снующем люде. И Любка побрел вдоль сверкающих стекол Садового кольца, В голове его было гулко, глотка пересохла, а глаза устали от тьмы незнакомого, равнодушного и спешащего невесть куда народа. Долго он крутился по Кольцу, а к ночи снова прибило его к той же Вокзальной площади. Осенний вечер опустился на темнеющий город. Веселая заря мазнула оранжевыми бликами вычурные башенки вокзала, а у его подножья уже было темновато и серовато-синие тени выползли из затейливых закоулков, ожидая ночного часа.
Голод сводил Любкин желудок не на шутку, и его начало мутить. Он пристроился к блинному ларьку и долго смотрел, как уписывают люди блины. Вон один мужик – десяток, наверно, сжевал … Баба в цветастом платке подкатила к ларьку на извозчике. Видно с рынка, после продажи. Задрала подол и откуда-то, чуть не из срамного места, достала измятые рубли и щепотно стала навертывать блин за блином.
– Ты чего глядишь, жрать небось хочешь? – Голос раздался над самым Любкиным ухом, и он даже вздрогнул от неожиданности:
– Ишь ты какой нервный, да нежный с виду. Мы сейчас это устроим.
Голос принадлежал молодому пареньку, на вид Любкиному ровеснику, одетому чисто, но с какой-то размашистой небрежностью.
– Из деревни? Плясать, голосить частушки можешь?
Любка обалдело кивнул утвердительно.
– Ну иди поближе к ларьку, да начинай петь и плясать, да хорошо делай, раззява!
Любка от неожиданности и повелительности тона не заметил даже, что его матерят и ругают. Послушно, привык за годы с Михаилом Петровичем быть в подчинении, побрел к ларьку и остановился перед бабой, что все клевала свои блины. И вдруг топнул ногой, топнул другой и, подбоченясь, пошел по кругу выписывать кренделя, да выделывать коленца, как на деревенских свадьбах. Вокруг собрались любопытные зеваки. Толпа обступила подпевающего самому себе Любку и начала дружно шлепать в ладоши:
– Давай, давай, пацан, хорошо делаешь, по-нашему!
Любку слова эти и хлопки еще больше раззадорили. Он внезапно остановился и завопил во весь голос на деревенский манер – горловым – белым звуком:
Не целуй меня взасос – я не Богородица. От меня Исус Христос – все равно не родится!
Толпа раскололась визгливым смехом. Баба поперхнулась блином и зачертыхалась:
– Похабник-Антихрист, чтоб тебе язык на том свете выжгло!
А Любка, подстегиваемый улюлюкавшей толпой, выбил коленце и продолжал:
– Засолил капусту милка, – да забыл укропу, перепутал, где п … да, – засадил мне в ж...пу!
Толпа забулькала, заохала, закашляла. Внезапно баба прекратила чертыхаться, схватилась за подол и завопила:
– Ограбил, сволочь, держите его, держите, люди добрые! Что же это, а?! Кошелек срезал!
Толпа заворчала, завертелась, в ее гуще пошли водовороты Любку уже не слушали, глядели куда-то в сторону, вслед порхнувшему Любкиному знакомому, да бежавшей за ним вприпрыжку бабе, бросившей недоеденный блин на грязную, затоптанную мостовую. Часто дышавший пахан, потерявший где-то свой картуз, вынырнул перед Любкой, точно соткался из ночного воздуха, схватил его за руку и потащил в глухую черную тень, в глубины незнакомых переулков на вокзальных задворках, облюбованных таинственными незнакомцами, появлявшимися к вечеру и так же внезапно исчезавшими еще до рассвета. Хозяин дома, небритый, в трусах, но в валенках на босу ногу, встретил новичка вопросом:
– Как звать?
Петька, не зная сам почему, не задумываясь, ответил:
– Любкой меня кличут!
– Ишь ты – смелый. Пидорас, что ли?
Любка, не понявший вопроса, на всякий случай ответил:
– Женщина я …
– Ну ладно, ладно, разберемся, кто ты есть … Стирать, варить, можешь?
– Самое простое – картошку, щи, кашу.
– Сойдет. К вечеру приготовь человек на десять. Воры у меня разные – пацаны да мужики. Тертые, битые, крученые. Не очень показывай себя. Женщина, говоришь? Найдешь полюбовника – твое дело, но запомни: лягавых не жалеют. Рано ли поздно, в зоне будешь: на работу не выходи, повязок красных не носи, с ментами не кобелись, но и не подъебывай. Помни, ты – вор в законе! Пацаны соберутся к вечеру, тогда и решим, куда тебя определить. Ишь, морда у тебя ничего, смазливая, одеть, так и вправду за девку сойдешь!
Любка согласно кивал головой, вполовину понимая речь мужика в валенках.
К вечеру, действительно, к столу, накрытому белой скатертью, собрались «пацаны». Большинство потрепанные временем, войной, тюремными ходками и отсидками. Но среди изъеденных морщинами и запятнанных проседью бород мелькали и молодые лица. Ели обильно, еще обильнее выпивали, но компания была молчаливой. «Солидные» – как их определил для себя Любка. Внимательно, не перебивая, выслушали Любкину историю. Белокурый, верткий парень, что привел Любку в малину, носивший странное имя: «Щука», то и дело вскидывал на Любку смешливые глаза и подмигивал ему заговорщицки. Наконец, хозяин малины, еще более грузный за столом, отодвинул стул, подошел к плотно занавешенному окну и проговорил:
– Вот и женщину заимели мы в малине.
Кто-то за столом коротко хохотнул.
– Я и говорю – пидорас он, но свой человек. Без нужды – не донимайте Любку, не он в ответе, что тело у него мужское, а душа – женская Ты – хохотун – завтра пойдешь с Любкой на дело!!
– Да зеленый он, она, то-есть, – запутался говоривший.
– И ничего, что зеленый Ты и поможешь и просветишь, чтобы почернел, да созрел…
– Вася – я же и говорю – завалит он нас, в штаны накладет и завалит!
– Я тебе не Вася, а Василий Семенович! Или «Черный»! Понял! И без трепотни! О деле поговорим позже, меж трех…
Белокурый только кивал в знак согласия. Хозяин поманил Любку и вместе с ним и белокурым выкатился в соседнюю маленькую комнатушку. Закрыв плотно двери, «Черный» присел на широкую постель и, глядя на моргающую, подслеповатую лампадку под угловой иконой, сказал:
– Теперь о деле всурьез. Ты, «Седой», место знаешь. Оно – хорошее и наживное, но трудное. Мы туда сначала Любку запустим…
На следующий день у московского Торгсина, учреждения, где новые власти скупали золото и драгоценности в обмен на жратву, появилась молодая парочка: Любка – в платочке, в новом цветастом ситцевом платье и туфлях на высоком каблуке, и с ней давешний белокурый «пацан» в черной «тройке» и огромной, надвинутой на брови кепке. Выглядела Любка вполне соблазнительно и даже вызывающе приятно. Мужики косились, а прохожие женского полу и среднего вида – осуждающе поджимали губы и покачивали головами. Никогда еще Любка не чувствовал себя так свободно и непринужденно. Платье туго обтягивало его довольно увесистый зад, бедра сами просились и пританцовывали, а высокие каблуки придавали походке упругость и легкость Взгляды мужчин вызывали у Любки приятный озноб и придавали особую оживленность и кокетливость его собственным взглядам и улыбкам. Давешний хохотун – «Седой» сначала стеснялся своей роли, но затем обвык и даже стал заигрывать с Любкой.
– Ишь ты, и впрямь – девка, зад так сам и просится.
Любка помалкивал, и только глаза его обжигающе посверкивали. «Седой», осмелев, взял Любку под руку, продев свою кренделем. Со стороны глянешь – полюбовная парочка, а то и молодожены. Подойдя к Торгсину, парочка расцепилась, и Седой быстро затерялся в густой толпе. Любка же впорхнул по каменным ступеням внутрь здания, где был остановлен строгого вида дежурным, с револьвером на боку.
– В какой отдел, гражданка? Инвалюты или приема ценностей?
– Да нет же, товарищ, – прощебетал Любка. – Я в отдел кадров, по объявлению. Вот!
И, покопавшись в сумочке, висевшей на локте, Любка достал сложенную, недельной давности «Вечорку». В рамочке на последней странице значилось: «Торгсину требуются разнорабочие, кассиры и уборщица в ночную смену. Сверхурочные не оплачиваются. Одиноким предоставляется общежитие.»
…Туго подпоясанный, кожано-скрипучий человек смотрел на розовощекого, волнующегося Любку внимательно и, казалось, очень приветливо. Любка, быстро улавливающий подсознательные флюиды, сообразил, что его женственные очертания и кокетливо повязанная косынка пленили сурового кадровика.
– Я вот что тебе скажу, Трифонова, – ты по документам из нашего, трудящего народа (документы были туфтовые – малина сварганила), начинай с низового поста, но мы тебя в секретарши продвинем!
– Так я же малограмотная, ни читать, ни писать, – залепетал Любка, стараясь перебороть свой ломкий, но явно мужской тенорок.
– Тебя продуло, что ли, голос у тебя хриплый? Не зашибаешь, часом?
– Да нет же – это я в поезде простуду подхватила, – закукарекал Любка.
– Я тебя, Трифонова, сегодняшним днем проведу по документам, а ты в ночь выходи, а то у нас мусора за три недели насобиралось по всем углам.
Кадровик вытащил какие-то серые листы и начал их заполнять вдоль и поперек, изредка спрашивая Любку:
– Ты девица, али женщина?
– Это в каком смысле? – оторопел Любка.
– Да я тебя не для смеху, а для статистики спрашиваю! Сверху разнаряд прислали на статистику. Мы ведь для порядку все знать должны, как мы есть рабочая и крестьянская власть.
И кадровик строго взглянул на ухмыляющегося Любку.
– Женщина я, – прошептал он, опустив глаза.
– Ну хорошо, ну ладно – не в етом дело! Иди в комендатуру с этим пропуском. Да не потеряй его! Ключи получишь, и чтоб в десять вечера приступила к работе.
Кадровик снова стал официально-подтянутым и серо-скучным.
Поздним вечером того же дня редкие прохожие могли заметить миловидную девицу, входящую в Торгсин и важно предъявляющую постовому свой документ. Покачивая бедрами и кокетливо улыбаясь, Любка заскользил по длинному коридору. Каблуки его новых туфель гулко постукивали о паркет. Пахло мышами и прогорклым сыром. Вытащив из кладовки ведра, тряпки и веники, Любка прошествовал мимо часового по первому этажу, всем своим видом изображая деловитую торопливость. Постовой добродушно улыбался и был явно непрочь поконтактировать. Но Любка опасался своего прокуренного голоса и потому, крутанув задом, исчез в одной из боковых комнат. В каком-то кабинете старинный часовой механизм пробил двенадцать. Стало еще тише и безлюднее на московских, затянутых синей осенней мглой улицах. Изредка Любка слышал цокание копыт и шелестение шин по асфальту. Через второй этаж Любка вернулся в свою каморку и тихо, стараясь не шуметь, отпер шпингалеты узкого, годами не протиравшегося окна. Нижняя заржавевшая защелка долго не хотела открываться, и Любка даже палец окровянил. Наконец, рама с противным скрипом отворилась, и в узком проеме окна показалось напряженно-бледное лицо Седого. Не без труда и с помощью сильных рук Любки, Седой протиснулся в каморку. Безмолвно указав Любке на дверь, Седой устроился на шаткой табуретке. Любка же опять, загрохотав ведрами, просеменил по коридору мимо часового, как бы торопясь закончить уборку. Взобравшись по лестнице на третий этаж, он заспешил к комнате под номером 7. «Вход посторонним строго воспрещен» – гласил плакат на облупленной двери. Любка завозился в связке ключей, нашел, наконец, подходящий жетон и осторожно открыл дверь. Комната была очень просторной, и ее белые стены нестерпимо сверкали, освещенные огромными голыми лампами без абажуров. По стенам комнаты теснились сейфы Они были разными: огромными и совсем маленькими; они были рыжими и зелеными, красными и черными. Некоторые были снабжены огромными колесами, другие были полировано-гладкими. Словом, это было царство сейфов, безмолвно и вопросительно глядевших своими дверями на Любку. Его чуткий и нервный слух внезапно услышал далекий приближающийся шум. Кто-то осторожно крался по пустому коридору. Когда в приотворенную дверь глянуло кирпично-красное от сдерживаемого смеха лицо постового, он смог увидеть лишь стоящего на коленях Любку, прилежно трущего половицы влажной тряпкой.
– И как вы ето, гражданка, проникли сюды, в особо-охраняемый объект? – шутливо грозно забасил часовой.
Любка жеманно дернул плечами и продолжал орудовать тряпкой.
– Давно из деревни-то? – спросил часовой. И, не ожидая ответа, продолжил: – шибко скучаю я тут. Воздух гнилой, прогорклый, людишки – мелкие, денежные. Знаешь, что в сундуках железных этих? Алмазы да золото. Все от старорежимной жизни, что награбили. Для музеев, говорят. Стоишь тут, киснешь задарма, а тут такое богатство. Ты, Трифонова, подальше от этой комнаты. Чисть, мой, да сматывайся, а то, если что случится, обоим на вышке быть!
Часовой подошел сзади к Любке и похлопал его по сухой мальчишеской спине.
– Ишь ты какая сухопарая – откормить тебя, так я от женитьбы не откажуся!
Внутри у Любки все ныло от мучительного страха. Он думал о Седом, сидящем в каморке и ждущем сигнала. Часовой меж тем стал настойчивее в своих похлопываниях, и Любка ощутил, что его рука пробирается все ниже и ниже. Любка внезапно толкнул ведро, и оно с шумом опрокинулось, залив грязной водой паркетный пол.
– Ах ты, охальник проклятый! – заверещал Любка. – Отцепись от меня, пока я тряпку о твою морду не извозила!
Часовой испуганно вертел головой и смущенно бормотал:
– Ну чего ты расшумелась, я так, в шутку, по-деревенски, а ты всерьез.
Пятясь и стараясь не ступать сапогами в грязную лужу, он выкатился в коридор и затопал вдоль него к лестнице. Любка же, выскользнув из комнаты № 7, порхнул по другой лестнице, влетел в каморку и беззвучно поманил Седого. Тот неторопливо поднялся с табуретки, погасил о подошву цигарку и также бесшумно как Любка заскользил по коридору. Было слышно, как у парадного входа часовой гулко кашляет, стучит прикладом винтовки и что-то неразборчиво бормочет.
В комнате № 7 Седой долго, как казалось Любке, чересчур долго, оглядывал сейфы, поглаживал их двери и полированные огромные колеса. Наконец, он вытащил из внутреннего кармана связку отмычек и начал осторожно возиться у одного из самых больших сейфов. Любка заворожено глядел, как ловкие, тренированные руки проделывают сложные, непонятные движения. Снова пробили часы в отдаленном кабинете. Ворот рубахи Седого потемнел от пота. Послышался чуть слышный щелчок, и массивная дверь сейфа стала плавно отворяться Вдруг в эту мертвую тишину ворвался новый тревожный звук: где-то внизу вопила сирена.
– У, блядь, засигналила, – прошипел Седой.
Вдали послышались звуки топочущих, спешащих шагов. Седой метнулся к двери, и Любка увидел странную и тошнотворно-страшную картину. Часовой влетел в приоткрытую дверь, запыхавшись, широко открыв рот, он пытался что-то сказать, крикнуть, но быстрая рука Седого встретила его грудь. И рот часового открылся еще шире в беззвучном крике. Его большое тело как-то обмякло, навалившись на грудь Седого, а затем медленно сползло на пол.
– Ну чего ты, е… на мать, стоишь – давай тару!
Любка механически подал Седому небольшой медицинского вида саквояж. Седой, открыв сейф, быстро стал выгребать и запихивать в саквояж какие-то коробочки и мешочки. Любка тупо смотрел на умиротворенное лицо часового. На его защитного цвета гимнастерке быстро расплывалось бурое пятно.
– Ну ты, пидор, с…ный, помогай, что ли!
Любка опомнился и стал лихорадочно нагружать саквояж какими-то блестящими камешками и цепочками. Через полчаса тишина воцарилась в Торгсине. В комнате № 7 коченело тело часового, и у его соломенно-желтой шевелюры, безжизненно распластавшейся на влажном паркете, сверкал забытый впопыхах рубиново-красный камень.
V
Так началась Любкина воровская жизнь. И он быстро приспособился к ней. Было вольготно и привольно без мыслей о завтрашнем дне, без тяжелого каждодневного труда, без этого гула одинаковых мыслей и дел, исподволь превращавших одну шестую земного шара в гигантский концентрационный лагерь.
– Эх, Любка, – любил говаривать хозяин дома, Черный или Тятя, как его часто теперь величал Любка. – Ну что бы ты была без нас? Крестьянка, колхозница – в лучшем случае. Но я думаю, что у бабки твоей своя корова была, да лошаденка. Так ведь? А это значит – кулачка она, да и ты вместе с нею. И не сгори твое село, выслали бы тебя «товарищи» в Сибирь или в Казахстан на голодный паек, а то и прикончили бы на месте со всеми твоими родственниками. Я ведь, Петя, ну, ну ладно, Люба, – я ведь тоже труд люблю да оседлую жизнь, без крови и грязи этой. Но труд-то свободным должен быть. А ты гляди – честные фраера вкалывают, а кому весь навар достается? Новой банде, что себя коммунистами называет. Старая власть была – что пиявки, пососут кровь да отвалятся. А новые – что удав ненасытный чем больше ему даешь, тем больше он силы набирает и тем туже тебя давит … Ты, Любка, в лагере будешь, так сам поймешь, что к чему. А пока радуйся, что ты на этой греховной стезе, с ворами, ибо любой открытый грех – лучше, чем кровопийство, прикрытое законами и людской трусостью!
И Любка слушал, но не принимал эти слова близко к сердцу ибо еще не было у него своего, нажитого тюрьмой опыта. После ночных рейдов и «операций» Любка долго отсыпался, нежась на широкой, чистой постели. Домашнюю работу его уже не заставляли делать. Черный готовил и убирался в доме сам.
– Ты, Любка, наша женщина-полюбовница. Тебя хранить и беречь надобно. Какая из тебя наводчица, ежели ты после кухни выйдешь на дело мятая, потная да с черными ногтями? Ты уж все эти женские штуки-то употребляй: одеколоны да духи, чтоб для мужиков быть сладкой, да приятной.
И Любка старался следовать этим поучениям, тем более, что они были ему по душе. Только две занозы сидели в его памяти: не мог он забыть своего первого «мужа» – Михаила Петровича, да «мокрые дела» пугали его и вызывали неукротимую рвоту.
– Ты, Любка, все ж таки не настоящая воровка: и чего ты рыгаешь, когда кровь течет? – говаривал Черный.
– Не могу я глядеть, как человека убивают – ведь больно и страшно ему, а мне муторно и тяжко: ведь душу, душу насильно мы отнимаем!
– А ты думай как я – не человек это, а зверь, кровопийца, истукан каменный.
– А если ребенок, али старик слабый?
– А мы хоть одного такого убили? Я вот как иду на дело, всегда свою семью вспоминаю. В 22-м вкатились в нашу деревню «товарищи». Как стали выволакивать из погреба зерно, а ведь зима подходила, и нас, ребятишек, в семье было семеро, мал-мала… Мать моя завопила в беспамятстве да слабыми руками за мешок и ухватись, а черный, весь в ремнях комиссар и вдарил ее в живот сапогом. Неделю мучилась и отошла, память ей вечная. Я после того из дома ушел, к ворам прибился, в твоих годах тогда был. Я ведь молодой, Любка, не гляди, что голова седая! С тех пор и кличку себе приспособил – Черный – я ведь для этих блядей-коммунистов – враг черный!
Воровская профессия Любки требовала не только одеколона и духов, но и большой доли изобретательности и, скажем, не боясь этого слова, – смелости. К вечеру, когда загорались на улицах первые огни, Любка оканчивал прихорашиваться и наряжаться, пудрил щеки, напяливал на блестящие вьющиеся волосы лихой красный беретик и отправлялся в центр, к Охотному ряду или к Метрополю. Здесь он выбирал удобный и укромный угол, подальше от обычной толпы выставлявших себя напоказ проституток и педерастов, и терпеливо выжидал. Обычно долго ждать не приходилось: свежая румяная мордашка и округлые формы Любки быстро приманивали ловца. Как правило, на Любку клевали люди солидные, 40-50 лет, семейные товарищи, желавшие под вечер освободиться от нагоревшей за день похоти. Кавалер подкатывал к Любке, жеманившейся под каким-нибудь фонарем. Если «товарищ» на вид был по Любкиным понятиям «подходящим», т. е. денежным и хорошо одетым, Любка быстро соглашался и уводил его в глухие проулки Замоскворечья. Здесь он быстро находил кратчайший путь к заранее условленному подъезду, прятавшемуся в темном полуосвещенном дворе, и начинал подниматься по лестнице, как бы ведя жаждущего наслаждений «товарища» в свою квартиру. Но обычно даже до второго этажа дело не доходило: Седой, Щука или кто другой из малины возникал из тьмы, слышался сдавленный крик, быстрые глухие удары, и любитель ночных приключений либо пятился в одном исподнем, либо черной грудой окровавленного тряпья валялся на ступеньках парадного, чтобы утром стать темой для разговоров и пересудов всего квартала. Так и текла Любкина беспутная, бездумная жизнь до памятной сентябрьской ночи. Любка, как обычно, пристроился у Метрополя, где его уже многие знали как профессиональную жрицу любви, не подозревая об истинном поле. За время «работы» Любка пообтерся, стал более округлым, еще более женственным. Он давно уже и мысленно относился к себе как к женщине, да и был ею для всей воровской братии. Но ни разу с теми из мужчин, что клевали на его прелести, не испытал он желания пройти весь путь до конца. Зачем? Душа его по-прежнему принадлежала Мишке-фотографу, а тело делили между собой Седой да Черный. Иногда они ссорились из-за права быть с Любкой в постели. И это доставляло ему огромное наслаждение. Он глядел на их потные, разгоряченные лица и жаждал драки, крови из-за его, Любкиного тела. Но обычно до драки дело не доходило, и более мягкий – Седой уступал право не первой ночи Черному. Ласки обоих его любовников были жестокими, эгоистичными. И Любка часто, корчась от боли и унижения, тихо выл в мертвой тишине малины под храп очередного обладателя.
В этот памятный дождливый вечер Любка долго стоял, прижавшись к фонарному столбу на Театральной площади. Несколько раз к нему подходили какие-то незавидные клиенты. Тихо матерясь про себя, промокший Любка хотел было уже плюнуть и отправиться домой в теплую малину, но именно в этот момент около столба появился представительный пожилой мужчина под большим, старинного образца зонтом. Он повертелся около Любки, быстро воспрянувшего духом и выражавшего всем телом и лицом интерес и томление. Мужчина, наконец, преодолел смущение и спросил густым сипловатым басом:
– Не желает ли девушка пройтись под зонтиком по приятной погоде?
«Девушка» тотчас же прыгнула под зонтик и повела свою жертву старым маршрутом мимо Кремля и Василия Блаженного. Клиент, не жалуясь на погоду, молча шагал рядом, искоса поглядывая на Любку и приветливо улыбаясь.
У проходного темного двора Любка остановился на мгновение и скользнул в подворотню, направляясь к неосвещенному, заранее облюбованному подъезду. Как всегда, он стал медленно подниматься по лестнице, прислушиваясь к шагам неторопливо бредущего клиента. Неожиданно из темного простенка очередного марша на Любку метнулась чья-то большая черная тень. В следующий момент он оказался подмятым, скрученным и ведомым вниз но лестнице двумя синешинельными ментами. Они быстро выволокли не сопротивлявшегося Любку во двор, и он только вполглаза успел заметить, что другие синешинельные тащут чье-то тело по земле к шумно пыхтевшему, неведомо как появившемуся грузовику. У кабинки шофера стоял Любкин давешний господин с зонтиком, и даже в темноте было видно, как блестят его зубы, оскаленные в насмешливой улыбке. Любку забросили в кузов, точно мешок картошки, и грузовик быстро покатил по тряской мостовой. Любка лежал в кузове на каком-то вонючем тряпье и чувствовал, что радом мотается чье-то безжизненное тело. Живот Любки подвело от мучительной боли. Его стошнило. Он пытался двигать связанными за спиной руками. И неожиданно легко ремень распустился. Тихо, стараясь не привлекать внимания сидевших в кабинке, Любка подполз к борту и одним быстрым движением перекинулся через него. Упал он, к счастью, не на мостовую, а то мне пришлось бы окончить рассказ о его историях, а на мягкую, сдобренную дождем обочину. Оглушенный, он лежал, не шевелясь, еще не веря, что спасся. Мучительно болела спина, но руки и ноги были, хоть и исцарапаны, целы. Прихрамывая, он медленно стал пробираться к Казанскому вокзалу, к его единственному пристанищу: воровской малине.
Тихими, опасно притаившимися переулками ковылял Любка по Москве, высвеченной рыжим, осенним рассветом. Через заросли жгучей крапивы и терпко пахнущей полыни пробрался к знакомому пролому в заборе, облюбованному для возвращений еще прошлой зимой. Запах опасности, незнакомые шорохи насторожили и без того потрясенную душу Любки. Внезапно, с грохотом, сорвалась с петель наружная входная дверь малины. С матерными криками, воплями и стонами вылетали во двор мужские тела. Любка увидел, как трое ментов волокут Щуку, утирающего кровь, заливавшую правый глаз. Дальше пошла вся компания, но Черного с ними не было! Ликование Любки было непродолжительным. После небольшой заминки синешинельные вытащили во двор темный длинный предмет, оказавшийся безжизненным телом, укрытым холщевым мешком. И Любка с горестью заметил, что из прорехи безжизненно выпадает рука. На ее среднем пальце Любка успел увидеть знакомый серебряный с чернью перстень Черного.
Так кончилась, рассыпалась, развеялась утренним осенним ветром воровская малина, что была для Любки ночлегом и домом, тихим островом в его бурливой воровской жизни. Он лежал в крапиве и, странно, слез не было. Все выгорело, опустело в его душе. Где-то на самом дне зрела даже мучительная сладкая радость. Нет Черного, нет Седого, нет Щуки. Нет свидетелей его ночных унижений, нет кровавой связи и проклятой беспомощности. Снова и снова Любка вспоминал скрюченный палец Черного со знакомым перстнем и почти физически ощущал сладкую боль, что причинял ему злорадно ухмылявшийся Черный этим самым перстнем, когда его корявый палец проникал в Любкмну плоть.








