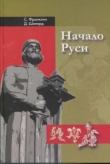Текст книги "Повседневная жизнь русского кабака от Ивана Грозного до Бориса Ельцина"
Автор книги: Игорь Курукин
Соавторы: Елена Никулина
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 36 страниц)
Глава 4
РУССКАЯ СВОБОДА: ОТ «ДОНОНА» ДО «КАТОРГИ»
У Демута и ТалонаПервые заведения достойные гордого имени ресторана появились, как и полагалось, в столице европейской культуры и вкуса – Париже в 70-х годах XVIII века и сразу изменили лицо гастрономии. Теперь человек из приличного общества имел возможность обедать и ужинать самым изысканным образом ежедневно – меню могло поспорить с парадным столом вельможи, а кушанья готовили знаменитые повара, вскоре лишившиеся в результате Великой французской революции своих хозяев. Посещавшие Париж путешественники удивлялись огромному выбору блюд, предлагаемых такими заведениями, и непомерным ценам, соответствовавшим роскоши стола и обстановки с зеркалами, хрусталем и фарфором. Лучшим рестораном на рубеже XVIII—XIX столетий считался Very, где в 1815 году отметились и русские офицеры, имевшие привычку, как секундант Ленского в «Евгении Онегине», «каждым утром у Very / В долг осушать бутылки три».
В России рестораны французской и итальянской кухни стали распространяться с начала XIX столетия, и в первую очередь при гостиницах. Первый «ресторасьон» при «Отеле дю Норд», «где можно иметь хороший обеденный стол, карточные столы для позволенных игр, лучшие вина, мороженое и прохладительные напитки всякого рода; тут же можно иметь по заказу обеденный стол для 100 особ», открылся в Петербурге в 1805 году. Вслед за ним появились подобные заведения – «Бон гурмон», «Билль де Бордо» и другие {1}
[Закрыть].
В то время в столице империи открывалось по несколько гостиниц в год – от самых комфортабельных до весьма заурядных: «Варваринская», «Шалон», «Москва», «Венеция», «Центральная», «Лондон», «Старая Рига», «Северная Пальмира», «Купеческая», «Большая Финляндская гостиница», «Волна», «Колумбия», «Белград», «Невская гостиница», «Николаевский Бор» и даже «Гигиена». Многие из них еще носили по старой памяти название «трактира». В 1823 году владелец извещал через «Санкт-Петербургские ведомости», что его «трактир Лондон, имея прекраснейшее местоположение среди столицы, против бульвара и поблизости императорского Зимнего дворца, ныне вновь по примеру иностранных гостиниц отделан. В нем можно иметь меблированные по новейшему вкусу комнаты за умеренные цены». Одни из них быстро прогорали, другие становились известными – как заведение купца третьей гильдии Жана Лукича Кулона, где, если верить книге о России маркиза Астольфа де Кюстина, в 1839 году ее автор едва не был заеден клопами.
Одним из самых известных был трактир, основанный в 1779 году купцом из Страсбурга Филиппом Демутом: здесь не только отдавались внаем «покои» и предлагали еду, но иногда устраивали концерты. После постройки в 1796 году трехэтажного трактирного здания «Демутов трактир» приобрел популярность и стал считаться самым комфортабельным в городе. Гостиница была удачно расположена – в самом центре на набережной Мойки рядом с Невским проспектом. Но за удобство приходилось платить. Остановившаяся здесь в октябре 1825 года помещица В. П. Шереметева описала свои первые впечатления: «Мы прибыли в Петербург… Я еще ничего не видела, кроме огромных домов, мимо которых проехали, и прибыли в гостиницу "Демут". Она так полна, что мы едва нашли три небольшие комнаты в четвертом этаже, это меня нисколько не смутило, в случае наводнения мы довольно высоко…
Лестницы, ведущие к нам, каменные; не согласились поместить нас менее чем на неделю, и представьте – эта несчастная квартира 65 руб. в неделю, кроме того 2 руб. за воду. Так как мы прибыли сюда без всякого хозяйства, то нельзя получить чашки, не беря порции чая или кофе, и все ужасно дорого; то же самое за обедом».
Но все же атмосфера отеля притягивала путешествовавших. Здесь останавливались знаменитый реформатор М. М. Сперанский, генералы А. П. Ермолов и М. И. Платов, заговорщик П. И. Пестель и философ П. Я. Чаадаев. Здесь живали родители Пушкина; сам поэт впервые снял в ней «бедный нумер, состоявший из двух комнаток», в мае 1827 года, вернувшись в Петербург после ссылки в Михайловском. В той же гостинице летом 1827 года Пушкин работал над «Евгением Онегиным», готовил для представления «самодержавному цензору» поэму «Граф Нулин», «Отрывок из Фауста», «Песни о Стеньке Разине» и другие произведения. Годом позже тут была написана поэма «Полтава». Весной 1828 года он беседовал здесь с А. С. Грибоедовым, приехавшим в Петербург с текстом мирного договора между Россией и Ираном. Здесь поэт собирал друзей. «Третьего дня мы провели вечер и ночь у Пушкина, – писал в мае 1828 года П. А. Вяземский жене, – с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзией своих мыслей». 19 октября 1828 года Дельвиг, Илличевский, Яковлев, Корф, Стевен, Комовский и Пушкин в номере однокашника по Царскосельскому лицею Тыркова праздновали семнадцатую лицейскую годовщину. Пушкин снова жил у Демута в 1830 году, а годом позже остановился здесь на несколько дней с молодой женой {2}
[Закрыть].
К середине века в Петербурге насчитывалось уже 53 гостиницы. Наряду с ними быстро развивались другие публичные заведения – на любой вкус. По данным полиции, в 1814 году в столице функционировали два кофейных дома, 26 трактиров, 22 герберга, 67 кухмистерских столов, 35 харчевен, 109 питейных домов, 259 ренских погребов (рестораны в перечне отсутствуют, так как они еще не выделились в качестве особой категории мест «трактирного промысла»). Аналогичной была ситуация в Москве, где ресторации существовали при открывавшихся гостиницах – «Дрезден», «Европа», «Лондон», «Лейпциг», Бурдье, Печкина, «Челышевское подворье» на месте нынешнего «Метрополя». «Гостиница Шеврие, бывшая Шевалье в Газетном переулке. Номеров 25, цена от 1 до 15 рублей в сутки; стол – 1,50 рубля», – перечислялись достоинства одного из таких пристанищ для приезжих в «Указателе г. Москвы» 1866 года.
В 1821 году Александр I утвердил «Положение о заведениях трактирного промысла», согласно которому в российских столицах не ограничивалось число гостиниц, рестораций, кофейных домов и харчевен. Закон выделял пять категорий заведений такого рода: гостиницы, ресторации, кофейные дома, трактиры и харчевни. Все они открывались с разрешения городских властей, а их владельцы должны были уплачивать акцизный сбор. «Положение» 1835 года расширило круг владельцев: отныне открыть заведение разрешалось не только купцам и мещанам, но даже крестьянам, однако только при наличии «свидетельства о беспорочности». Правда, можно было владеть не более чем одним заведением каждой категории. Размер акцизного сбора варьировался от 1500 до 800 рублей {3}
[Закрыть]. И лишь в 1894 году очередное положение о трактирном промысле юридически отделило заведения, не имевшие «покоев» (трактиры, рестораны, харчевни, духаны, овощные и французские лавки, ренсковые погреба, пивные лавки с подачей горячей пищи), от сдававших комнаты для проживания (гостиниц, постоялых дворов, заезжих домов, меблированных комнат и подворий).
«Ресторации» в этом списке стояли уровнем выше прочих заведений: они были открыты до двенадцати часов ночи, предполагали наличие иностранной кухни и вин; входить туда могли только лица «в пристойной одежде и наружной благовидности»; их обслуга должна быть «в приличном одеянии». Присутствие в ресторанах женщин, а также музыка и «пляски» были запрещены, и запрет этот формально сохранялся до 1861 года. В пушкинскую эпоху рестораны открывались уже не только при гостиницах, но их хозяевами традиционно были иностранцы: французы Дюме, Талон, Сен-Жорж, Диамант, Симон-Гран-Жан; итальянцы Гейде и Александр; немцы Клей и Отто. После Отечественной войны 1812 года стали открываться рестораны при гостиницах и в Москве – «Националь», «Люкс-Отель», «Ампир», «Метрополь» и именовавшийся «первым в Москве венским кафе» «Савой».
Каждый ресторан имел собственную «изюминку»: в итальянской ресторации Петербурга подавали макароны и сочное жаркое, у Тардифа можно было отобедать на террасе или в круглом зале, у Пекера подавали бифштексы и пирожные. Столь же знаменита была ресторация Эме. Хозяин заведения, повар и кулинар Пьер Талон появился в России в 1810-х годах и был увековечен как любимый ресторатор Евгения Онегина:
К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-beef окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
В 1825 году Талон отбыл на родину, а его ресторан перешел в руки француза Фелье, но продолжал пользоваться популярностью. Незадолго до дуэли с Дантесом Пушкин заказал оттуда на дом паштет, счет за который был уплачен опекой уже после его гибели.
Как видим, ресторации того времени были, во-первых, местом для избранной публики – завтрак «а ля фуршет» или обед ценой в 3—4 рубля серебром (без вина) был далеко не всем по карману. Во-вторых, ресторан воспринимался в качестве места «холостого обеда», более подходящего для молодой компании. Завсегдатаями становились гвардейские офицеры и дворяне из хороших семейств, а также иностранцы и путешественники.
Появление там Онегина с друзьями было вполне естественно, а «семейный» Пушкин в этот круг уже не вписывался. Поэт писал жене: «Потом явился я к Дюме (хозяин известного петербургского ресторана на Малой Морской улице. – И. К., Е. Н.), где появление мое произвело общее веселие: холостой, холостой Пушкин! Стали потчевать меня шампанским и спрашивать, не поеду ли я к Софье Астафьевне? Все это меня смутило, так что я к Дюме являться уж более не намерен и обедаю сегодня дома, заказав Степану ботвинью и beafsteaks» {4}
[Закрыть]. В отличие от более поздних времен, вечерами жизнь в ресторанах замирала: их постоянные посетители отправлялись в театр или клуб, а ночь проводили у друзей, на балу или в менее приличном обществе дам полусвета – в заведении «Софьи Астафьевны».
Не случайно и упоминание шампанского – в это время оно прочно вошло в жизнь российского благородного сословия. Когда в 1717 году во время визита Петра I во Францию регент герцог Филипп Орлеанский угостил царя шампанским, тот столь слабого напитка не оценил. Спустя столетие, в 1814 году, Николь-Барб Понсардэн, более известная как вдова Клико (возглавившая после смерти мужа фирму по производству шампанского), отправила в Россию торговое судно «Добрые намерения» с 12 180 бутылками шампанского. Победителям Наполеона вино пришлось по вкусу – предприимчивую вдову и других производителей шампанского ожидал коммерческий успех.
На протяжении всего XIX века русские поэты и писатели воспевали «Вдовы Клико или Моэта благословенное вино». Пушкин сравнивал шампанское с прекрасной любовницей, но все же отдавал предпочтение старому доброму бордо:
Аи любовнице подобен
Блестящей, ветреной, живой
И своенравной, и пустой.
Но ты, Бордо, подобен другу,
Который в горе и беде
Товарищ завсегда, везде,
Готов вам оказать услугу,
Иль тихий разделить досуг.
А вот император Александр II предпочитал пить именно шампанское – Редерер, причем только из хрустальных бокалов. В честь венценосного ценителя фирма Редерер выпустила шампанское «Хрустальное» (оно до сих пор является гордостью фирмы), доставлявшееся к русскому двору в хрустальных бутылках.
Шампанское и изысканные вина закупались партиями во время поездок за границу. В хорошем дворянском доме середины XIX века вкусы хозяев были устойчивыми: вина, как правило, заказывали оптом несколько раз в год. Обычно к столу подавали натуральные (сухие) красные и белые вина от проверенных поставщиков. Меньше пили крепленых вин – хереса или малаги. Кроме того, употреблялись различные наливки, которые приготовлялись в деревнях и привозились оттуда вместе с другими домашними припасами – мукой, маслом, соленьями, фруктами.
Именно в XIX веке складывается строгая система подачи вин к каждому блюду: к супам и «пастетам»-пирогам полагалось по тогдашнему канону крепленое вино, к рыбе принято было подавать белые столовые бургундские вина (чаще других шамбертен, к стерляди – макон, к угрю – кло-де-вужо). Ни один ценитель хороших вин в то время не стал бы пить красное вино – как правило, более терпкое, с более пахучим букетом – до белого, которое в этом случае покажется «плоским». К следовавшему за рыбой «главному блюду» полагалось красное столовое вино из Бордо – медок или шато-лафит; к ростбифу шел портвейн, к индейке – благородное белое бордоское вино сотерн, к телятине – более изысканное и тонкое бургундское шабли {5}
[Закрыть]. Вино, которое подавали к первым двум переменам, называли vin ordinaire; для третьей перемены, перед десертом, как правило, приберегали более редкие и дорогие вина; их разливал сам хозяин и лично подносил стакан каждому из гостей.
На вершине иерархии «трактирных заведений» стояли фешенебельные рестораны. Особой «институцией» старого Петербурга стал «Restaurant de Paris» на Большой Морской, уже в середине XIX века имевший репутацию «приюта хорошего тона». Особый блеск он приобрел под управлением французских рестораторов Бореля и Кюба в 60—90-х годах. Старик Борель сам выходил в зал к своим постоянным гостям, которых знал лично и которым предоставлял кредит. Он умел угодить самым высокопоставленным и капризным посетителям, иногда заезжавшим к нему на два-три дня вместе с целой оперной труппой, заказывавшим «котлеты из соловьиных языков» и вина из погребов Наполеона и оплачивавшим счета в 4—5 тысяч рублей. Здесь могли принять любую заграничную знаменитость и однажды привели в восторг турецкого посла Турхан-пашу и сопровождавших его стамбульских дипломатов выступлением оркестра балалаечников под управлением В. В. Андреева.
«Здесь тяжелую дубовую дверь открывал швейцар, который с почтением раскланивался. На его лице было написано, что именно вас он и ожидал увидеть. Это обыкновенно бывал видный мужчина в ливрее с расчесанными надвое бакенбардами. Он передавал вас другим услужающим, которые вели вас по мягкому ковру в гардероб. Там занимались вашим разоблачением так ловко и бережно, что вы не замечали, как оказались без пальто – его принял один человек, без шляпы – ее взял другой, третий занялся тростью и галошами (если время было осеннее). Далее вас встречал на пороге зала величественный метрдотель. С видом серьезнейшим он сопровождал вас по залу. "Где вам будет угодно? Поближе к сцене, или вам будет мешать шум?" Наконец место выбрано. Сели. Словно из-под земли явились два официанта. Они не смеют вступать в разговоры, а только ожидают распоряжения метрдотеля, а тот воркующим голосом, употребляя французские названия вин и закусок, выясняет, что вы будете есть и пить. Наконец неслышно для вас он дает распоряжения официантам, которые мгновенно вновь появляются с дополнительной сервировкой и закуской. Метрдотель оставляет вас, чтобы через минуту вновь появиться и проверить, все ли в порядке. Два официанта стоят поодаль, неотступно следят за каждым вашим движением. Вы потянулись за солью, официант уже здесь с солонкой. Вы вынули портсигар, он около с зажженной спичкой. По знаку метрдотеля одни блюда заменяются другими. Нас поражала ловкость официантов и память метрдотеля, который не смел забыть или перепутать, что вы заказали. Одета прислуга была так: метрдотель в смокинге, официанты во фраках, выбриты, в белых перчатках. Такие рестораны заполнялись публикой после театров. Они работали до трех часов ночи. Часов в 8—9 начинал играть оркестр, румынский или венгерский. Программа начиналась в 11 часов, выступали цыгане, певицы. В некоторых ресторанах были только оркестры… Цены здесь были очень высоки, обед без закуски и вин стоил 2 рубля 50 копеек. Особенно наживались владельцы ресторанов на винах, которые подавались в 4—5 раз дороже магазинных цен, и на фруктах. В конце обеда или ужина метрдотель незаметно клал на кончик стола на подносе счет и исчезал. Было принято оставлять деньги поверх счета с прибавкой не менее десяти процентов официантам и метрдотелю. При уходе все с вами почтительно раскланивались, так же "бережно" одевали, провожали до дверей», – таким запомнился аристократический ресторан старым петербуржцам {6}
[Закрыть].
Соседями и конкурентами Бореля были «Контан», «Пивато», «Эрнест», «Донон», обстановка которых отличалась изысканным вкусом: гостей ожидали уютные кабинеты, зимний сад, бассейн с гротом и живой рыбой. Они раньше других стали освещаться электричеством вместо газовых фонарей.
Роскошь досуга обеспечивалась 20-часовой ежедневной работой прислуги: поварят, судомоек, кухонных мужиков, которые должны были приходить рано утром и чистить, мыть, резать, убирать посуду. Да и сам шеф-повар не знал отдыха ни днем, ни ночью, поскольку отвечал за все приготовленное перед посетителями, хорошо знакомыми с лучшими заведениями Парижа.
Вышколенными официантами в таких ресторанах становились непьющие татары или выходцы из Ярославской губернии. Они прибывали в столицу мальчиками, проходили все стадии работы на кухне и в зале – и через 15—20 лет самые способные из них становились даже хозяевами ресторанов. Возникали целые династии из 3—5 поколений официантов, затем владельцев ресторанов. В 1870-е годы стали создаваться своеобразные «профсоюзы» – «артели официантов в Санкт-Петербурге» с уставом, правлением, вступительными взносами, общим капиталом. Для поддержки неудачников – ресторанный бизнес во все времена был рискованным занятием – было создано особое «Общество вспомоществования впавшим в нужду бывшим владельцам заведений трактирного промысла, торговавшим крепкими напитками, и недостаточным трактирным и ресторанным служащим».
Рестораны «высокой кухни» с «немилостивыми ценами» (лучшие в мире образцы коньяка можно было заказать по 100—200 рублей за бутылку) посещала высшая родовая и чиновная знать, включая членов императорской фамилии.
«Фасон превыше всего»Приобщение к этому миру было событием для истинно светского человека. Летом 1913 года только что надевший офицерские погоны лейб-гвардии кирасирского ее величества полка двадцатилетний корнет и отпрыск старинного рода князь Владимир Трубецкой завершал свой первый выход в столицу в качестве «настоящего человека»: «Вместо того чтобы улыбаться, я напускаю на себя усталое равнодушие. Во всех своих движениях я сдерживаю себя. Я стараюсь в точности копировать известных мне наиболее манерных и тонких гвардейских франтов… Заканчиваю я день, конечно, там, куда целый год не смел и помышлять даже взойти. Я заканчиваю этот день у „Медведя“, в знаменитом фешенебельном петербургском ресторане. За ужином я устало заказываю Mout sec cordon vert (иные марки шампанского в полку пить было не принято – по мнению сослуживцев корнета, это „такое же хамство, как и пристежные манжеты или путешествие во втором классе“. – И. К, Е. Н.) и выказываю подлинный фасон приличного гвардейца, едва выпив один бокал из поданной мне цельной бутылки дорогого вина» {7}
[Закрыть].
Утверждение светских манер позволило к началу XIX столетия смягчить в этом кругу отечественные традиции воспитания. Генерал-историк И. Н. Болтин не без доли лести, но в целом справедливо отмечал, что эпоха Екатерины II «во многих вещах изменила общий вкус и нравы на лучшее»; пьянство в благородном обществе, в отличие от «черни», «признавать стали за стыд». Разнообразие ассортимента и прочих возможностей лихого куража умерялось для представителей «света» достаточно жесткими рамками принятых условностей и приличий: были недопустимы не только грубый жест или слово, но даже неправильный выбор вина к столу.
Появились истинные ценители-гурманы, подобные персонажу «Анны Карениной» Стиве Облонскому, для которого выход в ресторан представлялся исполненной высокого смысла церемонией, истинной поэзией. Пересказывать классиков – дело неблагодарное, все равно лучше Толстого не скажешь:
«Когда Левин вошел с Облонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторой особенности выражения, как бы сдержанного сияния, на лице и во всей фигуре Степана Аркадьича…
– Сюда, ваше сиятельство… – говорил особенно липнувший старый белесый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. – Пожалуйте шляпу, ваше сиятельство, – говорил он Левину, в знак почтения к Степану Аркадьичу ухаживая и за его гостем…
– Так что ж, не начать ли с устриц, а потом уж и весь план изменить? А?
– Мне все равно. Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет.
– Каша а ла рюсс, прикажете? – сказал татарин, как няня над ребенком, нагибаясь над Левиным.
– Нет, без шуток; что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках, и есть хочется. И не думай, – прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, – чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем хорошо.
– Еще бы! Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, – сказал Степан Аркадьич. – Ну, так дай ты нам, братец ты мой, устриц два, или мало – три десятка, суп с кореньями…
– Прентаньер, – подхватил татарин. Но Степан Аркадьич, видно, не хотел ему доставлять удовольствие называть по-французски кушанья.
– С кореньями, знаешь? Потом тюрбо под густым соусом, потом… ростбифу; да смотри, чтобы хорош был. Да каплунов, что ли, ну и консервов.
Татарин, вспомнив манеру Степана Аркадьича не называть кушанья по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте: ”Суп прентаньер, тюрбо сос Бомарше, пулард а лестрагон, маседуан де фрюи…“…
– Сыру вашего прикажете?
– Ну да, пармезан. Или ты другой любишь?
– Нет, мне все равно, – не в силах удерживать улыбки, говорил Левин».
В этой сцене из романа татарин-официант ничуть не уступал Облонскому в эстетическом отношении к процессу выбора блюд – только он с нескрываемым удовольствием произносил французские названия, а Стива, напротив, щеголял московским русским языком. Левин же с его щами и кашей в этой беседе посвященных предстает профаном {8}
[Закрыть].
Нарочитая изысканность гвардейского франта или московского барина при этом не препятствовала участию в кутежах, столь же строго освященных традицией. Только что ставший офицером князь Трубецкой описал свой первый обед с однополчанами: «Трубачи на балконе грянули оглушительный марш. Подали суп и к нему мадеру, которую разливали в хрустальные фужеры внушительных размеров. Нас, новоиспеченных (офицеров. – И. К., Е. Н.), рассадили порознь, не позволив держаться вместе. Возле каждого новоиспеченного сел старый бывалый корнет, приказывавший вестовым подливать вино. Моим соседом оказался корнет Розенберг, с места выпивший со мной на брудершафт и все время твердивший: «Трубецкой, держи фасон! Пей, но фасона не теряй, это первое правило в жизни. Помни, что если тебе захочется пойти в сортир поблевать, – ты и это отныне должен суметь сделать с фасоном. Фасон – прежде всего, понимаешь?» …Вот тут-то и началось!
– Трубецкой, давайте на брудершафт! – кричал кто-то напротив меня.
– Эй, князь, выпьем на "ты", – кричали слева и справа со всех сторон. Отовсюду ко мне протягивались бокалы с пенящимся вином. С каждым нужно было облобызаться и выпить – выпить полный бокал "от души до дна"… То, что происходило в нашем собрании, – происходило в этот день во всех прочих полках гвардейской кавалерии без исключений. Традиция требовала, чтобы в этот день напаивали "в дым" новоиспеченных гвардейских корнетов, с которыми старые корнеты, поручики и штаб-ротмистры сразу пили на брудершафт, ибо в гвардейском полку все офицеры должны были говорить друг другу "ты", невзирая на разницу в чинах и годах» {9}
[Закрыть].
«Лейся, песнь моя, юнкерская. / Буль-буль-буль бутылочка казенного вина», – пели бравые юнкера, идя маршем по улицам. Вдали от Петербурга в армейской среде столичный «фасон» и дорогие вина заменялись обычной водкой и казарменными шутками в духе анекдотов о поручике Ржевском. О таких развлечениях потом вспоминали в мемуарах «озорники»-гусары николаевской эпохи: «Это было то время, когда гусары, стоявшие в местечках на западной нашей границе, еще ездили друг к другу в гости по грязи верхом на обывателях из евреев, стреляли в них клюквой, провинившемуся перед ними статскому мазали лицо горчицей или заставляли выпить смесь вина с пивом, уксусом и елеем… Кутили эти господа резко, а потому не всегда были пригодны к посещению балов и вечеров» {10}
[Закрыть].
Попойка в кругу сослуживцев помогала скрасить однообразие полковой жизни. «Пошли переходы – через 2 дня на третий дневка, и всякий день офицеры эскадрона и мы, юнкера, обедали и ужинали у капитана. Всякий день повторялся тот же веселый разгул, и всякий день все так же упивались до зела». На таких пирушках «нестройный, но полный одушевления» хор оглашал комнату:
Плохой драгун…
Который пунш тянуть не любит
В атаках будет отставать,
На штурмах камергерить будет.
«После такого поэтического приговора можно ли было не пить отвратительной кизлярки!» – вспоминал армейскую молодость бывший юнкер Казанского драгунского полка {11}
[Закрыть].
В начале XIX века культ «заздравных чаш» означал не только прославление радостей жизни и чувственной любви: «Здорово, молодость и счастье, / Застольный кубок и бордель!» – но имел и отчетливый политический привкус торжества содружества свободных людей над бездушной силой государства:
Здесь нет ни скиптра, ни оков.
Мы все равны, мы все свободны,
Наш ум – не раб чужих умов,
И чувства наши благородны…
Приди сюда хоть русский царь,
Мы от бокалов не привстанем.
Хоть громом Бог в наш стол ударь,
Мы пировать не перестанем….
Да будут наши божества
Вино, свобода и веселье!
Им наши мысли и слова!
Им и занятье и безделье!
От нараставшей реакции, иерархии чинопочитания и скуки казенной службы «рыцари лихие / Любви, свободы и вина» стремились уйти в «вольную» среду: за кулисы театра, в цыганский табор или дружеский кутеж.
Не случайно Николай I в 1826 году решал судьбу поэта Александра Полежаева: герои его поэмы «Сашка», московские студенты-гуляки, искали «буйственной свободы» с подчеркнуто «демократическими» манерами, порой переходящими в отрицание любых общественных норм:
В его пирах не проливались
Ни Дон, ни Рейн и ни Ямай!
Но сильно, сильно разливались
Иль пунш, иль грозный сиволдай.
Ах, время, времечко лихое!
Тебя опять не наживу,
Когда, бывало, с Сашей двое
Вверх дном мы ставили Москву!
Но при ликвидации «свободы» остальные компоненты такого образа жизни становились вполне приемлемыми: пьянство и «гульба» без политической подоплеки воспринимались как вполне благонамеренное занятие. Наблюдая за нравами московского светского общества середины XIX столетия, маркиз де Кюстин заметил: «Русское правительство прекрасно понимает, что при самодержавной власти необходима отдушина для бунта в какой-либо области, и, разумеется, предпочитает бунт в моральной сфере, нежели политические беспорядки» {12}
[Закрыть]. Мысли заезжего наблюдателя подтверждаются пометками самого Николая I на полицейских характеристиках гвардейских офицеров: государя прежде всего волновала их политическая благонадежность, а прочие порочащие поступки («игрок, предан вину и женщинам») и даже организацию продажи водки в казармах он считал извинительными шалостями {13}
[Закрыть].
Армейские «бурбоны» вели себя соответственно, о чем по прошествии многих лет вспоминали: «Утром от нечего делать идем (не по службе) в манеж смотреть смены. Из манежа отправляемся на квартиру эскадронного командира. Там на столе уже приготовлены кильки, доставленные полковым маркитантом Мошкой, ветчина туземного изготовления, яйца и очень объемистый графин водки, настоянной на каких-нибудь корках. Любезный хозяин, приглашая гостей закусить, говорит немецкую пословицу, которая гласит, что один шнапс это не шнапс, два шнапса также не шнапс и только три шнапса составляют полшнапса. Молодежь, слушая такие остроумные речи, поучается, и графин опоражнивается живо. Так проходит время обеда. Ровно в два часа денщик ставит на стол борщ из курицы, потом дает рубленые котлеты и неизбежные сырники или блинчики. Гости кушают с большим аппетитом, то и дело прикладываясь к графину. После сытного обеда является потребность отдохновения. Все расходятся по квартирам до чая; вечером снова идут к эскадронному командиру. Там устраивается пулька в преферанс… Молодежь группируется около другого столика, на котором красуется объемистая баклага белого рома. Разговоры идут, разумеется, о "бердичевских временах", когда существовали гусарские дивизии, молодецких попойках, шалостях, лихих атаках, дуэлях и т. д…. М. рассказывал, в чем заключается игра в кукушку. Гусары бросали жребий: кому быть стрелком, кому кукушками. Стрелок становился среди темной комнаты с заряженным пистолетом в руках, остальные крались по стенам и кричали "куку". При этом слове раздавался выстрел, но представлявший кукушку, крикнув "куку", спешил перебегать на другое место; таким образом, несчастные случаи бывали редко, а если они случались, то их относили к простой неосторожности и дело кончалось ничем. Так изумительно однообразно проходили наши дни. Читать книги или газеты не было в обыкновении» {14}
[Закрыть].
И в столицах, и в провинции возникали «общества нетрезвости»: «Кавалеры пробки», «Общество немытых кобелей», полтавское «Общество мочемордия» или «Всепьянейшая артель» в гвардейском Измайловском полку. Их члены обязывались ежедневно употреблять горячительные напитки, присваивали себе шутовские звания и своеобразную иерархию наград за способность неограниченно поглощать водку: «сиволдай в петлицу, бокал на шею и большой штоф через плечо» {15}
[Закрыть].
Традиции воинского «молодечества» закреплялись в шуточных полковых характеристиках, вроде: «Кирасир ее величества не боится вин количества», «Лейб-гусары пьют одно лишь шампанское вино» или «Вечно весел, вечно пьян ее величества улан». Они закреплялись примером «отцов-командиров», в том числе и лиц императорской фамилии. Царь Николай II в молодости служил в лейб-гвардии гусарском полку, офицеры которого славились беспробудным пьянством; в то время наследника российского престола можно было застать воющим по-волчьи в компании друзей на четвереньках перед серебряной лоханью с шампанским. Его дневник тех лет содержит многочисленные сообщения типа «пили дружно», «пили хорошо», «пили пиво и шампанское в биллиардной» и т. п. Будущий царь добросовестно подсчитал, что только за один вечер было выпито 125 бутылок шампанского, и в качестве своего спортивного успеха отмечал, как «напоили нашего консула» во время путешествия по Нилу {16}
[Закрыть]. «Перебесившись» в лучших гвардейских традициях, Николай впоследствии пил весьма умеренно; но для управления огромной страной ему не хватало совсем иных качеств…