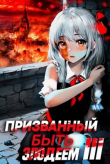Текст книги "Укок. Битва Трех Царевен"
Автор книги: Игорь Резун
Жанры:
Боевая фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Строго секретно. Оперативные материалы № 0-988Р-36551652
ФСБ РФ. Главк ОУ. Управление «Й»
Отдел дешифрования
Шифротелеграмма: Центр – СТО
…Согласно оперативной информации, пределы Российской Федерации пересекли два объекта повышенной энергетической опасности (оранжевый уровень), условно обозначенные как «Гейша» и «Шофер» и относящиеся к группе «АSN». Однако в дальнейшем объекты вышли из сферы наблюдения на МКАД, используя биоэнергетические технологии. Предполагается прибытие объектов в Новосибирск. Предполагаемый интерес: объект 56-777 «Шахиня» (операция «Невесты»). Ответственным за проведение операции приказано немедленно установить факт возможного прибытия объектов «Гейша» и «Шофер» в Новосибирск, локализовать их местонахождение, а также принять повышенные меры для энергетической защиты объекта 56-777 «Шахиня». Об исполнении доложить в двадцать четыре часа…

Вязкую тишину, настоянную на тополином свалявшемся пухе, на кислых испарениях вечных, уже заболоченных луж, на собачьем дерьме за квадратным, низкорослым городом погребов, прорезал вопль, пронзительный, как сирена Осовиахима:
– Во-о-от я те, шала-а-а-ава!
Из крайнего подъезда угрюмой, тяжело севшей на фундамент пятиэтажки вылетела девица в ультракороткой юбке и в топике, широко открывавшем пухлый молодой живот. Вслед за ней, над головой, увенчанной мелированными волосами, просвистела бутылка джин-тоника и вылетела, кувыркаясь, пачка тонких длинных сигарет. Спотыкаясь на своих платформах, девица воровато обернулась, подобрала сигареты и неровным галопом бросилась прочь.
– Ишшо одна, оссподи! – сидящие на крылечке бабки перекрестились синхронно. – Оссподи, прости ее душу грешную. Лютует Клава! Ох!
Окошко на площадке третьего этажа треснуло створкой, как винтовочный выстрел. Показалась острая голова в темных очках – абсолютно лысая, но с тонкой козлиной бородкой. Бородка потряслась, грозя кому-то, окошко захлопнулось, бабки снова погрузились в мирную дремоту. Дед Клава, как обычно, выполнил свой гражданский долг.
Когда в тысяча девятьсот тридцатом в семье горячего комсомольца, члена комитета комсомола строящегося завода «Сибсельмаш» – завода еще не было, а вот комитет уже был! – родился первенец, то Павел Саватеев без колебаний назвал его Клавдием. Правда, жена, глупая деревенская девка из Криводановки, плакала, а несознательная родня почти что прокляла. Но Павел твердо помнил из курса древней истории, прочитанного ему еще в ФЗУ, что Клавдий – это имя какого-то римского пролетария, боровшегося против империалистически настроенной рабовладельческой клики Древнего Рима. То есть он поднял восстание и все такое. На этом основании имя младенца было навечно вписано в метрики царапающим пером и худыми, разведенными водой чернилами.
Правда, потом выяснилось, что товарищ Саватеев немного ошибся и что император Клавдий Птолемей был как раз одним из этой самой клики поработителей и вообще – буржуа проклятый, просто-таки мироед. Но было поздно!
Пока Клавдий Павлович мальцом был, дело ограничивалось разбитыми носами и обидным прозвищем «Клавка-шалавка». Потом, когда он сделал карьеру по партийной лестнице, за такие разговоры можно было схлопотать, особливо в период до пятьдесят третьего, ибо доносы Клава научился ловко писать еще с шестнадцати. А потом сила Клавдия пошла на убыль. Едва-едва пережил он оттепель, снова стал карабкаться вверх по той же лестнице, колеблясь вместе с ней, как полагается убежденному марксисту. Когда в пятьдесят седьмом начали строить научный центр за городом, Клава звериным чутьем понял, что там счастье, там блат, почет и уважение, а главное – колбаса в составах из Москвы. Партийная деятельность Клавы прошла в «Сибакадемстрое», но там его карьеру быстро срезали под корень, в отличие от молодых елочек. Клава решительно выступил против юных вольнодумцев из клуба «Под Интегралом», которые у себя там, в рассаднике разврата, танцевали всякие твисты-шейки-шимми, да еще и скинув туфли под столы! За это выступление Клава получил благодарность от горкома партии и нажил злейших врагов среди научной элиты. В итоге Клавдия выдавили из Академгородка на квартиру в Ленинском районе, назначив персональную пенсию и прокляв до седьмого колена за отвратительный характер и непреходящую говнистость.
Бобылем он не прожил, однако жену в гроб спровадил благополучно, да пораньше; от этих лет семейной жизни досталась ему квартира в Октябрьском, у публичной библиотеки. Ее он сдавал, а сам, проживая в Ленинском, у станции метро «Студенческая», охотился на этих самых студенток с усердием профессионального африканского трофи-менеджера. Предметом его охоты стали девицы из колледжа ресторанного дела: изгнанные с куревом из стен колледжа, они шли курить, пить пиво, прогуливать занятия, что для деда Клавы равнялось настоящему разврату, в соседнюю пятиэтажку. Подкараулив, когда на площадке соберется больше двух короткоюбочниц, Клава выскакивал из квартиры в тельнике, галифе и тапках и устраивал настоящий погром… Немало каблуков было обломано об эти ступени, немало бутылок с напитками вылетело из окон.
Но последнее время попадались ему в основном девушки с первого курса, еще не знавшие про «охотничьи угодья», да и то редко. В колледже открыли что-то вроде неформальной курилки. Неизвестно было, оставят ли ее в зимние холода, но к Клаве в подъезд, изрисованный детской местью: «Клашка – какашка!», – ходили все меньше и меньше.
До конца июля у Клавы жили две девушки-баптистки, тихие, шепотливые и страшные, как церковные крысы. А потом они съехали, так как в местной общине произошел раскол. И дед Клава озаботился поиском новых жильцов. А это требовало хлопот.
Случилось это в начале августа, когда над городом сливочным кругом спокойного, безветренного дня расплескалось горьковатое ощущение безвозвратно уходящего лета: для кого последнего Такого, для кого – просто последнего.
Клава сидел на скамейке во дворе, у щербатого стола, который с семи до одиннадцати занимали доминошники, и под сенью вечных тополей читал газету. Газеты он читал исключительно правоверные, красного толка, и особенно нравились ему материалы, обличающие современную элиту. В том числе научную, продающую наши родные секреты масонам и иным жидам – оптом и в розницу. Он шевелил губами, проговаривая каждое слово, когда к столу приблизились трое.
Странная это была троица. Так показалось Клаве, и весь последующий разговор прошел с чувством неприятного сосания под ложечкой. Причем на рациональном уровне Клава не мог себе объяснить это ощущение: вроде и гости были не из короткоюбочных-длинноволосых, а, поди ж ты, на деревянной скамейке дед Клава почувствовал себя, как в пятьдесят первом на нарах в тюрьме новосибирского УМГБ, когда его допрашивали по делу о вредителях, сыпавших песок в подшипники новеньких комбайнов «Сибсельмаша».
Двое молодых людей и девушка. Девушка, на которую сразу обратил внимание Клава, в глухих, закрытых туфлях-лодочках, чулках коричнево-телесного цвета, коричневой же юбке ниже колен и в таком же глухом, тесном пиджачке. Правда, в вырез его подозрительно жарко дышала молодая грудь, но в целом девица оказалась одета прилично, сразу расположив к себе. Единственное, что смутило Клаву, – японский веер, трещавший в руках молодой барышни. Она его то складывала, то раскладывала… Буржуазные штучки! Но вот парни…
Один топтался сзади, оттопырив толстую губу, – прыщавый, долгорукий, черноволосый и какой-то помятый, в неуклюже, мешком сидящем костюме, с неумело завязанным галстуком. Небрежно проглаженные штанины спускались на стоптанные кроссовки с рваными шнурками и потрескавшимися носами. В руках он держал тяжелый, нагруженный пакет.
Третий… третий вообще был странен. Он не снимал темных очков, и если черные глазки девушки под прилизанными на лбу, стянутыми в пучок волосами Клава видел, если потухшие глаза того парня в кроссовках скользнули по нему, то третий остался непроницаем. Он был худощав и высок, темные волосы сидели на голове, как нарисованные. Не было у него ни усов, ни бороды, и удивительно безликим казался правильный овал лица. Черный костюм, черный галстук-селедочка, папка под мышкой. И глуховатый голос.
Гости спросили, не сдает ли Клавдий Павлович Саватеев квартиру.
– А… обождите?! А чего ко мне?! – насторожился дед.
Они объяснили. Соседка порекомендовала. Они студенты, им нужно заниматься в научной библиотеке, поэтому ценность жилья – в близости к ней. Все было бы хорошо, не знай дел Клава эту соседку лично. Она умерла год назад.
Он сглотнул слюну. В кустах отвратительно верещали кузнечики.
– А… эта! Студенты… Эт-та хорошо. Студенческие билеты ваши позвольте, значится, предъявить!
Троица переглянулась, очки главного семафорно сверкнули. Потом девушка открыла сумочку и достала оттуда – нет, не пачку студенческих. Пачку долларовых бумажек. Перехваченных резинкой. Из сумочки, видимо, из невыключенного плеера, донеслось жужжание: будь дед Клава знатоком английского, он сразу бы распознал щебечущий, хрипловатый и нарочито простой голос Сюзанны де Веги, славящейся исполнением своих песен почти без аккомпанемента. Но Клава только закрутил головой. Солнце перестало светить, кузнечики умолкли, а долларовый знак замерцал где-то над ним, как горний ангел.
– Так, значится… – Дед Клава уронил газету и облизнул сухие губы. – А эта… развратничать не будете?!
Девушка молча нагнулась, подняла газетный лист, отряхнула и вежливо положила на стол. При этом края пиджачка слегка разошлись и обнажили татуировку. Если бы дед Клава был силен глазами, то увидел бы на верхней части правой груди девушки зеленоватую половинку венка неизвестно какого растения, но – половинку ровно по вертикали. Однако старик принял это за обыкновенное родимое пятно. Он поморгал глазами и, понимая, что бессмысленно уже что-либо спрашивать, выдавил:
– А деньги – сразу! За год, вот!!!
Очкастый назвал сумму. Дед Клава, еще ошарашенный, кивнул. Тогда очкастый посмотрел на девушку, и она начала отсчитывать деньги. Свет, падавший из дыр тополиной кроны, лился по ее черным, гладким, как смазанным маслом, волосам. Веер высовывался из-за острого локотка.
И что-то почудилось деду Клаве, когда эти бумажки начали движение к нему. Какое-то слово, похожее на шелест или скрип: абрас-с-с… Абраксас… Но он уже не задумывался. Он торопливо принимал доллары, в нетерпении их пересчитать, а девушка говорила жестко:
– Договор будем заключать? Ключи.
– Договор? Зачем договор! – Дед Клава поднял слезящиеся от радости глаза. – Какой такой договор, девонька?! За все уплОчено.
– Ключи! – гулко повторил очкастый.
Дед Клава подскочил, оторвав плоский зад в галифе от скамьи. Ключи он хранил дома. Но отчего-то тот, очкастый, тихо произнес:
– Ключи у вас в кармане… брюк!
И совершенно ошарашенный дед Клава, сунув руку туда, обнаружил ключи от квартиры в Октябрьском. Он неверяще смотрел на них: это зачем он их вытащил-то сейчас во двор? Ключи забрала из его морщинистой ладони белая лапка девушки.
Перед тем, как они ушли, очкастый повернулся и тихо попросил:
– Не беспокойте нас, пожалуйста. Мы будем усиленно заниматься!
И ушел. А Клавой овладела странная слабость. Он сидел и, скрипя зубами, смотрел, как девки идут в его подъезд: курить, стряхивать пепел на ступени, хлебать пиво. Сил подняться не было.
Но доллары, в курсе которых дед Клава разбирался, как любой российский пенсионер, приятно согревали карман галифе.
…А спустя пятнадцать минут, метрах в двухстах от этого уютного дворика, влажно дышащего в тени тополей, троица зашла в пролом в стене строящегося корпуса областной больницы. Шли молча. Мимо штабелей плит, мимо ободранных строительных вагончиков – жизнь на стройке замерла в прошлом году, после очередной невыплаты зарплаты. В этом узком промежутке между вагончиками они остановились.
Девушка первая молча сбросила туфли, став маленькими ногами в коричневых чулках на засыпанную щебнем площадку. Сбросила прямо в глину коричневый пиджак и юбку. Сейчас она была почти нага, груди мячиками колыхались на молодом теле, покачивая малиновыми сосками. Татуировка чернела пятнышком. Так же неторопливо, не обращая внимания на то, как на нее смотрит губастый и прыщавый их спутник (он же только с отвращением сорвал с шеи петлю галстука), она избавилась от колготок. Очкастый с папкой некоторое время равнодушно смотрел в небо, потом обронил:
– Пока!
И направился к примостившемуся меж вагончиков ромбовидному домику – дощатому туалету. Зашел. Прошло минуты три. Девушка растрепала черные волосы. Стоя нагишом на бетонной плите, вытащила из пакета бутылку минеральной воды, этой «Карачинской» принялась умываться, особенно тщательно обмывая груди. Прыщавый смотрел на это, ухмыляясь. Девушка нагнулась, достала из пакета джинсы, майку и сланцы с белыми ремешками.
– А че он… че пропал-то? – буркнул прыщавый, пошел к избушке туалета.
И он не успел притронуться к дверце, чтобы хотя бы постучать, как та отворилась с могильным скрипом – как крышка гроба. Пустая кабинка и вонючая прорезь. И никого!
– А… где? – тупо спросил прыщавый, оглядываясь на спутницу.
Та уже спрятала свое тело под джинсиками и майкой, отбросила опустевшую бутылку. Подхватила сумочку. И, проходя мимо, дернула парня за плечо.
– Пойдем. Идиот, он ушел туда, куда мы попасть не сможем… Он вернется, когда надо будет. Пойдем, говорю!
Квартира на улице с чудесным именем Лескова в доме сорок четыре была сдана. А дед Клава в ту ночь напился в хлам: совесть его мучила, и от томления этого рудимента психики не спасали даже надежно спрятанные под матрац доллары. Дел Клава подумал, что сдал квартиру не полностью хорошим людям.
И он не ошибался.

«…Европейский Центр по правам цыган (Бухарест, Румыния) объявил об окончании исследований, проводимых с начала девяностых годов учеными Хаммеровского Института. В ходе исследования фондов 34 крупнейших библиотек Европы, включая национальные архивы Франции, Великобритании и Испании, удалось обнаружить и обработать более 2300 документов, касающихся развития собственно цыганского этноса. Роман Барелия, секретарь Центра, утверждает, что на основании этой информации можно смело говорить о существовании государственности цыган, или, как их принято называть, ромов. Барелия также подчеркнул, что одной из задач было установление генеалогического древа потомков первых цыганских властителей или „воевод“, появившихся в Европе, и даже цыганских „царевен“… Самым любопытным является то, что данное исследование проведено на средства анонимного заказчика, имени которого г-н Барелия не раскрывает, отметив только, что этот заказчик – из России…»
Уолтер Пирслей. «Волшебники ниоткуда»The Gardian, Лондон, Великобритания

Этот дом появился в лесу давно, еще лет пятнадцать назад, когда кирпич был невероятно дешев, а деньги у некоторых людей водились, паче того – оглушительные. И поэтому хозяин выстроил особняк в полном соответствии со вкусами российской гопоты, вылезшей из грязи в нувориши. По краям передней стены двора высились огромные зубчатые башни, высотой в полтора этажа, с настоящими площадками для обстрела. Первый этаж украшали узкие окна-бойницы, а над входом нависала каменным лбом еще одна боевая площадка с квадратиками-прорезями. С той стороны, которая выходила на деревню Ельцовку и ручей, располагалась глухая стена, но и там примостились две башенки, с которых можно было лить кипящую смолу на осаждающие эту цитадель вражеские орды да метать стрелы… Сам дом прикрылся от шоссе, уходящего на Академгородок, густым сосновым бором, от деревни отгородился, как рвом, неглубоким, но илистым и вонючим ручьем. Однако никакие орды эту крепость не штурмовали; хозяина зарезали тихо и мирно, ножичком в печень, во время делового разговора в его гробообразном «мерседесе» модели S600, и правда ставшим для него гробом.
Дом не достался ни длинноногой содержанке-модели, ни прежней жене хозяина, ибо был записан на его старую мать. Старушка пустила на лето деревенских родственников. С зубчатых башен с шумом слетали куры, петухи гордо выхаживали за стальными прутьями, в оборонном выступе довольно хрюкали свиньи… Но потом оказалось, что содержать этот кирпичный замок накладно. Родня съехала вместе с курами и свиньями, а старушка вскоре померла.
Особняк купил местный олигарх, банкир, да только руки у него не доходили до этого «Вольфшанце» – требовала заботы недвижимость на Мальорке! – и особняк пустел, стыло возносясь в зимнее небо кирпичными зубцами.
Но в один прекрасный день в приемной олигарха появилась женщина. «Цыганка!» – как в панике доложила ему по интеркому секретарша. Не это было удивительно, а то, как эта «цыганка» отличалась от блудоглазых, с копчеными лицами таджиков, промышлявших на новосибирских барахолках. Ее черные, с заметной благородной проседью волосы были уложены в прическу, и редкими бриллиантами в них сверкали монисто – по-видимому, из настоящих золотых монет. На тонком носу со страстными, изящно очерченными ноздрями сидели затемненные очки без оправы, которые олигарх взглядом сведущего человека оценил в триста долларов, не меньше – и не ошибся. Смуглое лицо «цыганки» с выпуклым гордым подбородком дышало жаром всей двадцатипятивековой истории этих выходцев из Индии: в нем пламенели страсти раджей Раджестана, дворцовых интриг Агры. Этот жар полыхнул в лицо олигарха так сильно и жгуче, что он потерял дар речи. А секретарша оценила роскошный светло-сиреневый костюм, блузку от Montegi, в вырез которой уходила гордая тонкая шея без малейшего признака морщин, – а ведь цыганке явно было за сорок! – тонкие чулки и туфли, размер каблука и стоимость которых были таковы, что секретарша от обиды нажала не ту клавишу и начисто стерла только что набранный документ: ее туфельки были явно дешевле.
Нетрудно догадаться, почему после пятиминутного общения с «цыганкой» олигарх согласился продать земельный участок с домом ровно за ту сумму, в которую сам его оценивал в глубине души, – и даже немного меньше.
С тех пор в доме началась новая жизнь. Окрестные жители, быстро узнавшие, что особняк приобрели «какие-то цыгане», замерли и стали ожидать худшего по российской традиции последних лет, а именно: наркоманского притона, дачного воровства. Но ни шумных пиров, ни постоянного паломничества в ворота между двумя башнями не случилось. Да, иногда за полночь зажигались окна в странном доме. Но никаких гостей и никаких посторонних автомобилей тут не видали. Только один вишнево-красный Cadillac Eldorado, на заднем сидении которого можно было расположиться, закинув ногу на ногу, въезжал и выезжал из ворот особняка – ворот, которые мягко сдвигались своими новенькими створками: прежнее клепаное железо новые хозяева заменили броневыми листами с кевларовой начинкой да глухим рельсом без просвета внизу.
Конечно, окрестные сплетники все глаза проглядели, пытаясь увидеть странных хозяев. Однако стекла в машине были затемненные, и только несколько раз люди лицезрели странную парочку, обитающую в особняке. Иногда «кадиллак», который делал крюк, подъезжая к воротам, высаживал пассажиров метров за сто, на дороге, ведущей к детским лагерям. И тогда обитательницы шли через лес по летней, пружинистой от хвои сыроватой земле, по шишкам, спрятавшимся в ее желто-зеленом коврике. Шли босиком. Причем пожилая размахивала своими дорогими туфлями и вовремя снятыми чулками, держа их в руке. А младшая, совсем не похожая на цыганку, одетая обычно в джинсовый сарафан или джинсовые брюки и майку, свободно облегающую худое, подростковое тело, шлепала вообще без обуви. И ветерок развевал ее пышные, волной окатывающие голову черные кудри, которые обрамляли смуглое, с оттопыренными губками, лицо. Только один раз их видели в цветастых многослойных юбках и косынках. Обе шли через лес в сторону табора, в котором шумел праздник (кажется, это был день святого Георгия, которого ромы почитают и как своего святого). Это было настолько удивительно, что их не сразу узнали…
Жители этого дачного района были бы поражены, если бы услышали, что и в общину, расположившуюся табором выше по течению Оби, у начала протоки, новоявленные цыганки вошли совсем не сразу. В общине всем заправлял Бено, сравнительно молодой цыган, еще даже безбородый: мелкая росла щетина у него, какая-то пегая. Бено окрестные называли «бароном», хотя сами цыгане знали, что это полная и очевидная чушь. Никаких баронов никогда в общинах не водилось, а цыганское слово «баро» означает «большой», «главный». Но стараниями европейцев «баро» превратили в «барона», и теперь невидимые серебряные позументы ложились на плечи Бено, чаще всего обтянутые кожаным жилетом со множеством карманов, в которых всегда звенели гайки, шурупы и японские винты внутреннего сечения: цыган владел угловой шиномонтажкой, а также двумя авторемонтными пунктами на трассе, и поэтому был основным экономическим двигателем общины. Бено по совместительству являлся еще и вайда, председательствовал в сэндо и иногда даже носил трость с серебряным набалдашником и желтыми кистями – знак его власти. Однако все знали, что он, хоть и вспыльчив, но справедлив.
В один из первых весенних дней Бено разыскал в общине старую Сану, бывшую тогда самой старшей биби, и сказал ей на ромском:
– Биби Сана, надо принять в общину новую женщину с дочкой. Она не совсем наша… одним словом, ты сама посмотришь! Собери всех биби завтра у моего шатра.
Шатер Бено – на самом деле роскошная армейская палатка командного состава на двадцать три человека – стоял на самом взгорке, перед лесом. Старухи собрались. Бено представил им новое лицо.
Старухи были очень недовольны. Во-первых, это была явно городская женщина, в длинной, но все-таки однослойной юбке и в ботиночках на каблуках; и пусть она на белую блузку накинула цыганский платок да голову убрала в косынку, все равно – чужая! Девочка, которую она привезла с собой, гуляла одна между палаток. Ромского она не знала, дичилась и, как заметили цыгане, несмотря на то, что стоял еще конец апреля и между соснами кое-где лежал снег, гуляла босой. Впрочем, цыган этим удивить было сложно, но молодежь осудила пришлую: вроде уже почти взрослая девка-цыганка, а бегает, как подросток!
Бено обвел черными, шальными глазами собрание, прокашлялся, начал по-ромски, гортанно:
– Люди! Хочу представить вам… нового человека у нас. Зовут ее Мирикла, родом она с Крыма, муж ее был рода влахи, хотя жил в Греции. Я знал старого Антанадиса, когда был совсем ребенком. Антанадис очень помог нам тогда, нашим родителям – там, откуда мы пришли! Сейчас эта женщина селится здесь… рядом с нами. Она воспитывает дочку, Патриной зовут. Просит у всех нас разрешения считаться таборной, но… но… – Бено замялся, – но жить отдельно.
Собрание загомонило.
– А вот пусть тогда к нам приходит, шатер ставит и живет с общиной! – отозвалась какая-то старая цыганка.
Больше ему сказать было нечего, да и не знал он, что сказать. А Мирикла, скромно стоящая позади, у смолистого ствола старой сосны, молчала: перебивать вайду, да еще, не будучи принятой, нельзя! Тут Бено внезапно ощутил на спине необыкновенное жжение и понял, что ниже поясницы его жжет точка, в которой скрестились взгляды Мириклы и этой маленькой чертовки – Патрины. Бено закашлялся, полез рукой за пазуху и начал остервенело чесаться, не в силах унять зуд. Затем опомнился – смешно выглядит – и махнул рукой, буркнул: мол, пусть сама скажет.
Мирикла отделилась от сосны. Бено стоял перед этим на расчищенном участке черной вытоптанной земли, и новенькая ступила туда, в этот круг, причем по пути необъяснимо легко вышагнула из своих ботиночек, оставшись боса, в одних у щиколотки обрезанных колготах. Кто-то понял и ахнул: так, одним движением, новенькая показала им, что не боится отбросить городской лоск свой и что пришла она к ним с открытой душой.
– Люди! – проговорила она, причем на том же сервитском диалекте, что Бено; говорила чисто, только чуть растягивая слова, как все крымчане. – Меня зовут Мирикла. Вы меня видите, какая я есть. Без зла я к вам пришла и без мыслей поживиться за ваш счет. Хочется мне жить рядом с вами, помогать вам, быть нужной общине… но я должна быть одна. Я воспитываю девочку. Патрину. У нее особое назначение… Я должна выполнить его, так как это воля моего мужа, Георгия Антанадиса, и Бога.
И вот так, дерзко поставив имя супруга на первое место, она закончила свою речь, а потом поклонилась низко-низко – до самых пальцев ног, вцепившихся в эту землю.
Мириклу приняли. Более того, выступая в сэндо по нескольким малозначительным делам, она показала себя умной и мудрой, и ее вскоре все так же уважительно называли «биби». Иногда она приезжала в табор с Патриной. Девчонка, живая и не ничего боявшаяся, быстро выучила сервитский диалект и носилась с ребятишками помладше по табору. Попрошайничество в том убогом виде, в котором оно практикуется на улицах российских городов, было под страхом буквальной смерти запрещено Бено. Девушки работали с женщинами на изготовлении парчовой ткани и сувениров (табор получал мелкие заказы от православной епархии и местного общества «Культурный Диалог»), а мальчишки вовсю трудились на автомойках, в шиномонтажке и на СТО.
Однако дети вылазки делали все равно. Для них это было не тем тупым попрошайничеством, которым занимаются профессиональные сообщества чумазых маленьких нищих на вокзалах и рынках, выдающих себя за цыганят, а неким спортом: повезет – не повезет, сумеет убедить – не сумеет. Только один раз в такую экспедицию взяли Патрину. Худая, смуглая, с черными от круглосуточной беготни по земле ногами – она идеально подходила на роль просительницы. Ребята вернулись с круглыми глазами: Патрине надарили целый мешочек денег, среди которых попадались и американские купюры, плюс два золотых колечка и какие-то богатые на вид часы. Более того, стоило девчонке упереться своими бездонными глазищами в спину кого-нибудь из прохожих, как у того словно сами собой лезли из карманов купюры, монеты, и он останавливался, начинал искать глазами человека, которому мог бы это все отдать.
Но… Патрина этому была совсем не рада. С ней случилась истерика. Она убежала на берег шлюзового канала, долго плакала там, забившись в развалы бетонных плит. А после наотрез отказалась когда-либо участвовать в подобных предприятиях. Но это не очень уронило ее авторитет в глазах двенадцатилетних пацанят: они уже убедились, что Патрина дерется, как кошка. И если бы они знали, то сравнили бы ее удар с ударом кенгуру: крепкий сухой кулак Патрины с первого раза точно и метко разбивал любой задиристый нос. Цыган же постарше, для которых Патрина была еще все-таки девчонкой, она сразила раз и навсегда, когда, как-то оказавшись у вечернего костра, смело взяла оставленную кем-то гитару и спела. Спела не привычное, цыганское, которое знали и любили в общине, но уже слышали по сотне раз, а какие-то тревожащие душу, незнакомые слова. И хотя все понимали, о чем поется, тем не менее, романс щипал нутро совершенно нездешней грустью, какой-то неизведанной романтикой и горечью.
Она пела голосом хрустальным, чистым, рассыпающимся в ночном небе на тысячи искорок, как и сам костер. Жар от костра приклеил завиточек черных кудрей на вспотевший лоб; с трогательно угловатого, но уже нежно-оливкового плеча сползла бретелька сарафана, в котором она чаще всего ходила; на голой бронзе ступней, протянутых к огню, скульптурных и невесомых, трепетал багровый отблеск.
Устав от гулянок и пьянок,
Гостиных и карт по ночам,
Гусары влюблялись в цыганок,
И старенький поп их венчал!
Дворянки в капотах широких
Навагу едали с ножа;
Но староста знал, что оброка
Не даст воровать госпожа.
И слушал майор в кабинете,
Пуская дымок сквозь усы,
Как нынче цыганские дети
Барчатам разбили носы!
Он знал, что когда он отдышит,
И сляжет, и встретит свой час:
Цыганка подымет мальчишек,
И в корпус кадетский отдаст.
Но вот уходил ее сверстник,
Ее благодетель во тьму —
И пальцы в серебряных перстнях
Глаза закрывали ему.
Под гром севастопольской пушки
Вручал старшина Пантелей
Мальчонке от смуглой старушки
Иконку да триста рублей.
Старушка в наколке нелепой
По дому бродила с клюкой,
Покуда в кладбищенском склепе
Не клали ее на покой.
А сыну глядела Россия,
Ночная метель и гроза
В немного косые, шальные,
С цыганским отливом глаза!
Доныне в усадебке старой
Остались следы этих лет:
С малиновым бантом гитара
И в рамке отвальный портрет.
В цыганкиных правнуках слабых
Тот пламень дотлел и погас…
Но кровь наших диких прабабок
Нам бросится в щеки подчас!
Она закончила петь, оборвался голос небесного патефона. У костра сидели в молчании; цыгане – не те люди, которые будут оживленно хлопать. Каждый пропустил песню сквозь душу, и если чего не понял умом, то прекрасно ощутил сердцем. Лишь только беспокойный Миха, один из младших сыновей Бено, ворочался у костра, а потом спросил баском:
– А капот – это что? И почему широкий? Я вот знаю, от «тойоты-карины» капот…
На него шикнули. Патрина дернула голым плечом, тут же торопливо поправила бретельку, коротко пояснила, что капот – такое старинное платье. Но Миха не отставал:
– А ты откуда знаешь?
– Мне Мирикла сказала. Она эту песню пела.
– А что, твоя биби так много знает?
– Много!
– А она откуда ее знает? Песню?
– Мирикла говорила, что мой дедушка ее пел. А он был… – Патрина вдруг подняла пылающее лицо и, словно не видя окружающих, проговорила странным голосом: – а он был штабс-капитан.
Миха засмеялся, но его снова одернули, теперь уже дав внушительного тычка. Он умолк.
Больше, правда, Патрина никогда не пела. Но с тех пор и она, и Мирикла стали все реже и реже появляться в общине. Мирикла передала крупную сумму Бено в американских деньгах, на которую тот выкупил землю на той стороне Оби и начал вести переговоры о создании Культурного Центра «Цыганское кочевье».
А Патрина с Мириклой стали почти недосягаемы.
Какой-то ухарь скупил участки по обе стороны башенной стены, и теперь каждый день сюда подъезжали рычащие бензовозы, трейлеры, рефрижераторы – мастер наладился чинить тяжелую технику. Бено туда сунулся, но его быстро отшили, причем так, что вайда ходил с темным, злым лицом все три дня. Потом зашел к Мирикле и поделился с ней странным наблюдением: хозяин ремонтирует «МАЗы» и немецкие «МАНы» явно себе в убыток, Бено в компанию брать не хочет и чем живет – непонятно. Может, деньги отмывает? Как на грех, заскочила в дом Патрина – голоногая, в обрезанных шортах и одном кружевном лифчике – как ходила на речку купаться. Увидев Бено, с визгом вылетела за дверь, но тот все равно покраснел. И выговорил Мирикле. Женщина улыбнулась, почтительно склонила перед вайда голову с блеснувшими монисто и попросила: