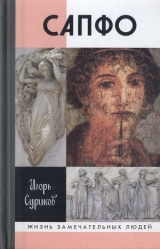
Текст книги "Сапфо"
Автор книги: Игорь Суриков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Александрийского столпа…
Еще раньше Державин, который юного Пушкина, по собственным словам последнего, «заметил и, в гроб сходя, благословил», создал свой «Памятник» – по тем же Горациевым мотивам:
Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный.
Металла тверже он и выше пирамид.
Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный,
И времени полет его не сокрушит.
Гаврила Романович, кстати, куда ближе держится текста оригинала, чем Александр Сергеевич. Но в метрическом плане и Державин, и Пушкин сильно отступают от Горация. Оба пользуются так называемым александрийским стихом. Это шестистопный ямб с обязательно соблюдаемой цезурой (паузой) в середине, то есть после третьей стопы. Античность такого размера не знала, он возник гораздо позже.
А теперь приведем саму оду Горация (ее начало, первые несколько строк) в русском переводе, автор которого (А. П. Семенов-Тян-Шанский) сознательно поставил перед собой задачу – как можно точнее соблюдать метрику оригинала:
Создан памятник мной. Он вековечнее
Меди, и пирамид выше он царственных.
Не разрушит его дождь разъедающий,
Ни жестокий Борей, ни бесконечная
Цепь грядущих годов, в даль убегающих…
(Гораций. Оды. III. 30. 1–5)
Вот это и есть малый асклепиадов стих. Ровно так же – и в латинском подлиннике:
Éxegi monumént(um) aére perénnius
Régalique sitú pyramid(um) áltius,
Quod non imber edáx, nón Aquil(o) impotens
Póssit díruer(e) aút innumerábilis
Armorúm seriés ét fuga témporum…
Здесь несколько «по-школярски» расставлены ударения в тех местах, где их следует делать при воспроизведении античного стихотворения средствами фонетики современных языков, и заключены в скобки буквы, которые при чтении не звучат. Это сделано для того, чтобы даже читателям, не изучавшим латынь, стал ясен стихотворный размер. Этот последний, как можно видеть, не совпадает в полной мере ни с одним из тех, которые традиционно приняты в русской и европейской поэзии Нового времени.
Римлянин Гораций позаимствовал его из Греции, причем именно у эолийских поэтов Лесбоса. Он и сам далее в том же «Памятнике» говорит, что прославился,
…Эолийский напев в песнь италийскую
Перелив.
(Гораций. Оды. III. 30. 13–14)
Имеется в виду, несомненно, в том числе и лирика Сапфо – в качестве одного из образцов, на которые ориентировался Гораций. Что же касается большого асклепиадова стиха, которым, напомним, написаны произведения митиленской поэтессы, вошедшие в третью книгу ее сборника, он схож с малым, но строка в нем длиннее, как можно догадаться уже из названия. Строка, кстати, получается настолько протяженной, что в некоторых переводных изданиях ее делят на три коротких, дабы выглядело привычнее. Именно так нами в предыдущей главе были процитированы несколько фрагментов, где Сапфо использовала большой асклепиадов стих. А если приблизить разбивку на строчки к оригинальной, то выйдет, скажем, так:
Ты умрешь и в земле будешь лежать; воспоминания
Не оставишь в веках, как и в любви; роз пиерийских ты
Не знавала душой…
(Сапфо. фр. 55 Lobel-Page)
В стихах четвертой книги сборника мы встречаем ионийский тетраметр – еще один редкий размер, лишь с трудом и приблизительно передающийся переводу на метрический «язык» современной поэзии. К этой книге принадлежит, например, стихотворение – тоже уже знакомое нам, поэтому повторное воспроизведение полного текста излишне, можно ограничиться парой первых строк, – о печальном уделе пожилой женщины:
Всю кожу мою сетью морщин старость уже изрыла,
И стали белы пряди мои, прежде чернее смоли…
(Сапфо. фр. 58 Lobel-Page)
В пятую книгу Сапфо вошли лирические сочинения смешанного характера, в том числе и в плане метрики. Эта книга производит несколько разнородное впечатление, и нелегко уловить, каким принципом руководствовались те, кто ее составлял. Возможно, в данном случае ими был принят за основу вообще не столько метрический, сколько тематический принцип. А именно – собрали воедино произведения нашей героини, созданные ею по поводу разлук с девушками-подругами. Разлук надолго и, вероятно, даже навсегда: ученицы поэтессы взрослели, покидали ее фиас-«пансион», их выдавали замуж, подчас в другие, далекие города…
Это, конечно, лишь предположение. Но, во всяком случае, именно к пятой книге относятся два крупных, выдающихся по художественным достоинствам фрагмента, тематика которых как раз такова. Один из них – об Аттиде (Сапфо. фр. 96 Lobel-Page) ранее цитировался полностью. Адресатка второго (Сапфо. фр. 94 Lobel-Page) не известна по имени. Он начинается так:
Нет, она не вернулася!
Умереть я хотела бы…
А дальше передается последняя, горькая беседа расстающихся женщин, прощальные слова утешения, которые Сапфо, как старшая, говорит своей наперснице:
«Поезжай себе с радостью
И меня не забудь. Уж тебе ль не знать,
Как была дорога ты мне!
А не знаешь, так вспомни ты
Всё прекрасное, что мы пережили:
Как фиалками многими
И душистыми розами,
Сидя возле меня, ты венчалася,
Как густыми гирляндами
Из цветов и из зелени
Обвивала себе шею нежную.
Как прекрасноволосую
Умащала ты голову
Миррой царственно-благоухающей,
И как нежной рукой своей
Близ меня с ложа мягкого
За напитком ты сладким тянулася…»
О нескольких следующих книгах у нас, к сожалению, нет практически никакой информации. Сказать о них что-то ответственно вряд ли возможно, а прибегать к гаданиям не стоит. Из шестой и восьмой книг вообще не сохранилось ни одного отрывка, а из седьмой – только один, да и то очень короткий:
Мать милая! Станок
Стал мне постыл,
И ткать нет силы.
Мне сердце страсть крушит;
Чары томят
Киприды нежной.
(Сапфо. фр. 102 Lobel-Page)
Речь идет, конечно, о ткацком станке. Прядение и ткачество были постоянными занятиями древнегреческих женщин, которые, как нам известно, вели (за редкими исключениями) затворническое существование. Пряли и ткали как зрелые матери семейств, так и молодые девушки, их дочери, которые попутно и обучались от родительниц быть искусными мастерицами в этих ремеслах.
В только что приведенном фрагменте перед нами именно такая ситуация: мать и дочь дома, за станками. И вдруг дочь охватывает любовное томление, и она признается в этом матери. Считается (и, видимо, справедливо), что здесь поэтесса обработала фольклорный сюжет, возможно, взяв его из какой-то знакомой ей народной песни. Как бы то ни было, и в этих нескольких строках присутствует мотив, столь частый у нашей героини: непреодолимая сила Любви, заставляющей забыть о повседневных делах, дарящей целую гамму ранее неизведанных ощущений, можно сказать, переносящей человека в другой мир…
Переходим, наконец, к последней книге сборника Сапфо. О ней как раз известно немало. Она была составлена из свадебных песен (эпиталамиев, или гименеев), написанных по разным поводам и в разных стихотворных размерах. Такие песни исполнялись, понятно, в ходе брачных церемоний. Можно предположить, что Сапфо сочиняла их для своих учениц и по их просьбам. Для каждой из них в какой-то момент должна была наступить пора окончания девической жизни, переход к жизни семейной. Замужество являлось важнейшим этапом для свободнорожденной женщины-гражданки, а именно такие-то и посещали «пансионы», подобные митиленскому.
Характерно, что одной из главных тем в эпиталамиях Сапфо, если судить по дошедшим до нас их отрывкам, выступает восхваление невесты. И тут поэтесса прибегает к ярким, красочным образам, часто пользуясь метафорами и сравнениями. Так, в одном месте невеста уподобляется спелому, сочному яблоку:
Сладкое яблочко ярко алеет на ветке высокой —
Очень высоко на ветке; забыли сорвать его люди.
Нет, не забыли сорвать, а достать его не сумели.
(Сапфо. фр. 105а Lobel-Page)
Обратим внимание на то, что здесь размер – гекзаметр. Да, эпический «гомеровский» гекзаметр, который вообще-то в мелике обычно не использовался. Аналогично – и в следующем фрагменте, в котором невеста сравнивается с редким, красивым цветком гиацинтом:
Как гиацинт, что в горах пастухи попирают ногами,
И – помятый – к земле цветок пурпуровый никнет…
(Сапфо. фр. 105с Lobel-Page)
Что-то скорбное есть в этом образе. Переход девушки к супружеской жизни обретает какие-то неожиданно грязные обертоны: «попирают ногами», да еще «пастухи», и т. д. Но это ведь тоже традиционно. Во всех архаичных обществах свадьба – не только день радости, но и день скорби (не случайно ведь в ходе свадебных обрядов поют не только веселые, но и грустные песни, так было, например, и в русской деревне до относительно недавнего времени). День скорби – особенно для невесты и ее родителей. С последними понятно: дочь, с которой сроднились сердцем, которая взросла и вскормлена была в отеческом доме, теперь его покидает.
Но ведь и для невесты вступление в брак – тоже очень сложный, напряженный этап. Мы уж даже не говорим о моментах, так сказать, чисто физиологических, хотя и они не могли не играть своей роли: в семьях эллинских граждан дочерей чрезвычайно берегли, без присмотра на улицу не отпускали, и они просто обязаны были выходить замуж девственницами, иначе грознейший скандал был просто неминуем. Для невесты, таким образом, свадьба – это не только расставание с родительской семьей, но и расставание с невинностью. Кстати, Сапфо не была бы самою собой, если бы не отразила и этот аспект ситуации:
«Невинность моя, невинность моя,
Куда от меня уходишь?»
«Теперь никогда, теперь никогда
К тебе не вернусь обратно!»
(Сапфо. фр. 114 Lobel-Page)
Эти строки – тоже из девятой книги сборника лесбосской поэтессы. Но утрата девственности, нужно полагать, воспринималась не столь уж и тяжело: все-таки это вещь неизбежная для женщины, которая не обрекла себя с юности на судьбу монахини (да в античной Греции и монахинь-то не было). Гораздо страшнее, думаем, была мысль о полной смене жизненной обстановки. Вместо тех, с кем до сих пор приходилось коротать день за днем, – матери, служанок, подруг по девичьему фиасу (в числе которых, конечно, и сама наставница – ласковая, нежная Сапфо), – вдруг главное место во всей дальнейшей судьбе займет почти незнакомый мужчина, который притом еще и старше раза в два…
Жених – что-то влекущее, но и пугающее, страшное. Он на подсознательном уровне представляется трепещущей новобрачной неким огромным, сверхчеловеческим существом. Вполне закономерно, что именно в своих эпиталамиях Сапфо нередко прибегает к гиперболизации. Причем тогда, когда описывает лиц мужского пола.
Выше нам уже встретился (Сапфо, фр. 111 Lobel-Page) «жених, подобный Арею, выше самых высоких мужей»: чтобы он вошел в комнату, приходится приказать плотникам поднять потолок. Вот еще один фрагмент из эпиталамия:
В семь сажен у привратника ноги,
На ступнях пятерные подошвы,
В двадцать рук их башмачники шили.
(Сапфо. фр. 110 Lobel-Page)
Имеется в виду, несомненно, привратник в доме жениха, куда привозят молодую[154]. Кстати, во фрагментах такого рода даже сам язык Сапфо становится каким-то более просторечным, даже более грубым, чем обычно. Это не ускользнуло от внимания уже античных литературоведов. Вот что пишет один из них:
«Когда Сапфо поет о прекрасном, то и сами стихи ее исполнены красоты и прелести. Так, она поет и о любви, и о весне, и о ласточке, и всякое красивое слово вплетает в ткань своей поэзии, а некоторые из них придумывает сама. По-другому она высмеивает неуклюжего жениха или привратника на свадьбе. Здесь язык настолько обыденный и пригодный более для прозы, чем для поэзии, что эти ее стихи лучше читать, а не петь – их не приспособишь к хору или к лире» (Деметрий. О стиле. 166–167).
Тут всё верно подмечено. У нас, грешным делом, даже закрадывается подозрение, что поэтесса хочет запугать своих учениц, внушить им, что со вступлением в брак они попадут в какой-то мир чудищ, где жених напоминает ненавистного бога войны Ареса-человекоубийцу, а у привратника его (то есть у слуги, мимо которого каждый день придется проходить) – не более и не менее как семисаженные ноги. Просто циклоп какой-то!
Какова же может быть цель подобных запугиваний? Дескать, выйдешь замуж – вещает отроковице руководительница фиаса – и будет тебе одно несчастье. Уж не ревность ли это, не нежелание ли отдавать своих учениц в «чужие руки»? Вполне можно допустить.
ПЕСНИ ЛЮБВИ
Теперь мы уже говорим не столько о Сапфо-человеке, сколько о Сапфо-авторе. Собственно, это и оправданно: ведь наша героиня вошла в историю мировой культуры именно как автор. Если бы она не писала стихов – кто бы и почему бы теперь помнил о женщине с Лесбоса, возглавлявшей фиас, имевшей подруг и учениц, вышедшей замуж, родившей дочь? Таких было множество… И в общем-то не случайна скудость биографических сведений о ней, которые приходится собирать буквально по клочкам и обрывкам. Поэт, повторим снова и снова, живет в своих творениях, а не в чем-либо ином, и не имеют особого значения те или иные связанные с ним бытовые перипетии, которые могут быть и неинтересными, и даже неприглядными. Прекрасно сказал об этом Пушкин:
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он…
Поэтому увлеченно разбирать те или иные детали личной жизни «служителей Аполлона» – как пресловутый «донжуанский список» того же Пушкина, или, допустим, отношения Лермонтова с его будущим убийцей Мартыновым, или алкогольную зависимость Блока, или эпилепсию и «игроманию» Достоевского – это всё равно что копаться в чужом белье, да к тому же еще и грязном. Занятие вроде бы малоприятное – и тем не менее всегда находятся любители ему предаться.
И находились они, сколько можно судить, всегда. Напомним: значительную часть статьи о Сапфо в словаре «Суда» занимает следующая, с позволения сказать, «информация»: «А приятельниц и подруг у нее было три: Аттида, Телесиппа, Мегара, из-за которых ее и упрекали в постыдной дружбе. Ученицы же ее – Анагора-милетянка, Гонгила-колофонянка, Евника-саламинянка». Уж лучше бы поподробнее рассказали о ее стихах! Тем более что ценность подобного сообщения по большому счету близка к нулевой: ведь ясно же, что и подруг, и учениц у митиленской поэтессы на самом деле было гораздо больше.
Может быть, стоит даже и порадоваться, что от Сапфо почти не осталось этого самого «грязного белья» и в результате мы теперь волей-неволей обречены рассуждать о темах ее поэзии, а не о связях с какими-нибудь Телесиппой или Анагорой. Итак, обращаемся к этим темам. Вряд ли кто-нибудь усомнится, что главной, безусловно преобладающей среди них являлась любовь.
Из предыдущего изложения нам известно, что в мире чувств, характерном для античных эллинов, существовали, так сказать, различные виды любви, выделялись отдельные ее оттенки, которые даже по своим названиям не совпадали. Какую же любовь поет Сапфо?
Это, конечно, прежде всего любовь-эрос[155]: любовь как страстное влечение, чувство очень интенсивное. Никто, наверное, не сказал о нем лучше, чем сама Сапфо:
Эрос вновь меня мучит истомчивый —
Горько-сладостный, необоримый змей.
(Сапфо. фр. 130 Lobel-Page)
В этих строках, представляющих собой подлинный шедевр, поэтесса одной из первых в мировой литературе прибегла к такой характерной стилистической фигуре, как оксиморон (оксюморон). Данным термином в филологии обозначают сочетание противоположных по значению слов. Оксимороны в дальнейшем часто использовались самыми различными писателями. Если приводить примеры из русской словесности, то можно вспомнить, скажем, название драмы Льва Толстого «Живой труп» или известное выражение из «Скифов» Блока: «жар холодных числ».
А Сапфо употребила фигуру оксиморона как эпитет для слова «эрос». И ведь как хорошо получилось! Горько-сладостная любовь… Точнее, пожалуй, и невозможно описать ту эмоцию, которая здесь имеется в виду и которая преобладает в творчестве нашей героини.
В оригинале, строго говоря, употреблено прилагательное-неологизм (то есть изобретение автора) «сладкогорький» (glykypikros) – в одно слово, без дефиса, и с иным порядком элементов по сравнению с тем, который предлагают переводчики. И так, думается, точнее. Поэзия – не математика, и в ней бывают случаи, когда от перемены мест слагаемых сумма меняется. Любовь все-таки вначале, как правило, бывает сладкой, а потом уже может стать горькой.
Или вот еще один образ из Сапфо, связанный с тем же чувством:
Словно ветер, с горы на дубы налетающий,
Эрос душу потряс мне…
(Сапфо. фр. 47 Lobel-Page)
Здесь изображается могучая, необоримая, даже грозная сила, которой противиться человек не властен. Она изменяет его – и, что интересно, не только его самого, но также того (или ту), в кого он влюблен. Во всяком случае, в глазах влюбленного предмет его страсти сказочно преображается, становится гиперболизированно прекрасным.
Стоит лишь взглянуть на тебя – такую
Кто же станет сравнивать с Гермионой!
Нет, тебя с Еленой сравнить не стыдно
Золотокудрой,
Если можно смертных равнять с богиней;
Знай, едва твою красоту увижу,
Как из сердца тотчас бегут заботы…
(Сапфо. фр. 23 Lobel-Page)
Здесь, обращаясь к какой-то из своих подруг, поэтесса не скупится на восхваляющие эпитеты самого высокого свойства. Красивейшей из всех когда-либо живших женщин античные греки традиционно считали Елену (потому и имя ее всегда сопровождали эпитетом: Елена Прекрасная) – героиню всем знакомых легенд, жену спартанского царя Менелая, похищенную Парисом, что, согласно мифологической традиции, и стало поводом к Троянской войне. В Спарте Елена впоследствии даже почиталась как богиня; потому и в процитированном стихотворении она именно так названа.
А Гермиона, которую тут тоже упоминает Сапфо, была дочерью Елены и Менелая. Она тоже слыла отнюдь не уродливой; но, конечно, с матерью ее не равняли: кого же можно уподобить идеалу красоты?! Так что здесь поэтесса стоит на подчеркнуто максималистских позициях: уж если я кого люблю – то она для меня даже не Гермиона, а сама Елена, не более и не менее.
Нам думается, в аналогичном смысле следует понимать и вот какой фрагмент:
Близ луны прекрасной тускнеют звезды,
Покрывалом лик лучезарный кроют,
Чтоб она одна всей земле светила
Полною славой.
(Сапфо. фр. 34 Lobel-Page)
На первый взгляд перед нами просто очередная пейзажная зарисовка. На деле, однако, это оказывается не вполне так. Приходится учитывать общую семантику образа луны у Сапфо. Нам подобный образ уже встречался, например, в одном из стихотворений, посвященных Аттиде (она там тоже косвенно сравнивалась с луной).
Для Сапфо это светило, особенно когда оно упоминается в связи со звездами (как и здесь), – метафора для обозначения девушки или женщины, не просто первенствующей, а абсолютно первенствующей по красоте среди всех прочих. Ну, действительно, как можно сравнить луну даже с самой яркой из звезд? Ясно, что подобное сопоставление выйдет никак не в пользу последних. Селена (луна) на ночном небе – как Елена в мире «смертных жен». Кстати, надо полагать, само созвучие (Селена – Елена) вряд ли могло ускользнуть от чуткого слуха митиленской поэтессы.
Процитируем теперь стихи Сапфо, посвященные Гонгиле. Эта девушка упоминается даже в словаре «Суда» в качестве, видимо, одной из самых любимых учениц нашей героини. Последняя, судя по всему, и вправду как-то выделяла ее среди других. Хотя, строго говоря, она всегда или почти всегда обращается к каждой из своих подруг как к «самой-самой» возлюбленной.
Я к тебе взываю, Гонгила, – выйди
К нам в молочно-белой своей одежде!
Ты в ней так прекрасна. Любовь порхает
Вновь над тобою.
Всех, кто в этом платье тебя увидит,
Ты в восторг приводишь. И я так рада!
Ведь самой глядеть на тебя завидно
Кипророжденной…
К ней молюсь я…
(Сапфо. фр. 22 Lobel-Page)
Фрагмент, как часто бывает, обрывается чуть ли не на полуслове. Упоминаемая здесь «Кипророжденная» – это, само собой, божественная «патронесса» нашей героини, Афродита. Но не о таких деталях хотелось бы здесь говорить, а о том искреннем, неподдельном восхищении, которым проникнуты процитированные строки.
А вот еще из опыта общения Сапфо с Гонгилой:
…Мне Гонгила сказала:
«Быть не может!
Иль виденье тебе
Предстало свыше?»
«Да, – ответила я, – Гермес —
Бог спустился ко мне во сне.
К нему я:
“О владыка, – взмолилась, —
Погибаю.
Но, клянусь, не желала я
Никогда преизбытка
Благ и счастья,
Смерти страстным томленьем
Я объята.
Жаждой – берег росистый, весь
В бледных лотосах, видеть
Ахеронта,
В мир подземный сойти,
В дома Аида”».
(Сапфо. фр. 95 Lobel-Page)
Трудно не заметить резкого изменения тональности. Где восхищение, где восторг? Совсем иные, унылые и пессимистические чувства преобладают здесь. Любовь как бы поворачивается к любящему своей обратной стороной.
Или, выразимся иначе, любовь-страсть, любовь-эрос перерождается в любовь-тоску, любовь-потос. Про этот самый потос выше уже тоже упоминалось. Это, пожалуй, самое интенсивное, самое напряженное из всех любовных чувств, доступных эллинам. Это чувство, в сущности, горькое. Вспомним недавно встретившийся нам оксиморон: любовь «сладко-горькая». Так вот, потос – то самое горькое послевкусие сладкой любви.
Наступить оно может по разным причинам. Например, в результате смерти возлюбленного.
Киферея, как быть?
Умер – увы! —
Нежный Адонис!
«Бейте, девушки, в грудь,
Платья свои
Рвите на части!»
(Сапфо. фр. 140а Lobel-Page)
Этот фрагмент Сапфо в своем роде парадигматичен. Страданиям божеств как не послужить образцом для страданий людей? Адонис, согласно мифам, был прекрасным юношей, которого полюбила Афродита[156] (тут поэтесса называет ее не «Кипридой», а «Кифереей», потому что покровительницу любовных утех почитали специально учрежденным культом не только в городах Кипра, но также и на Кифере – острове у юго-восточного побережья Греции). Он погиб на охоте, и богиня глубоко скорбела.
Собственно, «глубоко скорбела» в данном случае будет не самым подходящим выражением, каким-то уж очень шаблонным, «затасканным» и не передающим весь трагизм ситуации. Богиня любви, до того (подчеркнем, мы говорим о мифологии) запросто отдававшаяся многочисленным лицам мужского пола – как богам (например, богу войны Аресу), так и смертным (как троянцу Анхису, которого она в память о совокуплении пожизненно парализовала, но зато родила ему сына Энея, родоначальника римлян – даже и великий Юлий Цезарь приказывал чтить себя именно как потомка Венеры-Афродиты), впервые в жизни по-настоящему полюбила. И тут вдруг предмет ее страсти самым нелепым образом погибает, пронзенный, кажется, кабаньим клыком. И Афродита неустанно его оплакивает.
Но смерть – не единственная ситуация, которая может превратить «сладкую» любовь в «горькую». Возможна, например, и измена, в результате которой рождается ревность. Неоднократно уже нами упоминалась Аттида – еще одна из учениц и ближайших подруг нашей героини. Как минимум один фрагмент Сапфо, адресованный ей, несет в себе упрек:
Ты ж, Аттида, и вспомнить не думаешь
Обо мне. К Андромеде стремишься ты.
(Сапфо. фр. 131 Lobel-Page)
В данном случае Андромеда – явно не мифологическая героиня, спасенная Тесеем. Это, конечно же, имя другой девушки из круга митиленской поэтессы. Скорее всего, именно она имеется в виду и в следующих двух отрывках, связанных друг с другом (потому издатели обычно и объединяют их в один фрагмент – как происходящие из одного и того же стихотворения). Правда, они очень кратки – всего лишь по строчке каждый – и довольно невнятны:
Достойный дар Андромеде был наградой…
Зачем, Сапфо, благодатную Киприду…
(Сапфо. фр. 133а – b Lobel-Page)
Можно, думается, примерно домыслить, о чем в произведении шла речь дальше. Говорилось что-нибудь в духе «…ты прогневила» или «…ты упрекаешь». Иными словами, Сапфо хочет бороться со своей ревностью, понимает, что чувство это – безблагодатное, что не угодно оно Афродите. Но ничего не может с собой поделать:
…Обо мне забыла
Или полюбила кого на свете
Больше, чем меня…
(Сапфо. фр. 129 Lobel-Page)
Эти сетования, похоже, из того же цикла, хотя к кому именно они обращены – опять к Аттиде или к какой-нибудь другой женщине, – определить невозможно.
Как бы то ни было, прекрасно видно, кто в каждом случае выступает для Сапфо в роли предмета ее «сладко-горькой» любви – ее эроса и ее потоса. Это те, кого она учит, о ком говорит, обращаясь в одном из гимнов к богине Гере:
…Так и я тебя умоляю: дай мне
Вновь, как бывало,
Чистое мое и святое дело
С девственницами Митилен продолжить,
Песням их учить и красивым пляскам
В дни твоих празднеств.
(Сапфо. фр. 17 Lobel-Page)
Но так или иначе, рано или поздно (чаще рано, чем поздно), эти девственницы вступали в мир замужней, семейной жизни, покровительницей которого как раз считалась Гера. И провожала их в этот мир опять же их наставница и старшая подруга – наша героиня. Провожала с печалью, но, конечно, понимая, что для самих девушек это один из радостных и главных дней жизни.
БРАК И СЕМЬЯ
И потому-то она сочиняла для своих любимиц свадебные песни в основном в очень мажорном духе. Из них позже александрийские филологи составили последнюю, девятую книгу сборника произведений Сапфо, и кое-какие стихи, входившие в эту книгу, выше уже цитировались. Но не обойтись без знакомства и с некоторыми другими. Вот, например, чрезвычайно показательный отрывок:
…А в ту пору девочкою была ты.
Заведем же песню теперь, подруги,
Общей чередой, чтобы в ней звучали
Радость и милость.
Путь наш – в брачный дом: не тебе ли ведать
Это лучше всех? Отпусти, простившись,
Девушек-подруг, и да будут боги
К нам благосклонны.
Ибо нет путей к олимпийским высям
Для земных людей…
(Сапфо. фр. 27 Lobel-Page)
Вот опять (и уже далеко не в первый раз) мы сталкиваемся со стихотворением, вдруг обрывающимся на полуфразе и едва ли не на полуслове. Но и опять же можно приблизительно догадываться, о чем дальше говорила поэтесса: людям не дана вечная жизнь, как богам, однако у них есть свой способ приблизиться к бессмертию – через продолжение рода, а оно возможно только посредством вступления в законный брак.
Только что приведенный фрагмент интересен прежде всего тем, что в нем предельно рельефно обрисован переход, смена статуса. Собственно, и сам этот отрывок имеет какой-то переходный характер между песнями, обращенными к подругам-ученицам, и эпиталамиями.
Обряды перехода[157], называемые иначе инициациями, занимали исключительно важное место в жизни архаичных, традиционных социумов. Собственно, даже и в наших современных обществах сохранились пережитки этих древних ритуалов. Или по крайней мере сохранялись до совсем недавнего времени. Те из нас, кто еще застал советскую эпоху, прекрасно помнят: вся жизнь школьника (то есть ребенка, постепенно превращающегося в подростка и затем в юношу/девушку) членилась на несколько этапов. Вначале принимали в октябрята, потом – в пионеры, потом – в комсомольцы… И каждый такой переход был обязательно сопряжен со строго обязательными действиями (скажем, для пионера – с торжественным завязыванием галстука на школьной линейке), то есть, по сути дела, с теми же обрядами, ритуалами.
Правда, у древних греков ввиду подчеркнуто маскулинного характера их полисного общества переходная, инициационная обрядность в основном касалась лиц мужского пола. Так, в 18 лет юноша становился совершеннолетним; в Афинах в этом возрасте он зачислялся в группу так называемых эфебов. Эфебы[158] на протяжении двух лет (то есть до двадцати) проходили военную подготовку под руководством специально назначенных наставников и попутно охраняли границы государства.
Еще одним очень важным рубежом считался семилетний. Не случайно поэт-мудрец Солон, современник Сапфо, написал однажды стихотворение (оно полностью было приведено выше), в котором разделил всю жизнь человека (точнее, как мы уже тогда подчеркивали, жизнь мужчины) на семилетние отрезки, «седмицы».
Вне всякого сомнения, семилетний возраст обладал особой значимостью для мальчика, в числе прочего, еще и потому, что он означал – пора идти в школу! В этот момент родители приставляли к ребенку специального раба – педагога, который отводил его на уроки, там присматривал за ним, а потом приводил обратно домой. Кстати, вот ведь как меняются значения слов! Для нас ныне слова «педагог» и «учитель» – синонимы. Отнюдь не так было у эллинов. В их понимании учитель – это действительно учитель, то есть тот, кто учит, дает знания. А педагог (в дословном переводе – «тот, кто ведет мальчика») – это всего лишь слуга. «Дядька», как говорили у нас во времена крепостного права. Все ведь читали «Капитанскую дочку»? Так, стало быть, все и помнят, что у Петеньки Гринева – главного героя этой повести Пушкина – были и учитель-гувернер (естественно, француз), и верный дядька Савельич, оставшийся при своем подопечном даже и тогда, когда тот уже вполне вышел из «нежного» возраста.
Государственной системы образования в древнегреческих полисах не было. Школы были частными, обучение в них – платным. Но из-за сильной конкуренции, имевшей место ввиду большого количества школ, плата была довольно низкой, и практически каждый гражданин мог позволить себе дать детям образование.
Классы в эллинских школах были небольшими (именно потому, что самих школ было много). Подчас в классе сидело всего лишь несколько учащихся разных возрастов, и с ними занимался один преподаватель – он же и «директор» (точнее, хозяин) школы. В заведениях покрупнее с учениками работали три учителя. Грамматик обучал чтению, письму и арифметике. Дети писали палочками на покрытых воском дощечках, считали на счетах из камешков, а также заучивали отрывки из произведений Гомера и других великих поэтов. Кифаред обучал музыке, игре на лире и флейте, танцам, да и в целом «хорошим манерам». Наконец, педотриб был наставником в области физической культуры. Образование имело ярко выраженную гуманитарную направленность. Его главной целью было воспитание из ребенка достойного гражданина своего отечества, всесторонне развитой личности, культурного, образованного человека.







![Книга Мелика [Вокальная лирика] автора Сапфо](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-melika-vokalnaya-lirika-191797.jpg)
