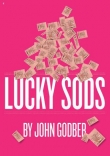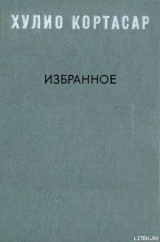
Текст книги "Выигрыши"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
XVIII
Рауль зажег свет в изголовье постели и потушил спичку, с помощью которой отыскал выключатель. Паула спала, повернувшись к нему лицом. В слабом свете ночника ее рыжеватые волосы казались пятном крови на подушке.
«Какая она красивая, – подумал он, медленно раздеваясь. – Как разглаживается ее лицо, исчезают эти печальные морщинки у насупленного переносья, которые остаются, даже когда она смеется. А рот ее теперь похож на уста ангела Боттичелли, такие юные, такие непорочные…». Он насмешливо улыбнулся. «Thou still unravish'd bride of quietness» [34]34
«Нетронутой невестой тишины» (англ). – Первая строка из «Оды греческой вазе» Джона Китса.
[Закрыть] Ravish'd, и archirayish'd [35]35
Тронутая, и неоднократно (англ.).
[Закрыть], бедняжка». Бедняжка Паула, слишком быстро наказанная за свою несуразную строптивость в этом Буэнос-Айресе, где она могла найти лишь таких типов, как Блондинчик, ее первый любовник (если только он был первым; да, конечно, первый – Паула не станет ему лгать), или как Лучо Нейра, ее последний, не считая всех Иксов и Игреков, парней с пляжа, и приключений в конце недели или на задних сиденьях какого-нибудь «меркури» или «де Сото». Надев голубую пижаму, он босиком подошел к пей; вид спящей Паулы немного волновал его, хотя он не впервые видел ее в постели, по теперь Паула и он вступили в некий интимный и почти тайный союз, который, быть может, продлится недели или даже месяцы, и поэтому доверчиво спящая рядом с ним Паула немного его умиляла. В последние месяцы было просто невыносимо терпеть ее постоянные горести, телефонные звонки в три часа ночи, страсть к пилюлям и бесцельным блужданиям, навязчивые мысли о самоубийстве, непрестанные угрозы («приходи немедленно, не то я выброшусь из окна»), ее вспышки радости по поводу удачного стихотворения и безутешные рыдания, от которых страдали его галстуки и пиджаки. Ночью она вдруг врывалась к нему, вызывая его на грубость и оскорбления, ибо он уже устал упрашивать, чтобы она предупреждала по телефону о своих визитах, все осматривала и спрашивала: «Ты один?» – словно боялась, что кто-то прячется под софой или под кроватью, а затем следовал внезапный смех или плач, бесконечные излияния, вперемежку с виски и сигаретами. И еще успевала делать замечания, раздражавшие его своей справедливостью: «И кому пришло в голову повесить здесь эту гадость?», «Разве ты не замечаешь, что эта ваза па полочке лишняя?» – или вдруг начинала проповедовать мораль, свой абсурдный катехизис, говорить о ненависти к друзьям, о своем вмешательстве в историю с Бето Ласьервой, которое, возможно, объясняет грубый разрыв и его бегство. И все же Паула была восхитительна, верная и любимая подруга по бурным ночам, политическим стычкам в университете, разделяющая его литературные пристрастия. Бедная маленькая Паула, дочь политического касика, отпрыск заносчивой и деспотичной семьи, верная как собачонка первому причастию, школе монахинь, приходскому священнику и своему дядюшке, «Ла Насьон» и театру «Колумб» (ее сестра Кока непременно сказала бы «имени „Колумба“), и вдруг прыжок в объятия улицы – абсурдный и непоправимый шаг, навсегда и напрочь оторвавший ее от семейства Лавалье, начало жалкого падения. Бедная Паулита, как она могла быть такой глупой в столь решительную минуту. В остальном же (Рауль смотрел на нее, покачивая головой) ее решения никогда не были радикальными. Паула все еще ела хлеб семейства Лавалье, патрицианского семейства, способного предать забвению скандал и оплачивать приличную квартиру паршивой овечке. Еще одна причина для нервных припадков, мятежных порывов, планов вступить в Красный Крест или уехать за границу; все это обсуждалось в шикарной столовой или в спальне, в квартире со всеми удобствами и мусоропроводом. Бедняжка Паулита. Было так приятно видеть ее безмятежно спящей („а может, это люминал или нембутал?“ – подумал Рауль) и сознавать, что она пробудет в таком состоянии всю ночь рядом с ним, и вот он уже снова ложится в свою постель, гасит свет и закуривает сигарету, пряча спичку в ладонях.
В каюте № 5 по левому борту сеньор Tpexo храпит точно так же, как в супружеской постели у себя дома на улице Акойте. Фелипе все еще не ложится, хотя едва держится на ногах от усталости; он принял душ и теперь рассматривает в зеркале свой подбородок, где пробивается пушок, тщательно причесывается, испытывая удовольствие видеть себя, чувствовать себя вовлеченным в настоящее приключение. Он входит в каюту, надевает хлопчатобумажную пижаму и разваливается в кресле, закуривает сигарету «Кемел» и, направив свет лампы на номер «Эль Графико», лениво его перелистывает. Хорошо бы старик не храпел, но это значит требовать невозможного. Он никак не хочет мириться с мыслью, что ему не досталась отдельная каюта; а вдруг случайно наклюнется что-нибудь, как тогда быть? Вот если б старик спал в другом место. Он лениво вспоминает фильмы и романы, где пассажиры переживают захватывающие любовные драмы в своих каютах. «Зачем только я их пригласил с собой», – твердит про себя Фелипе и думает о Негрите, которая, наверное, сейчас раздевается в своей спаленке на верхотуре, окруженная радиотележурнальчиками и открытками с изображением Джеймса Дина и Анхела Маганьи. Листая «Эль Графико», он рассматривает фотографии боксерского матча, воображает себя победителем международной встречи, раздающим автографы, нокаутировавшим чемпиона. «Завтра будем уже далеко», – резко обрывает он свои мысли и зевает. Кресло преотличное, но сигарета уже обжигает пальцы, и ему все сильней хочется спать. Он гасит свет, зажигает ночничок над изголовьем и скользит в постель, наслаждаясь каждым сантиметром Простыней, упругим и мягким матрацем. Ему приходит на ум, что Рауль тоже, наверное, сейчас укладывается спать, выкурив напоследок трубку, но вместо противно храпящего старика в его каюте эта классная рыжуха. Он обнял ее, и оба они, конечно, голые, наслаждаются. Для Фелипе слово «наслаждаться» заключает в себе все, что только можно придумать в часы одиночества, почерпнуть из романов и откровенных разговоров со школьными приятелями. Погасив ночник, он медленно поворачивается на бок и простирает руки, чтобы обнять в темноте Негриту, рыжую красавицу – некий образ, в котором также угадываются черты младшей сестры одного его друга и его собственной кузины Лолиты, целый калейдоскоп женских тел, которые он нежно ласкает, пока его руки не натыкаются на подушку, обхватывают ее, выдергивают из-под головы, прижимают к телу, разгоряченному, содрогающемуся, а рот впивается в бесчувственную тепловатую материю. Наслаждаться, наслаждаться, и, не помня себя, он сдергивает пижаму и, обнаженный, снова обхватывает подушку, вытягивается и ничком падает на постель, извиваясь, причиняя себе боль и не получая никакого наслаждения.
– Итак, – сказал Карлос Лопес, гася свет, – несмотря на все мои страхи, эта водяная феерия все-таки началась.
Его сигарета прочертила замысловатую кривую, и в белесом свете обрисовался круглый иллюминатор. Как хорошо в постели; нежное покачивание навевает безмятежный сон. Однако, прежде чем заснуть, Лопес думает о том, как приятно было встретить среди пассажиров Медрано, об истории дона Гало, о рыжей подруге Косты, о возмутительном поведении инспектора. Потом снова вспоминает о своем коротком визите в каюту Рауля, о колкостях, которыми он обменялся с зеленоглазой девушкой. Ну и подружку подцепил себе этот Коста. Если бы он сам не увидел… Но он видел, и тут нет ничего удивительного: мужчина и женщина занимают вместе каюту № 10. Любопытно, если бы он встретил ее у Медрано, например, это показалось бы ему совершенно естественным. Но Коста?! А собственно, почему? Глупо, конечно, но он и сам не знал. Ему припомнилось, что Костальс де Монтерлант вначале звался просто Коста; вспомнил он и некоего Косту, своего давнего однокашника по колледжу. Почему его мысли все время вертятся вокруг этого? Тут что-то неладно. Голос Паулы, когда она разговаривала с ним, тоже как-то не вязался с обстановкой. Конечно, есть женщины, которые ничего не могут поделать со своим характером. И этот Коста, улыбающийся в дверях каюты. Такие оба симпатичные. И такие разные. Вот где зарыта собака! Они совсем не подходят друг к другу. Между ними не чувствовалось никакой связи, ни малейшей мимикрии, любовной или дружеской игры, когда даже явные противоположности связаны чем-то общим.
– Я строю иллюзии, – произнес вслух Лопес. – Но так или иначе, они будут отличными попутчиками. И кто знает, кто знает…
Окурок порхнул, точно птичка, и затерялся в волнах реки.
D
Тайком, немного, напуганный, но возбужденный и неудержимый, ровно в полночь в темноте носовой палубы появляется Персио, готовый бодрствовать. Прекрасное южное небо привлекает его на время, он поднимает лысую голову и рассматривает сверкающие гроздья, однако Персио жаждет установить и упрочить контакт с кораблем, на котором он плывет, вот почему, дождавшись, когда сон успокоит всех пассажиров, он устанавливает ревностное наблюдение, призванное соединить его с флюидами ночи. Стоя рядом с вызывающе гордой грудой каната (обычно на пароходах не бывает змей), чувствуя на лбу сырой воздух лугов, Персио тихо сличает все мнения и суждения, услышанные, им, начиная с «Лондона», составляет подробную номенклатуру, где гетерогенность трех бандонеонов и прохладительного напитка с «чинзано», носовая переборка корабля и маслянисто покачивающийся в темноте радар постепенно превращаются для него в некую геометрическую закономерность, медленно проясняющую ситуацию, в которой он оказался вместе с остальными пассажирами. Персио не склонен к ограничительным определениям, и тем не менее им владеет постоянная страсть к окружающим его обыденным проблемам. Он уверен, что закон едва уловимой аналогии правит и карманным хаосом, где певец провожает своего брата, а кресло-каталка кончается хромированной рукоятью; это подобно слепой уверенности в том, что существует центральная точка, откуда диссонанты можно увидеть, как спицы в колесе. Но Персио не настолько наивен, чтобы не знать, что разрушение феномена должно предшествовать всякой архитектонической попытке, и все же он любит бесконечный калейдоскоп жизни, с удовольствием и наслаждением носит новенькие домашние туфли фирмы «Пирелли», растроганно слушает скрип шпангоутов и легкий плеск волн о борт судна. Не в силах отвергнуть конкретное, дабы наконец утвердиться в измерении, где вещи становятся явлениями и чувственное восприятие уступает место упоительному совпадению вибрации и напряжения, он выбирает жалкий труд астролога, традиционное движение в сфере герметического образа, таро [36]36
Особый вид игральных карт (франц.).
[Закрыть] и благоприятного слепого случая. Персио верит в некий дух, подобный джинну, выпущенному из бутылки, который помогает ему ориентироваться в клубке событий и фактов, и, уподобившись носу «Малькольма», разрезающему реку, ночь и время, он спокойно продвигается вперед в своих размышлениях, которые отвергают все тривиальное – например, инспектора или странные запреты, существующие на судне, – чтобы сосредоточиться на том, что подчинено высшей связи. Вот уже некоторое время его глаза изучают капитанский мостик, останавливаются на большом иллюминаторе, пропускающем фиолетовый свет. Кто бы ни вел корабль, он должен находиться в глубине освещенной рубки, вдали от стекол, которые поблескивают в легком речном тумане. Персио чувствует, как в нем постепенно растет ужас, ему мерещатся зловещие барки без рулевых, недавно прочитанные страницы навевают видения, в которых мрачные северо-восточные районы (и грозный Тукулька с зеленым жезлом-кадуцеем в руках) мешаются с Артуром Гордоном Пимом, ладьей Эйрика, подземным озером Оперы, – ну и мешанина! И в то же время Персио страшится, сам не зная почему, того момента, когда в иллюминаторе появится силуэт капитана. До сих пор события развертывались, напоминая приятный бред, отчетливый и понятный, накрепко соединяющий разрозненные элементы; но что-то говорит ему (и это что-то вполне могло быть подсознательным объяснением случившегося), что в течение ночи будет установлен некий порядок, некая тревожная причинность, которая возникает и исчезает вместе с краеугольным камнем, а он с минуты на минуту будет заложен на вершине свода. И Персио дрожит и отступает как раз в тот момент, когда на капитанском мостике вырисовывается силуэт – темный торс, неподвижный и прямой, у самого стекла. В вышине медленно вращаются планеты; стоило появиться капитану, и корабль меняет курс, и вот уже грот-мачта перестает ласкать Сириус, склоняется к Малой Медведице, колет и подстегивает ее, пока не отгоняет в сторону. «У нас есть капитан, – думает Персио, вздрагивая, – есть капитан». И словно в хаосе быстрых и бурлящих, как кровь, мыслей, медленно зарождается закон, матерь будущего, закон, начало неумолимого пути.
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
XIX
Ночная деятельность Атилио Пресутти завершилась переселением: с помощью хмурого, неразговорчивого стюарда он вынес из своей каюты вторую постель и перенес ее в соседнюю, которую занимали Неллина мать и сама Нелли. Из-за размеров и формы каюты разместиться в пей оказалось не так-то просто, и донья Росита несколько раз предлагала оставить все по-прежнему и вернуться в каюту сына, но Пушок, схватившись за голову, твердил, что в конце концов три женщины вместе – это совсем не то, что мать с сыном, и что в его каюте нет ни ширм, ни перегородок. Наконец удалось запихнуть кровать между дверью в ванную и входом в каюту, и Пушок появился вновь, неся ящик с персиками, который подарил ему Русито. Хотя все сильно проголодались, никто не решился позвонить и заказать ужин; поели персиков, и Неллина мать достала бутыль с вишневым напитком и шоколад. Умиротворенный Пушок возвратился в свою каюту и завалился спать.
Когда он проснулся, было семь часов; подернутое дымкой солнце светило в иллюминатор. Сев в кровати и почесываясь через майку, Пушок при дневном свете оценил роскошное убранство и размеры своей каюты. «Как здорово, что моя старуха женщина и должна спать вместе с себе подобными», – с удовольствием подумал он, радуясь независимости и весу, которые придавали ему личные апартаменты. Каюта номер четыре сеньора Атилио Пресутти. А теперь поднимемся наверх, посмотрим, что там делается! Пароход вроде стоит на месте, может, мы уже в Монтевидео? Уф! Ну и ванная, ну и сифоны, мама миа! А розовая туалетная бумага, просто грандиозно! Сегодня вече-Ром или завтра обязательно приму душ, потрясающе! А ты только погляди па этот умывальник, да он как бассейн в «Спортиво барракас», в нем можно помыть загривок, пи чуточки не забрызгавшись, а какая приятная водичка течет… Пушок энергично намылил лицо и уши, стараясь не замочить майку. Потом надел пижаму, новую, в полоску, баскетбольные кеды и, прежде чем выйти, причесался; в спешке он забыл почистить зубы, а ведь донья Росита специально купила ему новую зубную щетку.
Он прошел мимо кают правого борта. Наверняка все еще дрыхнут, он первым вышел на палубу. Но там уже прогуливался мальчуган, который путешествовал вместе с мамой, и очень дружелюбно посмотрел на пего.
– Добрый день, – сказал Хорхе. – Я вас всех опередил, видите.
– Как поживаешь, малец? – снизошёл до разговора Пушок. Он приблизился к борту и оперся о перила обеими руками.
– Черт-те что! – сказал он. – Да мы все еще торчим перед Кильмесом! [38]38
Один из районов Большого Буэнос-Айреса.
[Закрыть]
– Значит, все эти цистерны и большие железяки – это и есть Кильмес? – спросил Хорхе. – Здесь варят пиво?
– Это надо ж! – повторял Пушок. – А я-то вообразил, что мы уже в Монтевидео и что, чего доброго, можно сойти на берег и все такое прочее…
– А Кильмес, наверное, недалеко от Буэнос-Айреса, да?
– Конечно! Сел на авто и в два счета тут! Похоже, банда Японца насмехается надо мной с берега, они все отсюда… И это называется путешествие?!
Хорхе окинул его проницательным взглядом.
– Мы уже целый час как стоим на якоре, – сказал он. – Я поднялся в шесть утра, не хотелось больше спать. А знаете, здесь никогда никого не увидишь! Прошли два матроса, спешили по своим делам, но, кажется, они меня совсем не поняли, когда я с ними заговорил. Наверняка они липиды.
– Кто-кто?
– Липиды. Они такие странные, ничего не говорят. Если только они не протеиды; их так легко спутать.
Пушок посмотрел па Хорхе исподлобья и уже собирался что-то спросить, но тут на трапе показалась Нелли с матерью, обе в брюках, легких босоножках, дымчатых очках и в платочках.
– Ах, Атилио, какой дивный пароход! – сказала Нелли. – Все так блестит, прямо прелесть, а воздух, какой воздух!
– Какой воздух! – сказала донья Пена. – А вы, Атилио, оказывается, рано встаете.
Атилио подошел; Нелли подставила ему щеку для поцелуя. Вытянув руку, он показал на берег.
– Да, это место мне знакомо, – сказала Неллина мать.
– Бериссо! – сказала Нелли.
– Кильмес, – мрачно сказал Пушок. – Скажите на милость, что это за путешествие.
– А я-то думала, что мы уже в открытом море и поэтому нас совсем не качает, – сказала Неллина мать. – А может, чего доброго, у них там что-то поломалось, и надо чинить.
– А может, они собираются брать нефть, – сказала Нелли.
– Эти суда ходят на мазуте, – сказал Хорхе.
– Вот-вот, – сказала Нелли. – А этот карапуз тут совсем один? Твоя мамочка внизу, да, дорогой?
– Да, – ответил Хорхе, искоса смотря на нее. – Она считает пауков.
– Кого, кого, детка?
– Коллекцию пауков. Каждый раз, когда мы отправляемся в такие путешествия, мы берем ее с собой. Вчера вечером у пас убежало пять пауков, но, кажется, мама уже нашла троих.
Неллина мать и сама Нелли разинули рот. Хорхе пригнулся, увертываясь от полудружеского, полусердитого шлепка, которым собирался наградить его Пушок.
– Вы что, не соображаете, что он насмехается над вами? – сказал Пушок. – Давайте поднимемся наверх, посмотрим, может, нам дадут молока, у меня все кишки свело от голода.
– Кажется, завтрак на таких пароходах бывает очень обильный, – сказала Неллина мать с недовольным видом. – Я читала, что подают даже апельсиновый сок. Помнишь, доченька, тот кинофильм? Ну тот, где играла девушка… отец ее еще работал в какой-то газете, и он не позволял ей встречаться с Гарри Купером.
– Да нет, мама, это совсем не тот фильм.
– Ну разве ты не помнишь, он был цветной, и эта девушка ночью пела болеро на английском языке… Хотя, правда, в этой картине не участвовал Гарри Купер. Он был в той, где про катастрофу на железной дороге, помнишь?
– Да нет же, мама, – возражала Нелли. – И всегда ты все только путаешь.
– Там подавали фруктовые соки, – настаивала донья Пепа. Поднимаясь в бар, Нелли повисла на руке жениха; по дороге она тихим голосом спросила у него, как она нравится ему в брюках, на что Атилио отвечал сдавленным рыком, до боли сжав ей плечо.
– Подумать только, – шептал Пушок ей на ухо, – ты могла уже быть моей женой, если бы не твой папаша.
– Ах, Атилио, – сказала Нелли.
– У нас была бы каюта па двоих и все прочее.
– Ты думаешь, я сама не мучаюсь по ночам? Ну, то есть мы давно уже могли бы пожениться.
– А теперь надо ждать, пока твой старикан не наймет нам домик.
– Конечно. Ты же знаешь, какой он, мой папа.
– Как мул, – сказал Пушок уважительно. – Еще хорошо, что мы можем пробыть вместе все путешествие, поиграть в карты, а ночью выйти па палубу, видишь, вон туда, где эти связки канатов… Отличное укрытие. Ох и жрать хочется, сил нету…
– От речного воздуха очень разыгрывается аппетит, – сказала Нелли. – А как тебе нравится мама в брюках?
– Ей они здорово идут, – сказал Пушок, в жизни не видевший ничего более похожего на почтовый ящик, чем тещин зад. – Моя старуха ни за что такое не наденет, она на старый манер, да и посмей она только, старик забил бы ее до смерти. Ты же знаешь, какой он.
– У вас в семье все вспыльчивые, – сказала Нелли. – Ступай, позови свою маму и давай поднимемся в бар. Погляди, какие тут двери, какая чистота!
– Слышишь, как шебуршат в баре, – сказал Пушок. – Вроде к часу, когда подают хлеб с маслом, все сбегаются. Пошли вдвоем искать старуху, не люблю, когда ты ходишь одна.
– По, Атилио, я же не девочка.
– Тут, па пароходе, такие крокодилы водятся, – сказал Пушок. – Пойдешь со мной, и дело с концом.
XX
В баре все было готово к завтраку. Стояло шесть накрытых столиков, и, когда бармен положил на место последнюю цветную салфетку из бумаги, в зал почти одновременно вошли Лопес и доктор Рестелли. Они выбрали столик, и тут же к ним на правах старого знакомого, хотя он еще ни с кем не обмолвился и словом, присоединился дон Гало; щелкнув пальцами, он отослал своего шофера. Лопес, пораженный тем, что шофер таскал по лестницам хозяина в кресле-каталке (превращенной для этого случая в некое подобие корзины), поинтересовался, хорошо ли себя чувствует дон Гало.
– Сносно, – ответил дон Гало с сильным галисийским акцентом, который он не утратил за пятьдесят лет своей коммерческой деятельности в Аргентине. – Вот только погода слишком сырая и вчера вечером нас оставили без ужина.
Доктор Рестелли, облаченный во все белое и при головном уборе, считал, что порядок на пароходе оставляет желать лучшего, хотя некоторые обстоятельства в какой-то степени и смягчали вину устроителей.
– Полно вам, полно, – сказал дон Гало. – Порядка никакого, как всегда, когда государственная бюрократия пытается подменить частную инициативу. Будь это путешествие организовано «Экспринтером», уверяю вас, мы бы избежали немало огорчений.
Лопес забавлялся. Мастер вовлекать людей в споры, он намекнул на то, что частные агентства тоже нередко подсовывают кота в мешке и что так или иначе Туристская лотерея проводится официально.
– Разумеется, разумеется, – поддержал его доктор Рестелли. – Сеньор Порриньо, так, кажется, ваша фамилия, не должен забывать, что почетная инициатива в данном деле принадлежит нашим властям, чья прозорливость…
– Противоречие, – сухо прервал его дон Гало. – Я никогда не видел власти, которая обладала бы прозорливостью. Судите сами, в сфере торговли нет ни одного правительственного декрета, который можно было бы назвать удачным. За примерами ходить недалеко, взять хотя бы импорт тканей. Что вы можете возразить мне на это? Самая настоящая глупость. В Торговой палате, где я состою почетным председателем уже три срока подряд, я высказывал свое мнение в двух открытых письмах и докладной записке в министерство торговли. А каковы результаты, сеньоры? Никаких. Вот вам и правительство.
– Позвольте, позвольте. – Доктор Рестелли начинал петушиться, что особенно забавляло Лопеса. – Я далек от мысли защищать всякое деяние правительства, однако, будучи профессором истории, я умею сравнивать и могу заверить вас, что нынешнее правительство и вообще большинство правительств проявляют умеренность и сохраняют равновесие в отношении, не спорю, весьма достойной уважения частной инициативы, которая нередко стремится завладеть тем, что не может быть ей предоставлено без ущемления национальных интересов. И это, милостивый государь, касается не только противодействующих сил, но и политических партий, общественной морали и городского управления. Во что бы то ни стало надо избежать анархии, пусть даже в самых зародышевых формах.
Бармен начал разливать кофе с молоком. Он с большим интересом прислушивался к разговору, шевеля губами, словно повторял наиболее выдающиеся мысли.
– А мне чай и побольше лимона, – приказал дон Гало, по глядя на бармена. – Да, да, все сразу начинают толковать об анархии, а ведь совершенно ясно, что настоящая анархия – это официально существующая, прикрытая законами и уставами. Вот увидите, и это путешествие окажется отвратительным, по-настоящему отвратительным.
– Почему же тогда вы согласились поехать? – спросил словно невзначай Лопес.
Дона Гало заметно передернуло.
– Позвольте, это совершенно разные вещи. Почему я должен отказываться, если я выиграл в лотерее? К тому же недостатки выявляются всегда постепенно, на месте.
– С вашими воззрениями вы должны были заранее предвидеть все здешние недостатки, вам не кажется?
– Конечно. Ну, а вдруг случайно все получится хорошо?
– Иными словами, вы признаете, что государственная инициатива в некоторых случаях может быть удачной, – сказал доктор Рестелли. – Я лично стараюсь проявить понимание и стать на место официального лица. («Ты просто мечтаешь об этом, неудавшийся депутатик», – подумал Лопес, скорее с симпатией, чем со злорадством.) Бразды правления – это слишком серьезная вещь, мой уважаемый оппонент, и, к счастью, они находятся в надежных руках. Быть может, не совсем энергичных, но весьма благонамеренных.
– Наконец-то, – сказал дон Гало, решительно макая гренок в чай. – Вот уж и сильное правительство. Нет, сеньор, надо развивать более интенсивную торговлю, более широкое обращение капитала, благоприятные возможности для всех, разумеется в определенных рамках.
– Одно другого не исключает, – сказал доктор Рестелли. – И все же необходима власть, бдительная, с широкими полномочиями. Я сторонник и палладии демократии в Аргентине, но тот, кто путает свободу с распущенностью, находит в моем лице яростного противника.
– А кто говорит о распущенности, – сказал дон Гало. – В вопросах морали я такой же ригорист, как любой другой, черт возьми.
– Я употребил это слово в ином смысле, однако, раз вы восприняли его в обиходном значении, я рад отметить, что в данном вопросе наши взгляды совпадают.
– А также в оценке мармелада, он, кстати, очень вкусный, – сказал Лопес, которому страшно наскучил этот разговор. – Не знаю, заметили ли вы, но вот уже некоторое время мы стоим на якоре.
– Какая-нибудь поломка, – с удовлетворением сказал дон Гало. – Человек! Стакан воды!
Они вежливо приветствовали приход доньи Пепы и остальных членов семьи Аресутти, которые с красноречивыми комментариями расположились за столиком, где было больше масла в масленке. Пушок шел не торопясь, словно давая всем возможность как следует полюбоваться своей пижамой.
– Добрый день, как дела? – сказал он. – Видали, что творится. Мы торчим напротив Кильмеса, стоим на месте.
– У Кильмеса! – воскликнул доктор Рестелли. – Не может быть, юноша, наверное, это Уругвай!
– Да я узнал газгольдеры, – уверял Пушок. – Вон моя невеста не даст мне соврать. Видны дома и заводы, говорю вам, это Кильмес.
– А почему бы и нет? – сказал Лопес. – Мы предполагали, что наша первая остановка будет в Монтевидео, ну а если мы идем в другом направлении, например на юг…
– На юг? – сказал дон Гало. – А что нам там делать, на юге?
– Что делать?… Думаю, сейчас мы это узнаем. Вам известен маршрут? – спросил Лопес у бармена.
Бармен признался, что маршрута не знает. Вернее, знал до вчерашнего дня; судно должно было следовать до Ливерпуля с восемью или девятью остановками. Но затем вдруг начались какие-то переговоры с берегом, и теперь он решительно ничего не знал. Бармен прервал свои объяснения, чтобы выполнить срочный заказ: Пушок просил подлить молока в кофе, и Лопес с растерянным видом обернулся к своим сотрапезникам.
– Придется поискать какого-нибудь офицера, – сказал он. – Вероятно, у них уже есть новый маршрут.
Хорхе, который успел подружиться с Лопесом, пулей подлетел к ним.
– Сюда идут все остальные, – объявил он. – А вот матросов совсем не видно. Можно мне сесть с вами? Кофе с молоком и хлеб с мармеладом, пожалуйста. Вон идут, про которых я вам говорил.
Появились Медрано и Фелипе, не то сонные, не то чем-то Удивленные. Следом за ними поднялись Рауль и Паула. Пока все обменивались приветствиями, вошли Клаудиа и семейство Трехо. Отсутствовали лишь Лусио и Пора, не считая Персио, однако его отсутствия никто никогда не замечал. В баре шумно задвигали стульями, громко заговорили, поплыл сигаретный дым. Большинство пассажиров только теперь по-настоящему знакомились между собой. Медрано, пригласивший Клаудию за свой столик, нашел ее много моложе, чем она показалась ему прошлой ночью. Паула, несомненно, была еще моложе, но нервный тик словно налитого свинцом века настолько искажал и старил ее лицо, что сейчас она казалась ровесницей Клаудиа. Новость о том, что они стоят напротив Кильмеса, облетевшая все столики, вызвала смех и иронические замечания. Медрано с каким-то неприязненным чувством заметил, что Рауль Коста, подойдя к иллюминатору, заговорил с Фелипе, потом они уселись за столиком, где уже завтракала Паула. Лопес злорадствовал, видя явное недовольство, с каким семейство Трехо восприняло это вероломство Фелипе. Появился шофер, чтобы унести дона Гало, и Пушок бросился ему помогать. «Какой добрый малый, – подумал Лопес. – Как ему объяснить, что пижаму следует оставлять в каюте?» И он тут же тихо поделился этой мыслью с Медрано, сидевшим за соседним столиком.
– Это обычная история, че, – сказал Медрано. – Нельзя обижаться на невежество и вульгарность этих людей – ведь, по правде говоря, ни вы, ни я палец о палец не ударили, чтобы помочь им избавиться от их пороков. Мы всячески стараемся как можно меньше соприкасаться с ними, но, если обстоятельства вдруг вынуждают нас находиться вместе, мы…
– Сразу же теряемся, – добавил Лопес. – Я, во всяком случае, чувствую себя совершенно беспомощным перед такой вот пижамой, таким одеколоном и такой наивностью.
– И они это бессознательно используют, чтобы отдалить нас от себя, ибо мы тоже им мешаем. Всякий раз, когда они плюют на палубу, вместо того чтобы плюнуть в море, они словно стреляют нам в переносицу.
– Или когда включают радио на полную громкость и затем начинают кричать, чтобы услышать друг друга, по тогда они не слышат, что передает радио, п снова усиливают громкость, и так до бесконечности.
– Или когда они извлекают на свет традиционную копилку, набитую общими фразами и чужими мыслями, – сказал Медрано. – В своем роде они необыкновенны, как боксеры на ринге или гимнасты, но невозможно же постоянно путешествовать с атлетами и акробатами.
– Не впадайте в меланхолию, – сказала Клаудиа, предлатая сигареты, – и не выставляйте так поспешно свои буржуазные предрассудки. Лучше скажите, какого вы мнения о среднем звене, иными словами, о семействе учащегося? Там вы столкнетесь с более несчастными созданиями, ибо они не могут найти общего языка пи с группой рыжего, ни с нашим столиком. Они, разумеется, мечтают о контакте с нами, но мы в ужасе бросимся наутек.
Супруги Трехо и дочь вполголоса, с придыханиями и восклицаниями осуждали неуважительное поведение сына и брата. Сеньора Трехо не была расположена позволить этому сопляку воспользоваться случаем, чтобы выйти из-под родительской власти в шестнадцать с половиной лет, и если отец не поговорит с ним как следует… Но она могла быть спокойна, сеньор Трехо обещал непременно поговорить с сыном. Беба со своей стороны была истинным воплощением презрения и осуждения.