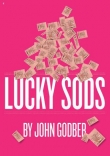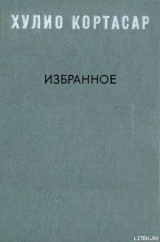
Текст книги "Выигрыши"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
XXVII
К вечеру солнечный диск стал медно-красным, подул свежий ветер, который напугал купальщиков и обратил в бегство дам, уже вполне оправившихся после морской болезни. Сеньор Трехо и доктор Рестелли подробно обсудили положение на пароходе в пришли к заключению, что все складывается удовлетворительно, лишь бы с кормы не проник тиф. Дон Гало придерживался аналогичного мнения, и, возможно, его оптимизм объяснялся тем, что три новоиспеченных друга – они уже успели достаточно сблизиться – расположились на стульях в самом конце носовой палубы, там, где воздух никак не мог быть зараженным. Когда сеньор Трехо спустился к себе в каюту, чтобы взять темные очки, он застал там Фелипе, который принимал душ, перед тем как снова натянуть свои blue-jeans. Подозревая, что он может кое-что выведать у сына о странном поведении молодых людей (от него не укрылся их заговорщический вид и внезапное исчезновение из бара), сеньор Трехо ласково расспросил его и почти сразу же узнал о вылазке в глубь парохода. Хитрый сеньор Трехо не стал донимать сына отцовскими наставлениями и запретами и, оставив его красоваться перед зеркалом, вернулся на палубу и поведал об услышанном своим новым друзьям. Вот почему, когда полчаса спустя к ним со скучающим видом приблизился Лопес, его встретили весьма сдержанно и дали понять, что на пароходе, как и в любом другом месте, следует придерживаться демократических принципов и что только чрезмерная горячность молодых людей в какой-то мере может служить им некоторым оправданием и прочее, и прочее. Всматриваясь в четкую линию горизонта, Лопес не моргнув глазом выслушал кисло-сладкое нравоучение доктора Рестелли, которого он слишком уважал, чтобы не послать его ipso facto [63]63
Тем самым (лат.)
[Закрыть] к черту. Лопес объяснил, что они ограничились лишь небольшой разведывательной прогулкой, ибо ситуация на пароходе ничуть не прояснилась после разговора со штурманом, и что, хотя их попытка провалилась, именно это еще больше убедило их в том, что страшная эпидемия тифа – совершенный вымысел.
Дон Гало, нахохлившись, точно бойцовый петух, на которого он часто походил, заявил, что только в самых разнузданных умах могут зародиться сомнения в столь ясных и четких разъяснениях штурмана. Затем он поспешил заметить, что, если Лопес со своими друзьями будет и впредь чинить помехи командованию судна и насаждать неповиновение на борту, последствия для всех пассажиров могут оказаться самыми плачевными, что и заставляет его высказать свое неудовольствие. Почти так же думал и сеньор Трехо, однако, не будучи коротко знаком с Лопесом (и чувствуя себя здесь в некотором роде чужаком), он ограничился лишь замечанием, что все пассажиры должны выступать едино, как добрые друзья, советуясь с остальными, прежде чем предпринимать какие-либо шаги, способные повлиять на их общее положение.
– Послушайте, – сказал Лопес, – мы не узнали ничего нового, устали как черти и в довершение всего упустили возможность поплескаться в бассейне. Может, хоть это вас немного утешит, – добавил он со смехом.
Было глупо затевать спор со стариками, когда предзакатные сумерки приглашали к тишине и покою. Он сделал несколько шагов и замер у форштевня, смотря на игру пенистых красновато-фиолетовых волн. Вечер был безмятежно спокойным и ясным, легкий бриз словно ласкал палубы «Малькольма». Вдалеке, по левому борту, виднелся плюмаж дыма. Лопес с безразличием вспомнил свой дом – дом этот принадлежал сестре и ее мужу, а он имел там лишь несколько комнат; в этот час Рут обычно вносила плетеные кресла в крытый патио, днем их выставляли в сад; Гомара беседовал о политике со своим коллегой Карпио, который исповедовал расплывчатый коммунизм, почерпнутый у китайских поэтов, переведенных сначала на английский, а уж потом на испанский язык издательством «Лаутаро», дети Рут печально дожидались, когда им позволят пойти искупаться. Все это было вчера, все это происходит сегодня там, вдалеке, за этим пурпурно-серебристым горизонтом. «Словно совсем в другом мире», – подумал он, хотя, возможно, через неделю, когда настоящее утратит новизну, воспоминания обретут силу. Вот уже пятнадцать лет, как он живет у Рут, и десять – как преподает. Пятнадцать и десять лет и всего один день в море, рыжеволосая девушка (впрочем, рыжие волосы тут ни при чем), и в миг перечеркнут важный период его жизни, целая треть его жизни стала забытым сновидением. Может, Паула сейчас в баре, а может, в своей каюте вместе с Раулем; в этот час, когда за бортом спускается ночь, так чудесно предаваться любви. Предаваться любви в каюте, которая слегка покачивается, где каждая вещь, каждый запах и каждый луч означают твою удаленность, твою полнейшую свободу. Конечно, они занимаются любовью, не станет же он верить ее сомнительным намекам на какую-то особую независимость. Мужчина не отправится в путешествие с такой красивой женщиной, чтобы толковать с ней о бессмертии крабов. Пусть она пока весело подшучивает над ним, он позволит ей немного поиграть, но потом… «Ямайка Джон, – с раздражением подумал он, – Нет, не стану я выступать в роли Кристофера Доуна ради тебя, красотка». Хорошо бы запустить руки в эти рыжие волосы, почувствовать, как они текут, словно кровь. «Я что-то много думаю о крови, – сказал он про себя, смотря на алый закат. – Сенакериб Эдемский, вот я кто. Л вдруг она еще в баре?» А он здесь зря теряет время… Повернувшись, он быстро зашагал к трапу. Беба Трехо, сидевшая на ступеньках, подвинулась, пропуская его.
– Прекрасный вечер, – сказал Лопес, еще не составивший мнения о ней. – А вас не укачивает?
– Меня? Да что вы! – возразила Беба. – Я даже но принимала таблеток. Меня никогда не укачивает.
– Вот это мне нравится, – сказал Лопес, исчерпав тему разговора.
Беба ожидала совсем другого, ей хотелось, чтобы Лопес остановился немножко поболтать с ней. Помахав на прощание рукой, он удалился, и когда Беба убедилась, что он ее не видит, показала ему язык. Конечно, он дурак, но не такой противный, как Медрано. Больше всех ей нравился Рауль, но до сих пор – какое безобразие – Фелипе и остальные не отпускали его от себя пи па минуту. Он немного походил на Уильяма Холдена, нет, скорее, на Жерара Филипа. Нет, и не на Жерара Филипа. Такой изящный в своих рубашках «фантази» и с трубкой. Эта женщина недостойна такого парня, как он.
Эта женщина сидела за стойкой бара, попивая коктейль с джином.
– Как ваши походы? Уже приготовили черный флаг и абордажные топоры?
– К чему? – сказал Лопес. – Нам, скорее, нужна ацетиленовая горелка, чтобы разрезать задраенные двери Стоуна, и словарь на шести языках в придачу, чтобы объясняться с глицидами. А разве Рауль вам не рассказывал?
– Я его не видела. Расскажите вы.
Лопес рассказал все по порядку, слегка подтрунивая над собой и не щадя двух своих спутников. Рассказал он и о благоразумном поведении старичков, и оба одобрительно улыбнулись. Бармен готовил коктейль с джином. В баре сидел один лишь Атилио Пресутти, потягивая пиво и читая «Ла Канчу». Чем занималась Паула весь вечер? Купалась в невероятном бассейне, смотрела на горизонт и читала Франсуазу Саган. Лопес обратил внимание, что она держит в руках тетрадь в зеленой обложке. Да, иногда она делает заметки или пишет что-нибудь. А что именно? Ну, разные там стихи.
– Вы не хотите говорить об этом, словно это какой-то грех, – сказал Лопес взволнованно. – Что творится с аргентинскими поэтами, чего они стыдятся? У меня есть два друга поэта, один из них очень хороший, и оба поступают, как вы: тетрадка в кармане и таинственный вид персонажа Грэма Грина, за которым гонится Скотланд-Ярд.
– О, это не должно никого интересовать, – сказала Паула. – Мы пишем для себя и еще для столь узкого круга, что статистика им вправе пренебречь. Вы же знаете, что сейчас значение той или иной вещи определяется с помощью статистики, таблиц и всего прочего.
– Это неправильно, – сказал Лопес. – Если поэт занимает такую позицию, в первую очередь страдает его поэзия.
– Но если никто ее не читает, Ямайка Джон. Друзья, конечно, исполняют свой долг, но лишь порой поэзия находит читателя, для которого она призыв или призвание. Это уже немало, этого уже достаточно, чтобы творить дальше. Что касается вас, то не утруждайте себя просьбами показать мои писания. Возможно, в один прекрасный день я сама это сделаю. Не кажется ли вам, что так будет лучше?
– Да, – сказал Лопес, – если, конечно, этот день наступит.
– В какой-то степени это будет зависеть от нас обоих. Сейчас я настроена оптимистично, но разве мы можем знать, что нам принесет завтрашний день, как сказала бы сеньора Трехо. Вы видели физиономию сеньоры Трехо?
– Потрясающая дама, – сказал Лопес, не имевший ни малейшего желания говорить о сеньоре Трехо. – Она очень похожа на рисунки Медрано, не нашего друга, а художника. Я только что перекинулся несколькими фразами с ее юной дочерью, которая дожидается прихода ночи на ступеньках трапа. Этой девице здесь будет скучно.
– Здесь и в любом другом месте. Не заставляйте меня вспоминать, какой я была в пятнадцать лет, как часами гляделась в зеркало… сгорала от любопытства, верила в вымыслы и в вымышленные ужасы и наслаждения. Вам нравятся романы Росамонд Леман?
– Да, иногда, – ответил Лопес – Но куда больше нравитесь вы, ваш голос, ваши глаза. Не смейтесь, ваши глаза предо мною, в том нет сомнения. Весь день я думал о цвете ваших волос, даже тогда, когда мы бродили по этим нроклятым коридорам. А на что они похожи, когда мокрые?
– На мыльное дерево и на томатный суп. Слоном, на какую-то гадость. А я правда вам нравлюсь, Ямайка Джон? Но доверяйте первому впечатлению. Расспросите Рауля, он меня хорошо знает. Я пользуюсь дурной славой среди своих знакомых, кажется, я немножко la belle dame sans merci [64]64
«Прекрасная дама, не знающая милосердия» (франц.) – название поэмы французского поэта Алена Шартье (1385 – 1429).
[Закрыть]. Это явное преувеличенно, но мне действительно вредит чрезмерная жалость к себе я к прочим смертным. Я оставляю милостыню в каждой протянутой руке, и, кажется, это начинает приносить плохие результаты. О, не беспокойтесь, я не стану поверять вам свою жизнь. Сегодня я уже была слишком откровенна с прекрасной, прекрасной и добрейшей Клаудией. Мне очень правится Клаудиа, Ямайка Джон. Признайтесь, вам она тоже правится.
– Да, мне нравится Клаудиа, – сказал Ямайка Джон. – Она душится такими чудесными духами, и у нее такой очаровательный мальчуган, и все так прекрасно, и этот коктейль… Давайте выпьем еще, – добавил он, клади свою руку на ее руку, и Паула ее не отдернула.
– Мог бы попросить меня подвинуться, – сказала Беба. – Испачкал своими грязными кедами мою юбку.
Фелипе просвистал мамбо и выскочил па палубу. Он слишком долго грелся на солнце, сидя на краю бассейна, и теперь у пего горели плечи и спина, пылало все лицо. Но таковы радости путешествия – вечерний ветерок освежил его. Кроме двух старичков, на палубе никого больше не было. Спрятавшись за вентилятор, Фелипе закурил и с издевкой взглянул на Бебу, неподвижно застывшую на ступеньке трапа. Он сделал несколько шагов, облокотился о поручни борта; океан походил… «Океан, словно огромное зеркало ртути», этот педик Фрейлих читал стихи под одобрительную улыбочку училки по литературе. Весь обросший волосами, первый ученик в классе, дерьмовый педик Фрейлих. «Я схожу, сеньора, да, сеньора, я это сделаю. Принести вам цветные мелки, сеньора?» И училки, ясное дело, млеют от этого подлизы и ставят ему одни десятки по всем предметам. Слава богу, учителей ему по удавалось так легко провести, многие из них держали его па отдалении, но он все равно ухитрялся получать у них десятки, зубрил все ночи напролет, приходил на утро с синяками под глазами… По эти синяки были у него не от зубрежки. Дурутти рассказывал, что Фрейлих шлялся по центру с каким-то верзилой, у которого, наверно, было полно монет. Дурутти повстречался с ним однажды в кондитерской на Санта-Фе, и Фрейлих страшно покраснел и сделал вид, что его не узнал… Наверняка этот верзила был любовником Фрейлиха, наверняка… Фелипе прекрасно знал, как делаются такие дела, с того самого праздничного вечера на третьем курсе, когда ставили пьесу и он играл роль мужа. Альфиери в антракте подошел к нему и сказал: «Глянь на Виану, настоящая красотка». Виана учился в третьем «С» и был педиком похлеще Френлиха, из тех, которые на переменах дают себя тискать, щупать, с наслаждением возятся и строят довольные рожи, но все же они хорошие ребята, этого у них не отнимешь, добрые, у них всегда в карманах найдутся американские сигареты, булавки для галстуков. В тот раз Виана играл роль девушки в зеленом; ох и здорово же его загримировали. Вот, наверно, наслаждался, когда его мазали. Раза два он даже осмелился прийти в колледж с подкрашенными ресницами, чем вызвал всеобщее веселье, ему кричали фальцетом, обнимали, щипали, давали коленками под зад. Но в тот вечер Виана был счастлив, и Альфиери, смотря на него, повторял: «Глядите, какая красотка, прямо настоящая Софи Лорен». И это говорил бравый Альфиери, строгий надзиратель с пятого курса. Но стоило кому-нибудь зазеваться, и Альфиери уже обнимал его за плечи и с кривой улыбочкой манерно спрашивал: «Тебе нравятся девочки, малец?» – и, закатив глаза, ждал ответа. А когда Виана жадно высматривал кого-то из-за софитов, Альфиери сказал ему, Фелипе: «Обрати внимание, сейчас увидишь, почему он так волнуется», и тут действительно появился какой-то расфуфыренный коротышка в сером костюме, с шелковым шейным платком и золотыми перстнями. Виана поджидал его с улыбочкой и подбоченясь, точно Софи Лорен, а Альфиери продолжал нашептывать: «Это фабрикант, владелец фабрики роялей. Представляешь, какая у него житуха? А тебе бы не хотелось заполучить побольше бумажек и чтоб тебя катали на машине в Тигре и в Мар-дель-Плата?» Фелипе ничего не ответил, захваченный происходящей сценой: Виана оживленно беседовал с фабрикантом, который, казалось, в чем-то упрекал его. Тогда Виана приподнял юбку и с восхищением посмотрел на свои белые туфли. «Если хочешь, давай пойдем как-нибудь вместе, – сказал Альфиери Фелипе. – Поразвлечемся, я тебя познакомлю с женщинами; они, наверное, тебе уже нужны… а может, тебе больше нравятся мужчины, кто знает», и голос его потонул в шуме молотков, которыми стучали рабочие сцены, и голосов из зала, где собралась публика. Фелипе как бы невзначай освободился от рук Альфиери, легко обнимавших его за плечи, сказав, что ему надо готовиться к следующей сцене. Он до сих пор помнил, как пахло табаком от Альфиери, его прищуренные глаза, безразличное выражение лица, которое не менялось даже в присутствии ректора и преподавателей, Фелипе не знал, что и думать об Альфиери, иногда он казался ему настоящим мужчиной, особенно когда разговаривал во дворе с пятикурсниками, и Фелипе, крадучись, подбирался к ним и подслушивал. Альфиери рассказывал, как он соблазнил замужнюю женщину, описал в подробностях меблированные комнаты, куда они ходили, как она сначала боялась, что узнает муж, который был адвокатом, а потом три часа вертела задом, и он все повторял и повторял это слово, Альфиери хвастался своим молодечеством, тем, что ни на минуту не давал ей уснуть, но не хотел сделать ей ребенка и поэтому принимал меры предосторожности, а от этого одни неудобства. Фелипе не все понял из его рассказа, но про такое не спрашивают, в один прекрасный день сам все узнаешь, и дело с концом. К счастью, Альфиери не был молчальником, он часто показывал им соответствующие картинки в книжках, которые он, Фелипе, не осмеливался купить и тем более держать у себя дома, – эта гнида Беба совала всюду нос и рылась во всех ящиках. Его немного сердило и задевало, что Альфиери не первый приставал к нему. Неужели он похож на педика? Ох, и темное это дело. Об Альфиери, например, тоже по виду ничего не скажешь… И сравнить нельзя с Фрейлихом или Вианой, вот уж кто вылитые педики. Два-три раза он наблюдал за Альфиери во время переменок, когда тот приближался к какому-нибудь мальчишке со второго или третьего курса и приставал к нему с теми же ужимками, и всегда это были ребята крепкие, здоровые, бравые, как он сам. Казалось, Альфиери нравились именно такие, а не потаскушки вроде Вианы или Фрейлиха. С удивлением вспоминал он и тот день, когда они очутились вместе в одном автобусе. Альфиери заплатил за обоих, хотя сделал вид, будто не заметил его в очереди. Когда они уселись на задних сиденьях, Альфиери так непринужденно стал рассказывать ему о своей невесте, о том, что они должны были встретиться вечером того же дня, что она учительница и что они поженятся, как только найдут квартиру. Все это говорилось тихим голосом, почти на ухо, и Фелипе слушал с интересом и вниманием, ведь Альфиери был надзирателем, как ни говори, начальством; и вот после паузы, когда разговор про невесту, казалось, был уже исчерпан, Альфиери вдруг со вздохом добавил: «Да, че, скоро женюсь, но ты не представляешь, как мне нравятся мальчишки»… и снова Фелипе почувствовал желание отодвинуться, отделаться от Альфиери, хотя тот беседовал с ним доверительно, как равный с равным, и, упоминая мальчишек, конечно, не имел в виду таких зрелых мужчин, как Фелипе. Он едва осмеливался украдкой поглядывать на Альфиери и натужно улыбался, словно все, что сообщал Альфиери, было в порядке вещей и он привык к подобным разговорам. С Вианой или Фрейлихом было намного легче: ткнешь под ребра или еще куда, и вся недолга, а Альфиери ведь надзиратель, мужчина за тридцать, и вдобавок еще таскает по меблированным комнатам жен адвокатов.
«Наверное, у них что-то не в порядке с железками, вот они и такие», – подумал он, бросая окурок. Когда он заглянул в бар и увидел, как Паула болтает с Лопесом, ему стало завидно. Ну что ж, старик Лопес не теряется и обрабатывает рыжуху, интересно, как на это посмотрит Рауль. Вот будет здорово, если Лопес утащит ее в свою каюту и вернет потом потрепанную, как адвокатскую женушку. Все решалось совершенно просто: расставить сети, поймать, схватить и повалить в постель, а Рауль пусть делает что хочет: или поступает, как настоящий мужчина, или ходит рогатый. Фелипе с удовлетворением обдумывал свою схему, где все было ясно и расставлено по своим местам. Не так, как с Альфиери и его вечной двусмыслицей, когда не знаешь, говорит он всерьез или подразумевает что-то совсем другое… Он заметил Рауля и доктора Рестелли, поднимавшихся на палубу, и повернулся к ним спиной. Не хватает еще, чтобы этот тип с английской трубкой испытывал его терпение. Достаточно того, что он заставил его промаяться весь день. Но все равно, у них ничего не выгорело, он уже знал от отца о провале их затеи. Три здоровых лба не смогли проникнуть на корму и узнать, что там творится.
Его вдруг осенило. Не задумываясь, в два прыжка он спрятался за бухтой каната, чтобы Рауль и Рестелли его не заметили. Таким образом он уклонялся от встречи с Раулем и избегал беседы с Черным Котом, которого, наверное, раздражает отсутствие у Фелипе… как это он говорил в классе?., культуры (или, может, воспитания?). А, одинаковая дребедень! Когда Фелипе увидел, что они склонились над бортом, он бросился к трапу. Беба посмотрела на него с безграничной жалостью.
– Как маленький ребенок, носится точно угорелый, – проворчала она. – Нас перед людьми позоришь. – Фелипе обернулся на верху трапа и грубо обругал ее. Он забежал в свою каюту, которая располагалась почти рядом с проходом, соединяющим оба коридора, и приник к дверной щелке. Когда оп удостоверился, что кругом никого пет, он вышел и подергал дверь в проходе. Она была по-прежнему открыта, трап словно ожидал его. Именно здесь Рауль впервые заговорил с ним на «ты», и теперь это казалось совершенно невероятным. Когда он закрыл за собой дверь, ого окутала темнота, и ему показалось, что тут стало еще темней, чем днем, это было удивительно – ведь лампа светила так же. Он потоптался немного посреди трапа, прислушиваясь к шуму внизу: тяжело стучали машины, до него доносился запах масла, битума. Здесь они ходили, вели разговор о фильме про корабль смерти, и Рауль сказал, что этот фильм… А потом выразил сожаление, что Фелипе вынужден терпеть присутствие родителей. Ou прекрасно помнил его слова: «Мне было бы очень приятно, если бы ты ехал один». Как будто ему есть дело до того, еду я один или с родными. Дверь слева была открыта, другая, как и раньше, заперта, однако из-за нее доносился какой-то стук. Замерев у двери, Фелипе почувствовал, как что-то потекло по его лицу, и вытер пот рукавом рубахи. Схватив сигарету, он поспешно закурил. Он еще покажет этим трем пройдохам.