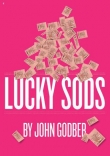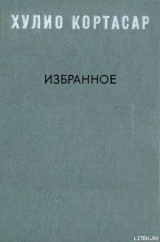
Текст книги "Выигрыши"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
G
Быть может, необходим отдых, быть может, в какой-то миг голубой гитарист опустит руку и чувственный рот замолкнет и сожмется, станет пустым, как жутко сжимается пустая перчатка, брошенная на кровать. И в этот час равнодушия и усталости (а усталость – это эвфемизм поражения, и сон – это маска пустоты, прикрывающая каждую пору жизни) образ чуть антропоморфический, презрительно воссозданный Пикассо на картине, где изображен Аполлинер, как никогда представляет комедию в ее критической точке, когда все застывает перед тем, как взорваться в едином аккорде, который снимет невыносимое напряжение. Но мы думаем об определенных названиях расположенных перед нами предметов: гитара, музыкант, корабль, идущий к югу, женщины и мужчины, которые мельтешат, как белые мыши в клетке. Какая неожиданная изнанка интриги, может родиться из последнего подозрения, которое превосходит то, что случается в жизни, и то, чего не случается, то, что находится в этой точке, где, возможно, достигнут союз взгляда и химеры, где фабула на кусочки раздирает шкуру агнца, где третья рука, едва различимая Персио в миг звездного даяния, сжимает на свой страх и риск гитару, лишенную корпуса и струн, и выводит в твердом, как мрамор, пространстве музыку для иного слуха. Нелегко понять антигитару, как нелегко понять антиматерию, но антиматерия – это уже предмет, о котором пишут в газетах и делают сообщения на конгрессах, антиуран, антикремний сверкают в ночи, звездная третья рука вызывающе предлагает себя, чтобы оторвать наблюдателя от созерцания. Нелегко представить себе античтение, антисуществование какого-нибудь антимуравъя; третья рука дает пощечины очкам и классификациям, срывает книги с полок, раскрывает смысл зеркальных отражений, их симметричное и извращенное откровение. Этот анти–«я» и этот анти-«ты» находятся здесь, и что тогда есть мы и наше удовлетворительное существование, где беспокойство не выходит за пределы жалкой немецкой или французской метафизики, и теперь, когда на кожу, покрытую волосами, ложится тень антизвезды, теперь, когда в любовном объятии мы чувствуем порыв антилюбви, и не потому, что космический палиндром обязательно будет отрицанием (почему должна быть отрицанием антивселенная?), а, напротив, истиной, которую указывает третья рука, истиной, которая ожидает рождения человека, чтобы обрести радость!
Неважно как – валяясь посреди пампы, или засунутый в грязный мешок, или просто упав с коварного коня, Персио поворачивается лицом к звездам и чувствует, что приближается неясное завершение. Ничем не отличается он в этот час от паяца, который поднимает обсыпанное мукой лицо к черной дыре в шатре цирка, к этому окну в небо. Паяц не знает, Персио не знает, что это за желтые камешки скачут в его широко открытых глазах. А раз он не знает, он может с величайшим трепетом ощущать, что ему дано: сверкающая оболочка южной ночи медленно вращается со своими крестами и компасами, и в уши мало-помалу начинает проникать голос равнин, хруст прорастающих трав, неуверенные покачивания змеи, вползающей в росу, легкая дробь кролика, возбужденного желанием луны. Он уже вдыхает сухое таинственное потрескивание пампы, трогает мокрыми зеницами новую землю, которая едва знается с человеком и отвергает его, как отвергают его ее кони, ее циклоны и ее просторы. Чувства мало-помалу оставляют Персио, чтобы извлечь его и выплеснуть в черную долину: сейчас он уже не видит, не слышит, не обоняет, не осязает, он отсутствует, его нет, он сбросил с себя путы и, выпрямляясь, как дерево, охватывает множественность в единой и огромной боли – и это есть разрешающийся хаос, затвердевшее стекло, первозданная ночь американского времени. Какой вред может причинить ему таинственный парад теней, обновленная и разбитая вселенная, поднимающаяся вокруг него, ужасное потомство недоносков, и броненосцев и обросших шерстью лошадей, пантер с клыками, точно рога, и камнепады и оползни. Неподвижный камень, безразличный свидетель революции тел и эонов, око, опустившееся, как кондор с гороподобными крыльями, на путь мириад и галактик зрить чудовищ и потопы, пасторальные сцены и вековечные пожары, метаморфозы магмы, сиаля, неприметное движение континентов-китов, острова тапиров, каменные катастрофы Юга, грозное рождение Анд, вспарывающих трепещущую землю, не имея возможности отдохнуть хотя бы секунду, знать, что ощущает левая рука: ледниковый период земли со всеми его катаклизмами или всего лишь слизняка, ползущего ночью в поисках теплого места.
Если бы отрекаться было трудно, он, наверное, отрекся бы от осмоса катаклизмов, которые погружают его в невыносимо плотную массу, но он упорно отказывается от легкой возможности открывать и закрывать глаза, вставать и выходить на край дороги, вновь выдумывать свое тело, путь, ночь в тысяча девятьсот пятьдесят с чем-то году, помощь, которая придет с маяком, громкими криками и пыльным следом за кормой. Он сжимает зубы (возможно, это рождается горный хребет, дробятся базальты и глины) и отдается головокружению, ходу слизняка или каскаду, льющемуся на его затонувшее тело. Вся вселенная – это поражение, в воздух взлетают скалы, безымянные звери падают и перебирают задранными вверх ногами, разлетаются в щепки коиуэ, восторг беспорядка распластывает, возбуждает и уничтожает среди воя и мутаций. Что должно было остаться от всего этого – развалившийся дом в пампе, хитрый лавочник, гонимый бедняга гаучо и генерал у власти? Дьявольская операция, которая свелась к колоссальным цифрам футбольных чемпионатов, самоубийству поэта, горькой любви по углам и в кустах жимолости. Субботняя ночь, итог славы, это ли есть Южная Америка? Не повторяем ли мы в каждом своем повседневном поступке неразрешившийся хаос? И разве в настоящее время, отложенное на неопределенное будущее, время культа некрофилии, всеобщей склонности к отвращению и снам без сновидений, к кошмарам после несварения тыквы и колбасы, поглощенных в огромном количестве разве мы ищем сосуществования судеб, хотим прожить одновременно жизнь свободного индейца и профессионального гонщика? Лицом к звездам, брошенные в непромокаемой и глухой пампе, разве мы не отказываемся тайно от исторического времени, не рядимся в чужие одежды и не повторяем пустые речи, которые облекают в перчатки приветственно поднятые руки вождя и празднование знаменательных дат, и из этой неизведанной действительности разве мы не выбираем антагонистический призрак, антиматерию антидуха и антиаргентинства, решительно отказываясь достойно встретить судьбу своего времени, гонку, где есть победители и побежденные? Не манихейцы, но и не жизнелюбивые гедонисты, разве мы не представляем на земле спектр грядущего, его сардоническую личинку, спрятавшуюся на краю дороги, антивремя'души и тела, дешевую легкость, «не суйся не в свое дело», если речь не идет о твоей жизни? Наша судьба не желать никакой судьбы, и разве мы не плюем на каждое напыщенное слово, на каждое философское эссе, на каждый громкий чемпионат, жизненную антиматерию, вознесенную до накидки из macramé [99]99
Плетеный шнур (франц.).
[Закрыть], до флоральных игр [100]100
Поэтические состязания в Провансе, учрежденные так называемой «Консисторией Веселой науки» в 1323 г.
[Закрыть], до кокард, светских и спортивных клубов в любом квартале Буэнос-Айреса, Росарио или Тукумана?
XXXVIII
Вообще литературные состязания всегда развлекали Медрано, ироничного стороннего наблюдателя. Мысль об этом пришла ему в голову, пока он спускался на палубу, проводив Клаудиу и Хорхе, который против обыкновения вдруг захотел спать после обеда. Если хорошенько вдуматься, доктору Рестелли следовало бы устроить литературный вечер, по сравнению с любительским концертом это было бы более возвышенно и назидательно и к тому же позволило бы кое-кому блеснуть убийственным остроумием. «Впрочем, не принято устраивать на пароходе литературные состязания», – подумал он, растягиваясь в кресле-качалке и медленно доставая сигарету. Он нарочно отдалял тот момент, когда сможет отрешиться от окружающего, чтобы с наслаждением отдаться во власть образа Клаудии, восстанавливая в мельчайших подробностях черты ее лица, оттенки ее голоса, форму рук, ее манеру, такую простую и естественную, молчать и говорить. В эту минуту на трапе левого борта появился Карлос Лопес и застыл, устремив взгляд на горизонт. Остальные пассажиры уже некоторое время как покинули палубу; на капитанском мостике по-прежнему было пусто, Медрано закрыл глаза и подумал, что будет дальше. Как только закончится последнее выступление на вечере, прозвучат вежливые аплодисменты и все зрители разойдутся, начнут свой бег часы нового, третьего дня. «Все тот же символ, надоевшая, не очень топкая аллегория», – подумал он. Третий день – решающий. Можно было ожидать самых невероятных событий: вдруг откроется для всеобщего обозрения корма или Лопес выполнит свою угрозу с помощью Рауля и его, Медрано. Партия пацифистов во главе с доном Гало будет присутствовать при этом и бесноваться; по дальше будущее рисовалось в тумане, пути раздваивались, расходились в стороны… «Ну, будет дело», – подумал оп, радуясь, сам не зная чему. Но события представились ему столь нелепыми и столь лишенными всякой драматичности, что собственная радость в конце концов внушила ему тревогу. Оп предпочел снова вернуться мыслями к Клаудии, вспомнить выражение ее лица, на котором совсем недавно, когда они прощались на пороге ее каюты, он прочел скрытое беспокойство. Но она ничего не сказала, а он сделал вид, что ничего не заметил, хотя ему очень хотелось быть подле нее, вместе с нею оберегать сон Хорхе, тихонько болтать о чем-нибудь. Он снова неясно ощутил какую-то пустоту, беспорядок, необходимость что-то предпринять – он сам не знал, что именно, – собрать тысячи кусочков головоломки, разбросанной на столе. Еще одно избитое сравнение жизни с головоломкой: каждый день – это кусочек дерева с зеленым пятнышком, красной крапинкой, серой точкой, по все перемешано и аморфно, дни перепутаны, частица прошлого, вонзенная, как шип, в будущее; настоящей, должно быть, оторванное от предшествующего и последующего, но обедненное неким слишком произвольным делением, решительным отказом от призраков и намерений. Нет, настоящее не могло быть таким, но только сейчас, когда многое от этого «сейчас» было невозвратимо потеряно, он начинал подозревать, без особой, правда, уверенности, что самая большая его вина, по-видимому, заключалась в некоей свободе, основанной на неверно понятой чистоплотности, на эгоистичном желании полностью распоряжаться собой в любое время дня, которые походили один на другой, не отягощенные вчерашним и завтрашним грузом. Увиденная сквозь эту призму, жизнь представилась ему полнейшим поражением. «Поражением?» – подумал он с тревогой. Никогда существование не представлялось ему цепью побед, а в таком случае понятие «поражение» теряло всякий смысл. «Да, логично, – подумал он. – Логично». Он повторял это слово, вертел его на все лады. Логично. Тогда и Клаудиа, тогда и «Малькольм». Логично. А желудок, а тревожный сон, а предчувствие надвигающейся беды, которая застанет его врасплох, безоружным, и к которой надо приготовиться. «Черт побери, – подумал он, – не так просто выкинуть за борт свои привычки, это очень похоже на surmenage [101]101
Переутомление (франц.).
[Закрыть]. Как в тот раз, когда я думал, что схожу с ума, а на самом деле начиналось заражение крови…» Нет, это было нелегко. И Клаудиа, кажется, понимала это, она не попрекнула его Беттиной, но Медрано подумал теперь, что Клаудиа должна была бы упрекнуть его за отношение к Беттине. Разумеется, у нее не было на это никакого права, и еще меньше как у возможной преемницы Беттины. Но даже мысль о подобной замене была оскорбительна, когда речь шла о такой женщине, как Клаудиа. Возможно, именно поэтому она могла бы назвать его негодяем, могла бы спокойно сказать ему это, устремив на него взгляд, в котором ее тревога мелькнет как завоеванное право, право соучастницы, как упрек того, кто сам достоин упрека, куда более горького, справедливого и веского, чем упрек судьи или святого. Но почему именно Клаудиа должна распахнуть перед ним врата времени и вытолкнуть его обнаженным, когда время уже подстегивало его, заставляя курить сигарету за сигаретой, кусать губы и желать, чтобы так или иначе составилась головоломка, чтобы его неверные руки, не привыкшие к этим играм, на ощупь отыскали бы красные, зеленые, синие и серые кусочки, сложили бы из беспорядочной груды женский профиль, свернувшегося у камелька котенка, фон из старых сказочных деревьев, И чтобы все это было сильнее солнца в половине пятого пополудни, кобальтового горизонта, который он видел сквозь прикрытые веки, покачиваясь вверх и вниз вслед за палубой «Малькольма», торгово-пассажирского судна компании «Маджента стар». Вдруг он очутился на улице Авельянеда, деревья в осенней ржавчине; руки в карманах плаща, он быстрым шагом спасается от какой-то неясной угрозы. Прихожая как в доме у Лолы Ромарино, только уже; он выходит во двор – спешить, спешить, не теряя ни минуты, – поднимается по лестнице, как в парижском отеле «Сен-Мишель», где он прожил несколько недель с Леонорой (фамилию он забыл). Комната большая, завешанная портьерами, скрывающими кривые стены и окна, которые выходят в глухие темные дворы. Закрыв за собой дверь, он почувствовал огромное облегчение. Снял плащ, перчатки и очень осторожно положил их на тростниковый столик. Он понимал, что опасность не миновала, что дверь защищала его только наполовину, это была лишь отсрочка, которая позволяла ему отыскать более надежное убежище. Но он не хотел думать, не знал, о чем думать; угроза была слишком неопределенной, она витала в воздухе, уносясь и возвращаясь, словно клочья дыма. Он сделал несколько шагов и очутился на середине комнаты. И только тогда увидел кровать, скрытую розовой ширмой, жалкое ложе, готовое вот-вот рухнуть. Неприбранная железная кровать, таз и кувшин; да, это могло быть в отеле «Сен-Мишель», хотя и было совсем не там, комната напоминала другую, в отеле в Рио. Ему почему-то не хотелось подходить к этой грязной, неприбранной постели, и он неподвижно стоял, засунув руки в карманы пиджака, чего-то ожидая. Появление Беттины, которая вдруг раздвинула потертые занавески и вышла к нему, словно скользя по засаленному ковру, остановилась в метре от него и медленно подняла закрытое белокурыми волосами лицо, показалось ему совершенно естественным, почти неизбежным. Ощущение опасности растворялось, превращаясь в нечто иное, и он не знал, что это было и что его ждет что-то похуже того, что случится сейчас, а Беттина постепенно поднимала свое невидимое лицо, и сквозь белокурые легкие пряди показывался иногда кончик носа, иногда рот, который тут же исчезал, иногда блестящие глаза. Медрано хотел было отступить, хотя бы прижаться спиной к двери, но он словно плавал в густом, вязком воздухе, глоток которого с большим трудом, напрягая грудь, все тело, он время от времени втягивал в себя. Он слышал голос Беттины, потому что она говорила с самого начала, но речь ее сливалась в один резкий, непрерывный, однообразный звук, словно попугай, неустанно присвистывая, повторял какие-то отдельные слоги. Когда она тряхнула головой и откинула назад волосы, упавшие на плечи, лицо ее оказалось так близко от его лица, что стоило ему лишь наклониться, и он мог бы омыть свои губы в ее слезах. Блестевшие от слез щеки и подбородок, приоткрытый рот, из которого продолжали литься непонятные слова, лицо Беттины внезапно словно заслонили собой комнату, портьеры, ее тело, руки, которые, как он заметил, были прижаты к бедрам; осталось только лицо, окутанное дымкой и залитое слезами, глаза, вылезшие из орбит, которые о чем-то умоляли Медрано, он различал теперь каждую ресничку, каждый волосок бровей; лицо Беттины было нескончаемым миром, застывшим в судорогах перед его глазами, которых он не мог отвести, и голос ее продолжал литься, как густая, липкая лента, и смысл слов был ясен, хотя ничего нельзя было разобрать, ясен и точен – это был взрыв ясности и завершения, наконец определившаяся конкретная угроза, конец всему, явление ужаса здесь, в эту минуту. Тяжело дыша, Медрано смотрел на лицо Беттины – оно хотя и не приближалось к его лицу, но было уже совсем рядом – и узнавал хорошо знакомые черты: крутую линию подбородка, разлетающиеся брови, ложбинку на верхней губе, покрытую нежным пушком, которого он нежно касался губами; и все же он сознавал, что видит совсем иное лицо, что это не лицо Беттины, а его изнанка, маска, и нечеловеческие «страдания, страдания всего мира уничтожили тривиальность лица, которое он целовал когда-то. Он знал также, что и это неверно, верно было то, что он видел сейчас, вот где была настоящая Беттина, Беттина-чудовище, перед которой бледнела Беттина-любовница, как бледнел он, медленно отступая к двери, не в силах оторваться от этого лица, плавающего перед его глазами. Но это был не страх, а нечто большее – ужас, или, скорее, не всем данное ощущение самого страшного мига – пытки без физической боли, квинтэссенции пытки без истязания плоти и нервов. Он видел оборотную сторону вещей, впервые видел себя таким, каким он был, лицо Беттины служило ему зеркалом, омытым слезами: перекошенный рот, когда-то кокетливый, бездонные глаза, когда-то легкомысленно смотревшие на мир. Он не знал этого, потому что ужас парализовал его разум, это была оборотная сторона самой материи, прежде для него непостижимая, И поэтому, когда он с криком проснулся, и голубой океан плеснул яму в глаза, и он снова увидел трап и Рауля Косту, сидевшего где-то наверху, лишь тогда, закрыв лицо руками, словно боясь, как бы кто-то другой но увидел в нем того, что секунду назад он сам увидел в маске Беттины, он понял, что близок к разгадке, что головоломка скоро будет сложена. Задыхаясь, как во сне, он посмотрел на свои руки, кресло, в котором сидел, Дощатый пастил палубы, железные поручни у борта, посмотрел о удивлением, далекий от всего, что его окружало, чужой самому себе. Когда он снова обрел способность думать (причинявшую ему боль, потому что все в нем кричало, что думать – значит опять фальшивить), он понял, что видел во сне не Беттину, а самого себя; и ужас заключался именно в этом, но теперь, перед лучами солнца и соленым ветром, ужас отступал, уходил в забвение, в небытие, оставляя лишь ощущение, что каждая частица его жизни, его тела, его прошлого и настоящего была фальшивой и что эта фальшь и сейчас находится где-то рядом, дожидается той минуты, когда можно будет взять его за руку и снова отвести в бар, в завтрашний день, в любовь с Клаудией, к улыбающемуся капризному лицу Беттины, вечной в вечном Буэнос-Айресе. Фальшивым был день, который он видел, потому что этот день видел он; фальшь была повсюду, потому что заключалась в нем самом, потому что была выдумана по частям на протяжении всей жизни. Он только что увидел подлинное лицо легкомыслия, но, к счастью, ах, к счастью, это был всего лишь кошмарный сон. Он снова обретал разум, хорошо смазанная машина начинала думать, качались шатуны и вертелись подшипники, получая и передавая усилия, подготавливая благоприятные заключения. „Какой кошмарный сон“, – решил Габриэль Медрано, отыскивая сигареты, эти бумажные цилиндрики, наполненные табаком, по пяти песо за пачку.
Когда стало невмоготу сидеть на солнце, Рауль вернулся в каюту, где Паула спала, лежа ничком. Стараясь не шуметь, он налил себе виски и растянулся в кресле. Паула открыла глаза и улыбнулась.
– Я как раз видела тебя во сне, но ты был выше ростом и одет в плохо сшитый синий костюм.
Она привстала, согнула пополам подушку и оперлась на нее.
Раулю вдруг припомнились этрусские саркофаги, возможно потому, что на губах Паулы блуждала какая-то легкая, еще сонная улыбка.
– А вот выглядел ты лучше, – сказала Паула. – Можно было подумать, что ты вот-вот разродишься сонетом или поэмой в октавах. Я уж знаю, была знакома с поэтами: у них всегда такое лицо перед тем, как прийти вдохновению.
Рауль вздохнул, немного задетый.
– Какое несуразное путешествие, – сказал он. – У меня такое чувство, будто мы все время на что-то натыкаемся, даже наш пароход. Только не ты. По-моему, у тебя все идет как по маслу с этим твоим загорелым пиратом.
– Как сказать, – Паула потянулась. – Если я немного забудусь, может, и пойдет, но ты всегда рядом, а ты же свидетель.
– О, я не стану мешать. Ты мне только сделай знак, например скрести пальцы или стукни левым каблуком, и я тут дав исчезну. Даже из каюты, если тебе понадобится, но, полагаю, до этого не дойдет. Кают здесь полным-полно.
– Вот что значит иметь дурную репутацию, – сказала Паула. – Ты думаешь, мне достаточно знать мужчину двое суток, чтобы лечь с ним в постель?
– Вполне достаточный срок. За это время можно успеть посоветоваться с совестью и почистить зубы…
– Злюка, вот ты кто. О чем бы ни шла речь, ты вечно злишься.
– Ничего подобного. Не путай ревность с завистью, а я испытываю только зависть.
– Расскажи мне, – сказала Паула, откидываясь назад. – Расскажи, почему ты мне завидуешь.
И Рауль рассказал. Это стоило ему немалого труда, хотя он не щадил себя и не скупился на иронию.
– Но он еще мальчик, – сказала Паула. – Понимаешь, совсем еще ребенок.
– А если не ребенок, тогда слишком взрослый. Не старайся найти, объяснение. По правде говоря, я вел себя как идиот, расстроился, словно это случилось в первый раз. Со мной всегда так, заранее насочиняю, что может случиться… И последствия налицо.
– Да, это плохая система. А ты не сочиняй, и все будет в порядке…
– Ты стань на мое место, – сказал Рауль, не подумав, что может насмешить Паулу. – 3десь я безоружен, лишен возможностей, которыми располагал бы в Буэнос-Айресе. И в то же время мы здесь ближе, намного ближе, чем были бы там, я встречаю его на каждом шагу и вдобавок знаю, что пароход может оказаться самым прекрасным местом… Я испытываю танталовы муки, видя его в коридорах, в душе, за акробатическими упражнениями.
– Не слишком ты грозный растлитель, – сказала Паула. – Я всегда это подозревала и рада, что так оно и оказалось.
– Пошла ты к черту.
– Нет, я правда радуюсь этому. И считаю, что теперь ты заслуживаешь немного большего, чем прежде, и что тебе, может, даже повезет.
– Я предпочел бы заслуживать меньшего и…
– Что и? Я не собираюсь вдаваться в подробности, но полагаю, это не так-то просто. Будь это просто, в тюрьмах не сидело бы столько вашего брата, а в кукурузных полях не находили бы столько мертвых мальчиков.
– Ты скажешь, – возразил Рауль. – Невероятно, чего только женщина не вообразит себе.
– Это не воображение, Раулито. Поскольку ты не садист, представляющий опасность для общества, я считаю, ты неспособен обойтись с ним дурно, как осторожно выразилась бы «Ла Пренса». Но мне не стоит большого труда представить тебя в роли умеренного обольстителя, если позволишь так выразиться, который идет к дурной цели хорошим путем. На сей раз, бедняжка, морской воздух, кажется, вдохнул в тебя слишком сильный порыв.
– У меня даже нет охоты снова послать тебя к черту.
– В Конце концов, – сказала Паула, приставляя палец к губам, – в конце концов, у тебя есть кое-какие шансы, и полагаю, ты не настолько удручен, чтобы их не заметить. Во-первых, путешествие обещает быть долгим, и у тебя пет соперников. Я хочу сказать, нет женщин, которые могли бы вселить в него мужественность. Мальчишка в его возрасте, если ему повезет в самом безобидном флирте, способен возомнить о себе невесть что, и будет совершенно прав. Вероятно, тут я сама немного виновата. Я позволила ему строить иллюзии, говорить со мной, словно он уже мужчина.
– Ба, какие пустяки, – сказал Рауль.
– Может, и пустяки, но, повторяю, у тебя еще есть шансы. Нужны разъяснения?
– Если это тебя не затруднит.
– Неужели ты ничего не заметил, чурбан ты этакий. А ведь это так просто, так просто. Приглядись к нему и увидишь то, чего он сам не видит, потому что не знает.
– Это слишком прекрасно – видеть его воочию, – сказал Рауль. – Я сам не знаю, что испытываю, когда смотрю на него. Ужас, пустоту, сладость меда и прочее в том же роде.
– Да, в таком состоянии… А следовало бы увидеть, что молодой Трехо полон сомнений, что он дрожит и колеблется и что в душе, глубоко в душе… неужели ты не заметил в нем какой-to порыв? То, что делает его прелестным (ведь я тоже нахожу его прелестным, но только с той разницей, что чувствую себя как бы его бабушкой), и он вот-вот сдастся, он не может оставаться тем, кто он есть сию минуту. Ты вел себя как идиот, но, возможно, еще… Одним словом, не слишком хорошо, что я, правда?…
– Ты на самом деле так думаешь, Паула?
– Это юный Дионис, глупец. В нем нет никакой стойкости, он нападает, потому что до смерти боится, и в то же время полон страстного желания, он чувствует, что любовь словно парит над ним, он как бы мужчина и женщина одновременно и даже нечто большее. В нем нет определенности, он знает, что настал час, но какой час, не знает, и напяливает эти свои ужасные рубашки и приходит ко мне, чтобы сказать, что я очень красивая, и смотрит на мои ноги, а сам панически меня боится… но ты ничего этого не видишь и бродишь как лунатик с подносом пирожных… Дай мне сигарету, я, наверное, сейчас пойду искупаюсь.
Рауль смотрел, как она курит, и время от времени они обменивались улыбками. То, что она сказала, не было для него новостью, но важно было услышать мнение объективного наблюдателя. Круг замыкался, все вставало на прочную основу. «Несчастный интеллектуал, не можешь без доказательств», – подумал он без всякой горечи. И виски уже теряло свой горьковатый привкус.
– А ты? – спросил Рауль. – Теперь я хочу знать о тебе. Давай уж по-братски вымараемся до конца, душ под боком. Говори, выкладывай, падре Коста весь внимание.
– Мы в восторге от идеи, которую предложили сеньор доктор и сеньор инвалид, – сказал метрдотель. – Возьмите шляпу или хотя бы маску.
Госпожа Трехо решила взять фиолетовую шляпу, и метрдотель одобрил ее выбор. Беба нашла, что вполне сойдет диадема из посеребренного картона с красными блестками. Метрдотель ходил от столика к столику, раздавая маскарадные украшения, объясняя резкое (и столь естественное) понижение температуры и записывая заказы на кофе и другие напитки. За пятым столиком, где с сонными лицами сидели Нора и Лусио, дон Гало и доктор Рестелли делали последние поправки в программе вечера. С согласия метрдотеля вечер было решено провести в баре; хотя бар и был меньше столовой, он обычно отводился для такого рода празднеств (они последовали примеру предыдущих пассажиров, чьи нордические имена и отзывы остались в альбоме). Когда подали кофе, сеньор Трехо покинул свой столик и торжественно присоединился к организаторам вечера, которые составили теперь триумвират. С сигарой в руке дон Гало еще раз проверил список выступающих в концерте и передал его остальным.
– Я вижу, наш друг Лопес будет развлекать нас фокусами, – сказал сеньор Трехо. – Прекрасно, прекрасно.
– Лопес – незаурядный молодой человек, – сказал доктор Рестелли. – Оп превосходный преподаватель и столь же блестящий собеседник.
– Я рад, что нынешним вечером он предпочел развлечение в обществе, а не экстравагантные выходки, свидетелями которых мы были последнее время, – сказал сеньор Трехо, понижая голос так, чтобы Лопес не мог его услышать. – Положительно, эти юноши поддаются далеко не похвальному духу насилия, да, сеньоры, далеко не похвальному.
– Он просто рассердился, – сказал дон Гало, – и понятно, что кровь у него взыграла. Но вот увидите, как все успокоятся после нашего праздника. Немного повеселиться – вот что нужно. Разумеется, самым невинным образом.
– Именно, именно, – поддержал его доктор Рестелли. – Мы все согласны с тем, что наш друг Лопес явно поспешил с угрозами, которые ни к чему не приведут.
Лусио изредка поглядывал на Нору, которая внимательно рассматривала скатерть и свои руки. Он неловко кашлянул и спросил, не пора ли перейти в бар. Однако доктору Рестелли из достоверных источников было известно, что официант и метрдотель еще наводили там последний блеск, развешивая пестрые гирлянды и создавая обстановку, отвечающую духовным и культурным запросам.
– Вот именно, вот именно, – сказал дон Гало. – Духовные запросы – это как раз то, о чем я говорю. Словом, веселая вечеринка. А что до этих петушков, ведь дело не в одном юном Лопесе, то мы сумеем поставить их на место, дабы наше путешествие прошло без помех. Я прекрасно помню, как однажды в Пергамино, когда заместитель управляющего в моем филиале…
Раздались легкие хлопки в ладоши, и метрдотель объявил, что господа пассажиры могут пройти в праздничный зал.
– Похоже на наш Луна-парк во время карнавала, – сказал Пушок, восхищаясь разноцветными фонариками и шарами.
– Ах, Атилио, в этой маске я тебя боюсь, – прохныкала Нелли. – И зачем ты только выбрал эту гориллу.
– Ты давай занимай хорошее место и прихвати для меня стул, а я пойду разузнаю, когда наша очередь выступать. А где ваш братец, сеньорита?
– Где-нибудь здесь бродит, – ответила Беба.
– – Но он не приходил обедать.
– . Заявил, что у него болит голова. Он всегда любит корить из себя важную персону.
– Да какая там голова, – авторитетно заметил Пушок. – Просто немного свело мышцы после тренировки.
– Не знаю, – сказала Беба с презрением. – Мама совсем его избаловала, вот он и капризничает, чтобы его все упрашивали.
Но это не было ни капризом, ни головной болью. Фелипе дождался прихода ночи, не покидая каюты. Входил отец, довольный выигрышем в жарких карточных боях, и, приняв душ, снова уходил, затем на короткое время забегала Беба и с важным видом рылась в чемодане, разыскивая ноты. Валяясь в постели, куря без всякой охоты, Фелипе видел, как все больше густеет синева за иллюминатором. Он словно куда-то погружался вместе со своими бессвязными мыслями, сигаретой, которая оставляла во рту все более горький и липкий привкус вместе с судном, которое с каждым покачиванием точно все глубже опускалось под воду. Оскорбления, которыми он осыпал Рауля, утратили смысл от бесконечных повторений и только усилили его дурное расположение духа, сменявшееся вдруг приступом злобного самолюбия, и он вскакивал с постели, смотрелся в зеркало, решал, нарядившись в клетчатую красно-желтую рубаху, выйти на палубу с наигранно безразличным или, наоборот, воинственным видом. Но тут же снова вспоминал свое жалкое поведение, рассматривал руки, безвольно лежавшие на одеяле и не осмелившиеся разбить в кровь его морду. Он даже не спрашивал себя, действительно ли хотел разбить в кровь эту морду; он предпочитал снова и снова ругать его или предаваться фантастическим мечтам, в которых отважные поступки и истерические объяснения завершались каким-то сладострастным чувством, и он потягивался, закуривал новую сигарету или, бесцельно покружив по каюте, спрашивал себя, с какой стати он сидит здесь взаперти, вместо того чтобы присоединиться к остальным пассажирам, которые, наверное, давно ужинают. Но среди этих раздумий он не забывал о матери, ожидая, что она вот-вот нагрянет, обеспокоенная и напуганная, и обольет его пулеметной очередью вопросов. И, опять бросаясь па постель, он со злорадством думал, что все же в конечном счете одержал верх. «Наверное, он в отчаянии», – решил Фелипе, облекая наконец свои мысли в слова. Мысль о том, что Рауль мог отчаиваться, казалась почти невероятной, и все же это, наверное, было так: ведь он выскочил из каюты, точно ему угрожала смертельная опасность, белый как бумага. «Белый как бумага», – подумал он с удовольствием. А теперь, наверное, один-одинешенек грызет кулаки от злости. Но нелегко было представить себе Рауля таким; всякий раз, когда он пытался подвергнуть его самым тяжким унижениям, он видел спокойное, немного насмешливое лицо Рауля. Вспоминал, как он протягивал трубку и подходил погладить его по голове. Вероятнее всего, валяется сейчас на кровати, покуривая как ни в чем не бывало.