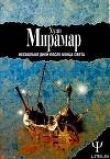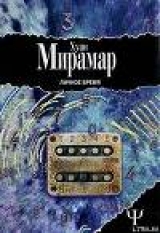
Текст книги "Личное время"
Автор книги: Хуан Мирамар
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Он так задумался, что не сразу услышал, как на улице кто-то кричит:
– Валера!
Валерой звали его приятеля, владельца дачи. Рудаки открыл дверь.
У калитки стоял отставной полковник Рудницкий – сосед приятеля по даче и старый знакомый Рудаки, и был отставной полковник навеселе.
– Аврам?! – воскликнул Рудницкий. – Вот так встреча! Ты что здесь делаешь? А Валера где?
– В Польше Валера, на заработках, – ответил Рудаки, – собирает там что-то, хмель, кажется, а я вот дачу решил проверить.
– Очень кстати, – сказал Рудницкий, хотя не понятно было, что именно кстати, и показал на бутылку, которую бережно прижимал к груди. – Это дело надо отметить – у меня как раз смородиновая наливочка созрела. И яблоки, – он продемонстрировал пакет с яблоками, открыл калитку и нетвердо направился к даче.
Они расположились за антикварным столом. Рудаки разыскал и вымыл стаканы, тоже антикварные – граненые, убрал остатки пиршества бродяг, и после второй Рудницкий уже рассказывал о своей непростой кафедральной жизни, где разболтанный штатский личный состав дисциплины не понимает и к мнению старших не прислушивается должным образом, и остановить его было невозможно.
Рудаки знал Рудницкого давно – учился с ним вместе, правда, на разных курсах и потом встречал то там, то тут. Как-то давным-давно в Дамаске напугал он Рудницкого страшно в местном аэропорту – тот летел куда-то через Дамаск на задание и стоял в ожидании своего самолета, сувениры разглядывал, а Рудаки в аэропорту свой человек тогда был – встречал и провожал «хубару»[20]20
Специалисты (араб.).
[Закрыть] советскую, подошел он тогда сзади к Рудницкому и хлопнул по плечу, а тот с испугу пистолет выхватил. Смеху потом было, но это потом, а сначала их обоих загребла сирийская военная полиция – хорошо, что у Рудаки «садык»[21]21
Друг (араб.).
[Закрыть] там был, полковник Аднан Башир. Но все это было страшно давно, в другой жизни, а сейчас полковник Рудницкий маялся на гражданке – преподавал язык в каком-то институте и никак не мог примириться с гражданской безалаберностью.
Они уже почти прикончили смородиновую, и Рудницкий принялся рассказывать какую-то тягучую историю из своей африканской службы, про комиссию какую-то из Генштаба, которой он чем-то не угодил, и его чуть было не отправили в Союз, а Рудаки, слушая его, вспомнил другую его историю, которую очень любил, так как была она не только смешной, но и будила в нем какое-то странное чувство, гордости что ли… Что ни говори, а великая была Империя, и над ее просторами и над просторами ее колоний и сателлитов действительно никогда не заходило солнце. А история была такая. В одной то ли африканской, то ли восточной какой стране служил незаметный советский капитан. Ничем он особенным не отличался – служил себе, как все, учил местных вояк суворовской «науке побеждать» в интерпретации генштабов-ских головотяпов, водку пил, когда была, или местное пойло, когда водки не было. Отличался он только тем, что пил он не только со своими боевыми товарищами, а был у него садык-собутыльник из местных, тоже капитан. Пили они с этим садыком разные напитки и говорили о разном, в том числе и о великом и всепобеждающем учении марксизма-ленинизма, и очень местный капитан это учение уважал.
Однажды произошел в этой стране государственный переворот. Ничего особенного наши военные в этом событии не видели – переворот в таких местах дело житейское. В общем, на улицах танки, патрули на джипах, наши в своей гостинице сидят – инструкций ждут. Вдруг к гостинице подъезжает джип под охраной бронетранспортера, выходит из этого джипа садык и собутыльник нашего капитана и просит провести его в номер, где живет наш капитан. Тот – ни жив ни мертв – встречает садыка на пороге, и садык ему сообщает, что президентский дворец он уже взял, телеграф взял, почту взял и просит дальнейших указаний.
Рассказывал Рудницкий, что капитана сначала в Союз услали, в отдаленный гарнизон – от греха подальше, а потом, когда его садык президентом той страны стал и с визитом в СССР приехал, сделали нашего капитана сразу полковником и орденом наградили. Вот такая была история, и Рудаки с удовольствием ее сейчас вспоминал.
Между тем отставной полковник закончил повесть о своей неравной борьбе с комиссией Генштаба, и к тому времени закончилась и смородиновая настойка и пора было по домам. Рудаки как-то расхотелось уже отправляться в проникновение – в голове после настойки шумело и в сон клонило. Рудницкий ушел на свою дачу – что-то там ему еще сделать надо было – и обещал попозже зайти за Рудаки, чтобы вместе ехать в город.
Рудаки вышел его проводить и, когда он ушел, сел на скамейку возле двери. Погода была солнечная, но не жаркая – любимая его осенняя погода. Он подставил лицо солнечным лучам и закрыл глаза. После прокуренной комнаты было приятно вдыхать чистый осенний воздух, в котором уже чувствовалась прохлада.
«Надо переодеться, и еще костюм спрятать надежно, и дачу закрыть», – лениво уговаривал он себя, но вставать не хотелось, а хотелось сидеть так и ни о чем не думать.
9. Солдат империи
Военно-учетная специальность лейтенанта Рудаки называлась длинно и загадочно – командир машины спецотряда по разложению и деморализации войск и населения противника (ВУС 2001), и виделись за этим названием ночные перестрелки и погони, кинжалы в зубах, летящие под откос поезда и вконец деморализованное население противника, не говоря уже о полностью разложившихся войсках последнего. И так оно и было или почти так.
– Не знаю, как там войска и население противника, – говорил командир двадцать седьмого мотострелкового полка полковник Ермаков, – а личный состав полка вы разложили полностью.
Говорил он это, обращаясь к офицерскому составу спецотряда, который внимал ему равнодушно, ибо подчинен ему не был – это раз – и завтра начинались маневры и никуда он без их отряда не денется, потому что маневры были для наблюдателей штабов дружественных армий и переводить кому-то этим наблюдателям надо будет – это два. Ну и три – это то, что офицерский состав мучился жестоким похмельем и равнодушно внимал всему, что не касалось текущего состояния их организмов.
Численностью состав был невелик. Чуть впереди строя, обратив к полковнику усатое лицо популярного во дворе кота-забияки и по-уставному поедая глазами начальство (хоть и не свое, но все же), стоял командир отряда Алик Ефимов по прозвищу Бес. На правом фланге стоял дылда Поросюк из республиканского МИДа, и больше о нем сказать нечего, ибо всем известно, что если человек из МИДа, то этим все сказано. Рядом с Поросюком, встряхивая головой, как лошадь от слепней, переминался с ноги на ногу Саня Бай-борода – постороннему человеку было бы не ясно, почему у лейтенанта Байбороды дергается голова, а все объяснялось просто – вчера на его очки кто-то сел и сломал дужку и теперь этим лошадиным движением головы он их поправлял. За Саней выпячивал аккуратный животик парторг отряда Коммунар Пупышев, и о нем тоже сказать больше нечего, потому что, если парторга зовут Коммунар, то что тут еще скажешь. За Коммунаром стоял Рудаки, и замыкала строй добродушная физиономия техника-лейтенанта Лени Крамаренко, которому быть в этом строю, вообще-то, не полагалось, а полагалось быть возле машин, но он был человек компанейский и, кроме того, как настоящий представитель Советской технической интеллигенции находящиеся в его ведении машины терпеть не мог.
После вчерашнего плохо было всем, кроме Коммунара, который, как и положено парторгу, не пил и пьянство осуждал, а состоялся вчера очередной день рождения Лени Крамаренко. Леня утверждал, что день его рождения никому не известен, так как родился он в товарном вагоне, в котором его мать уезжала в эвакуацию, – поезд уходил в тыл под сплошными бомбежками, и никто, конечно, день его рождения точно не запомнил, а записали позже, спустя месяц, наугад. Утверждал поэтому техник-лейтенант Крамаренко, что у него не день, а месяц рождения, который он имеет законное право отмечать каждый день этого месяца с боевыми товарищами. Вот и отмечали, не каждый день, но часто и организм иногда бунтовал.
Плохо было всему офицерскому составу отряда, но особенно плохо было лейтенанту Рудаки и не от выпитого накануне – выпил он как раз на удивление мало, а от странного, какого-то слишком уж реального и в то же время совершенно фантастического сна, который он видел накануне ночью и который не мог забыть до сих пор. Более того, ему почему-то казалось, что все, что он в этом сне увидел, он видел и в реальности, только вот, где и при каких обстоятельствах, не мог вспомнить, потому что такое и вообразить было трудно. Рудаки отгонял это навязчивое ощущение дежа вю, но оно упорно возвращалось.
Снилось ему, что вышел он из метро в центре, направляясь на площадь Калинина, где назначена у него была после работы встреча с Окунем-актером, вышел, толкнув неподатливую стеклянную дверь, и тут же застыл на месте от изумления, потому что прямо напротив входа увидел на столбе огромный, переливающийся яркими цветами щит, на котором изображены были фантастические горы, прямо из фильма «Золото Маккены», и два ковбоя на норовистых скакунах, а ниже была надпись, не менее фантастическая, чем горы: «Welcome to Marlboro country».
Когда пришел он немного в себя и огляделся, то захотелось ему во сне зажмурить глаза, чтобы не видеть всего того, что было у него перед глазами. А было у него перед глазами следующее: с левой стороны, там, где должна была быть страшненькая, пахнущая грязными тряпками «Бульонная», – роскошный, сияющий внутри ярким светом и рекламами кока-колы и прочих невиданных в Союзе напитков зал ресторана «Макдональдс» и справа, там, где должно было находиться какое-то официальное заведение, управление какое-то чего-то там, теперь было казино «Колесо фортуны».
Первая мысль у него была во сне, что оказался он за границей, и потом, когда проснулся, он тоже так сначала решил, но потом, вспоминая сон, понял, что это не так – надписи все вокруг были на языке Республики, а некоторые – по-русски, хотя были и английские надписи, но они были явно исключением.
Сон был длинный и насыщенный чудесами. Когда пришел он во сне на площадь Калинина, дивясь по пути роскошным витринам – такие витрины он не то что в Союзе, а и за границей – в Сирии или в Египте – не видел, когда пришел он на перекресток улицы Карла Маркса и Креста и спустился в подземный переход, чтобы перейти к Почтамту, где должен был ждать его Окунь, то вместо привычного загаженного перехода с постоянно дежурившим там нищим алкоголиком Беней предстал перед ним огромный подземный зал, накрытый прозрачным куполом, и вели вниз, в этот зал, бесшумные медленные эскалаторы, и когда ступил он робко на движущиеся ступени и привезли они его в этот зал, то оказался он опять среди витрин, еще более роскошных, чем те, что видел по дороге, и в витринах находились разные товары, в советской действительности совершенно немыслимые, но самым немыслимым и фантастическим были не они, а был он сам, точнее, его отражение в огромном зеркале в одной из этих витрин.
Видел он в этом зеркале человека не молодого, но и не очень старого с седой аккуратной бородкой, одетого в длинный, до щиколоток, какой-то сногсшибательно заграничный белый плащ, слегка помятый с небрежной такой элегантностью; на шее у этого человека с той же небрежной элегантностью был повязан черный шарф, и на ногах у него были блестящие черные длинноносые туфли.
Рудаки знал, что никак не мог он быть этим элегантным иностранцем, и в то же время во сне был абсолютно уверен, что в зеркале отражается именно он – профессор Аврам Рудаки. Почему-то этот титул или – как там? – звание «профессор» больше всего напугало его во сне, и лейтенант Рудаки проснулся с громким криком и едва не свалился со своей верхней койки на спавшего под ним Крамаренко.
– Чего ты орешь, как резаный? – лениво поинтересовался сквозь сон Крамаренко и, не дожидаясь ответа, перевернулся на другой бок и захрапел.
– Слышишь, Аврам, – опять спросил его сейчас Крамаренко, – ты чего так ночью орал? Всю казарму перебудил.
– Вас перебудишь, – ухмыльнулся он, – сон мне приснился, будто в карауле стою и враги на родную часть посягают – вот я и орал, чтобы вас в ружье поднять, но вас разве поднимешь.
– А что за враги?
– Империалисты, кто же еще?
– А… – сказал Крамаренко, и они замолчали.
После взбучки Ермаков их распустил до дальнейших распоряжений, и они разлеглись на траве в тени старого клена, росшего у стены казармы, – маневры начинались завтра и пока, до ночной тревоги, которая в общем-то была тайной, но о которой все давно знали, делать им было нечего.
– Может, это… по портвешку? – предложил Байборода, но предложение не получило поддержки – жарко, а Коммунар, читавший «Правду», бросил поверх нее на Байбороду суровый, исполненный укоризны взгляд.
Рудаки лежал на спине, заложив руки за голову и прикрыв лицо пилоткой, и думал тяжкую думу о тех странных вещах, которые происходили с ним и вокруг него, думал и не мог решить, что было более странным – то, что происходит с ним, или та суета, которая намечалась вокруг его скромной персоны.
Началось все с того, что он сам напросился в армию, напросился, уволившись не так давно из армии подчистую после двух загранкомандировок, уволившись, казалось бы, окончательно и бесповоротно, – вдруг пошел и напросился.
Объяснить свой поступок он не мог ни самому себе, ни друзьям – В.К. смотрел теперь на него, как на слабоумного, – ни тем более Иве. Просто в одно, как он теперь понимал, отнюдь не прекрасное утро вместо того, чтобы идти на работу в свой институт, где служил он переводчиком, он вдруг взял и пошел в военкомат и разыскал там своего приятеля по Кофейнику «кофейного лейтенанта» Валю Усатова, заведовавшего офицерской частью.
Лейтенант Усатов был личностью неординарной далее для Кофейника, где неординарных личностей было много. Необычным было уже то, что был он единственным военным среди разношерстных завсегдатаев Кофейника, более того, являлся он туда иногда в форме, что расценивалось как вызов обслуживающим персоналом и не только. Официантка, носившая заслуженное прозвище Валька-стерва, как-то прошипела ему, швырнув на столик его скромный заказ:
– Форму позоришь!
Он улыбнулся своей доброй улыбкой и ничего не ответил.
Рудаки как-то спросил его:
– Почему ты в форме в Кофейник приходишь? Переоделся бы, и никто бы тебя не трогал.
– Далеко ехать переодеваться, – ответил Усатов, – а что Валька-стерва и другие думают, мне до лампы – устав заходить в форме в заведения общественного питания не запрещает.
Рудаки понял, что мнение окружающих действительно Вале Усатову «до лампы», и, тихо позавидовав, больше этой темы не касался.
Усатов был активным завсегдатаем Кофейника и всегда принимал участие в спорах и разговорах. Споры эти и разговоры были разнообразные, говорили и спорили обо всем: о литературе, о кино, о политике, только две вещи были в них постоянными – постоянно ругали власть и постоянно при этих спорах и разговорах организовывалась складчина на бутылку и происходил тайный разлив под столиком в кофейные чашки в нарушение красочного объявления, запрещавшего «приносить и распивать».
В общем, подводя черту под краткой характеристикой «кофейного лейтенанта» Усатова, можно сказать, что был он парнем добрым и компанейским, и в том, что Рудаки направился именно к нему проситься в армию, не было ничего удивительного.
Усатова его просьба, конечно, удивила – его подопечные офицеры запаса обычно от сборов уклонялись, как могли, но удивила умеренно.
– Вольному воля, – сказал он, – может, тебе и правда надо переменить обстановку. Давай я тебя на маневры пошлю – скучать не будешь. Ну как? Пойдет?
– Пойдет, – ответил Рудаки.
И вот лежал он сейчас на траве и размышлял о многом и, в частности, о том, какой бес его попутал напроситься на эти маневры, которые еще и не начались, а уже хочется, чтобы скорее закончились, и ответа на этот вопрос не находил.
Не находил он ответа и на другие вопросы, и вопросов таких было много. Вот, например, постоянно было у него ощущение, что все с ним сейчас происходящее однажды уже было, и часто воспринимал он происходящее так, будто не с ним все это происходит, а с кем-то другим, а он наблюдает со стороны, как в кино. Мало того, что он переживал все как бы во второй раз, часто ему казалось, что он знает, что должно произойти дальше, а это было уже черт знает что и сплошная мистика.
В данный момент, к примеру, был он уверен, что позовут его сейчас к начальнику сборов полковнику Грибичу, и чтобы проверить свое предчувствие, он сказал сидевшему на траве рядом с ним Байбороде:
– Что-то кажется мне, Саня, что меня сейчас к Грибичу дернут.
– Перекрестись, – рассеянно посоветовал Байборода, он чинил дужку своих очков с помощью трудно добытой у радистов проволоки, и было ему не до Рудаки и его предчувствий.
Правда, когда буквально через пару секунд прибежал водитель их машины сержант Петренко и объявил, что лейтенанта Рудаки в Первую часть вызывают, поднял Саня Байборода близорукие глаза от своего рукоделия и сказал, покачав головой:
– Ну, ты даешь! Прям Кассандра.
Рудаки не ответил и поплелся в Первую часть.
Плелся он в полной уверенности, что ждет его взбучка за «порочащий честь офицера проступок», и укрепил его в этой уверенности исполненный сочувствия и тревоги взгляд Петренко – смотрел Петренко тоскливо и сочувственно потому, что и сам был причастен к этому порочащему честь проступку, поскольку проступок был совершен как раз на его БМП.
А заключался позорный проступок в том, что стояла в том июне жуткая жара и Рудаки подговорил товарищей поехать на БМП купаться на речку, что само по себе уже было серьезным нарушением, а тут еще дернул его черт самому сесть за рычаги. Но и это было бы ничего, если бы не проезжали они по краю танкодрома, где в уютной тени расположилась партячейка их отряда в составе Коммунара Пупышева, Поросюка и пары старослужащих из механиков за изучением материалов последнего партийного съезда, и надо же было так случиться, что расположились они как раз на пути следования БМП и свернуть Рудаки не мог, так как рычаги ходили туго, да и забыл он, за какой рычаг надо тянуть.
Бежали партийцы, как пресловутые зайцы перед ревущей боевой машиной, бежали, бросив газеты и личное имущество, поэтому переехал Рудаки газету с портретом генерального секретаря, пилотку Поросюка и планшетку Пупышева и должны были все эти предметы выступать как вещественные доказательства на готовящемся «суде офицерской чести». Особенно веской уликой был перееханный генсек – изуродован он был изрядно и выглядел жалко.
До речки они все же доехали и уже прыгали с брони в мутноватую воду, когда настиг их джип дежурного, и были доставлены они всей компанией к Ермакову, но дальнейших наказаний не последовало, так как начинались маневры и, как уже говорилось, переводить наблюдателям, кроме них, было некому. Поэтому был Рудаки сейчас абсолютно уверен, что решение отложить наказание было пересмотрено и ждет его «губа», а может, и что похуже, учитывая степень перекошенности лица генсека.
Правда, где-то в глубине души сомневался он, что вызов к полковнику был связан с последним эпизодом, где-то в глубине души или еще где сидело у него слово «Африка» и связанные с этим словом смутные образы каких-то озер, хижин на сваях и тощих собак. Он гнал эти образы, но они возвращались и исчезли только тогда, когда предстал он перед полковником Грибичем и тот сказал, нахмурив и без того грозно сросшиеся брови:
– Антисоветчиной пахнет ваша история.
– Случайно получилось, товарищ полковник, с управлением не справился, – сказал Рудаки, рассматривая свои запыленные сапоги.
– А сапоги тоже случайно не почистили? – поинтересовался Грибич.
– Как раз собирался, – ответил Рудаки.
Грибич молча покачал головой, а потом вдруг хлопнул ладонью по столу и сказал:
– Ну, ладно! У меня достаточно оснований, чтобы отдать вас под трибунал – есть заявления старшего лейтенанта Пупышева и лейтенанта Поросюка, они определенно заявляют, что вы намеренно направили машину на партячейку, стремясь нанести им физические повреждения или увечья, – он сделал внушительную паузу, а Рудаки подумал: «Сука, Поросюк! Ну, ладно Коммунар – ему по штату положено, а Поросюк – товарищ называется!». Грибйч между тем продолжил: – Однако, учитывая вашу молодость и искреннее раскаяние… Ведь вы раскаиваетесь? – поинтересовался он.
– Конечно, – ответил Рудаки и посмотрел в окно.
В окно была видна дорожка, ведущая от проходной к казармам, и по ней как раз шли лейтенанты Байборода и Крамаренко, судя по веселой походке и оттопыренным карманам, предложение Байбороды насчет «портвешка» было только что успешно реализовано.
Рудаки завистливо вздохнул, а полковник Грибич между тем продолжил свою тираду, и если опустить эпитеты, то из произнесенного полковником страстного монолога явствовало, что «дело о преднамеренном наезде на партячейку» – именно так назвал это дело полковник – приостановлено и лейтенанту Рудаки дается возможность искупить свою вину отличным выполнением боевой задачи в ходе предстоящих маневров.
«А как же тростниковые хижины, озера и прочая Африка?» – несколько удивлялся Рудаки, выходя от полковника после разноса, – он уже успел привыкнуть к своим постоянно сбывающимся предчувствиям, и то, что очередное его предвидение сейчас не сбылось, как-то немного удивляло и даже тревожило.
Однако ожидали его сейчас не тростниковые хижины и прочая экзотика, а вполне прозаические дела, среди которых одно было приятным – не ошибся, он и лейтенанты Байборода и Крамаренко действительно озаботились портвейном и вечером предстояла дегустация, а остальные дела были неприятными, но неизбежными, и самым неприятным из них была ночная тревога.
Не то чтобы лейтенант Рудаки особенно боялся этой тревоги – бояться там было нечего, а не любил он неопределенности: когда будет тревога, точно никто в отряде не знал, и это означало, что тебя разбудят, не известно когда среди ночи, и надо будет поспешно и неаккуратно одеваться, а потом куда-то бежать без завтрака и, что самое неприятное, даже без чашки чаю какого-никакого.
Рудаки армию любил за то, что делала она людей легкими и безответственными, даже и против войны не очень бы возражал – в ее средневеково-романтическом варианте, с обязательным завтраком перед боем, построением в карэ и… под барабанный бой. Но чтобы вот так – среди ночи и даже без чая!..
Однако все вышло не так уж и плохо. Во-первых, заснуть ему не удалось, и потому никакого внезапного пробуждения не было. Когда задребезжали звонки тревоги, он давно уже лежал без сна, слушая храп Крамаренко с нижней койки и перебирая в уме странные свои предвидения и сны. Он спрыгнул с койки и побежал умываться, увертываясь по дороге от полусонных и полуодетых воинов, тыкающихся туда-сюда.
Кроме него, в умывальной (она же туалет) никого не было, и он не спеша умылся и набрал в захваченную кружку воды для чая. Когда он вернулся к себе, боевые товарищи еще пребывали в разобранном состоянии, но в коридоре уже слышался львиный рык полковника Ермакова и скоро должно было появиться и их непосредственное начальство, поэтому с чаем надо было спешить.
У них с Крамаренко для чая было все необходимое – недаром Леня был инженером на каком-то секретном заводе – привез он с собой кипятильник-зверь, от которого свет в казарме сразу тускнел, зато вода закипала мгновенно. Когда в дверях их закутка появился Грибич и натужно заорал, они не только сами выпили обжигающего крепкого чаю, но и Саню угостили, и можно было и закурить.
Однако закурить удалось только возле гаража, где стояли их машины, зато закурить можно было со вкусом и не спеша, так как на гараже висел огромный замок, а ключ, как оказалось, был у прапорщика, который жил в городе. Послали нарочного за прапорщиком, но он приехал без ключа, долго ругался, что ему не сказали, что надо было взять ключ, и, отругавшись, снова уехал за ключом.
Когда их колонна наконец выехала, на дворе было уже позднее утро. Трясясь на заднем сиденье «газика», Рудаки в который уже раз думал о вечном и неизбывном армейском беспорядке, несмотря на который, все же удается иногда побеждать врагов, может быть, потому, что у тех беспорядка тоже не меньше. А потом начались маневры.
Если бы потом, спустя даже немного времени, скажем, через месяц, спросили бы Рудаки, что он помнит из того, что было на маневрах, то смог бы он вспомнить только несколько эпизодов. Запомнилось ему, например, как красиво стреляли танки трассирующими снарядами во время ночных стрельб – такой фейерверк он и по телевизору не видел; запомнилось, как пускали прямо над их позициями с самолетов ракеты «воздух-земля» и казалось, что такая ракета летит тебе точно между глаз, хотя цели у них были далеко, за много километров. Солдаты не выдерживали, выскакивали из окопов и бежали вслед за ракетами, они бы тоже бежали, если бы не было в селе, где располагался штаб, магазина и если бы не было в том магазине убийственного для организма плодово-ягодного вина – они пили это вино и смеялись над трусливыми солдатами, у которых не было денег, чтобы купить себе «Dutch courage».[22]22
Храбрость под влиянием выпивки (англ.).
[Закрыть]
А как-то и Рудаки испугался не на шутку. Во время рейда в тыл условного противника, где задание у них было разбросать листовки, спрятались они переждать светлое время в стогу и, естественно, скоро заснули. Проснулся Рудаки от толчка и вместо ожидаемого условного противника или, не дай бог, контролеров увидел перед своим носом суровый черный глаз и над ним зловещий рог и подумал спросонок, что оказался он в аду, несмотря на атеизм и робкие попытки вести праведную жизнь. Корова, видимо, испугалась еще сильнее, когда он выскочил из стога, размахивая автоматом, и поскакала в поле, задрав от испуга хвост.
Больше ничего он о маневрах не помнил, они как-то незаметно закончились и сбылось смутное ощущение Африки вплоть до тощих собак.