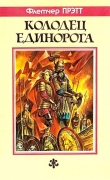Текст книги "В поисках единорога"
Автор книги: Хуан Эслава Галан
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 19 страниц)
Глава восемнадцатая
Долго ли, коротко ли, привел наш путь к горам, поросшим густым лесом, и пролегала через них лишь одна дорога – дважды мы видели, как по ней бредут вереницы рабов, нагруженных разными тюками и сосудами. Мелькали туда-сюда и другие люди, свободные в перемещениях. Мы же на эту дорогу выходить не отваживались, опасаясь, как бы меня не узнали – наверняка ведь Мономотапа разослал весть о моих особых приметах: светлая кожа, одна рука. Поэтому делали короткие изнурительные переходы по неровным скалам и горным лугам, продираясь сквозь колючие заросли, вечно тайком, словно беглые преступники. Так продолжалось два месяца, пока горы не остались позади. За все это время мы почти не зажигали огня, не только из страха быть обнаруженными, но также за неимением кремня и сухого хвороста для разведения костра. Воду порой приходилось пить из грязных луж, где гнездились комары, какие-то кусачие клопы и пиявки, норовящие вцепиться в гортань. Тем не менее мы продвигались вперед не ропща, уже привычные к скитаниям.
Потом нас вдруг прихватила лихорадка, и пришлось на несколько дней задержаться в пещере на границе горной цепи, так как я не мог ни есть, ни ходить, лежал без чувств, не приходя в сознание ни днем, ни ночью, и, казалось, смертный час мой близок. Черный Мануэль неустанно заботился обо мне, поил водой, чтобы изгнать недуг. В горячке меня преследовал образ Гелы, наши свидания в укромном уголке на берегу реки, где мы изведали столько счастья. Я будто бы снова был молод и весел, гляделся в водную гладь, как в зеркало, пока она, по своему обыкновению, расчесывала мне волосы и бороду, в которых седина еще едва пробивалась. И все зубы у меня были на месте, и члены сильны и подвижны, точно у горячего жеребца. Мы с Гелой катались по траве, сплетясь в объятиях, ее влажная кожа блестела, то подо мной, то сверху она с неизменным пылом принимала меня, когда мы уступали велению природы и сжигали друг друга, и сгорали сами в любовном огне. И после – сладкая истома, когда мы, утомленные и взмокшие, прижимались друг к другу, как щенки в лукошке, а над нами в бескрайнем небе раскаленный солнечный шар завершал свой мерный величественный ход, расплескивая лучи по горным отрогам и предупреждая нас о приближении ночи. Над вершинами потихоньку зажигались звезды, и воздух пронзал комариный зуд, заставляя нас покинуть берег. В бреду все это представлялось мне так живо, словно вновь происходило наяву. Прохладная вода унимала жар, и я облизывал сухие, потрескавшиеся губы, ощущая на них солоноватую влажность женской кожи.
Позже, когда рассудок и память стали возвращаться, я думал, что именно эти видения о Геле укрепили мой дух и не дали сгинуть подобно всем нашим товарищам. Но потом рассуждения эти сменились другими: быть может, Гела так часто вспоминается мне по причине привязанности между мужчиной и женщиной, той, что поэты зовут любовью? Сердце разрывалось, когда я говорил себе, мол, никакая это не любовь, всего лишь бредовые сны тяжелобольного, а если и любовь, то как жестоко, как неблагодарно, как вероломно я с ней расстался! Однако, уже полностью владея собой и силясь выбросить из головы Гелу, я упорно направлял свои помыслы к донье Хосефине – и стоило вообразить, как я предстану перед нею беззубым, лысым калекой, как меня охватывал стыд. В утешение я твердил себе, что пострадал во имя короля, что служил верой и правдой и что возлюбленная станет достойной наградой за мои подвиги.
Иной раз в приливе бодрости я пускался в долгие разговоры с Черным Мануэлем, объяснял, что, добравшись до страны мавров, мы должны будем отыскать какого-нибудь купца, имеющего связи с собратьями из Гранады, который обеспечит нам богатого посредника и одолжит денег на удобный и безопасный обратный путь. И поплывем мы домой на большом корабле, а потом присоединимся к неторопливому каравану, не ведая иных забот, кроме как доставить в сохранности рог единорога и останки фрая Жорди. А уж в Кастилии добрые люди нам помогут, на встречу с королем верхом поедем, как подобает. Занятно будет посмотреть, какой наездник выйдет из Черного Мануэля, ни разу в жизни не видевшего лошади. Но пешком идти, как слуге, я ему не дам и при дворе никому не позволю смотреть на него сверху вниз только потому, что он негр. Наоборот, представ перед королем, скажу во весь голос, чтобы и канцлер, и благоухающая мускусом королевская свита слышали: вот этот чернокожий – посмотрите на него – самый благочестивый из христиан и самый верный из подданных нашего короля, ибо ради исполнения его воли покинул свою родину и свой народ, стал жить с нами, перенес бесчисленные страдания, лишения и опасности, не требуя ничего взамен, сотню раз рисковал головой, чтобы лучше послужить тому, кого знал лишь понаслышке, испил и отведал с нами всю горечь бытия. И отныне, добавлю в заключение, я объявляю его равным себе, моим товарищем, и прошу у повелителя милости: пусть женит его на своей подданной и отдаст ему все, что предназначалось мне в награду, – ведь если король обязан ему рогом единорога, то я обязан ему жизнью.
Предаваясь подобным мечтам, беседуя и строя планы, мы продолжали путь по более приветливым ландшафтам и шли так еще два месяца. Попадались нам на глаза и туземцы, не похожие на обитателей Зимбабве, с более светлой кожей, поэтому прятаться мы почти перестали и выбирали дороги получше, упорно двигаясь на восток.
И вот однажды в удушающе жаркий день с вершины большого лесистого холма мы увидели синее море. Я исполнился такого ликования, что слезы навернулись на глаза и хлынули бурным потоком. Казалось, море означает конец всем нашим трудам и горестям, казалось, теперь-то мы скоро будем среди христиан. Все пережитые злоключения и несчастья, измучившие нас до последнего предела, померкли перед этим несказанным блаженством: смотреть на море и представлять себе, что по другую его сторону нас ждет Кастилия. Черный Мануэль, глядя на мои безудержные рыдания, тоже расплакался. Он разделял мою радость – и я крепко обнял друга и про себя повторил клятву отблагодарить его как можно достойнее. Должен отметить, ничто так не объединяет людей, как беды и опасности. Обмениваясь словами утешения, мы начали спуск; Мануэль шел впереди, где нужно, вырезал просеку кинжалом, чтобы мне легче было продираться через заросли тростника и чертополоха. Я плелся за ним, чахлый и обессилевший, едва не падая на каждом шагу. Холм остался позади, а я все любовался сверкающей гладью спокойного моря и мягкой линией побережья, вспоминая устье Гвадалквивира. Я понятия не имел, где мы находимся, но подозревал, что столь долгое путешествие на восток, вероятно, привело не к нашему морю, но к океану на противоположном краю земли. Впрочем, я был счастлив уже тем, что добрался до него, и все расчеты отложил на потом, а сейчас как мог старался ускорить шаг. И вот мы вышли на берег – среди мельчайшего песка там и тут виднелись ракушки всевозможных размеров и форм. Заночевали мы в яме, которую вырыли прямо в песке, и вряд ли на самых роскошных пуховых перинах нам спалось бы лучше. На другой день мы нашли несколько дохлых рыб, выброшенных приливом, крупных и не очень, и съели их сырыми, поскольку развести огонь было совсем не из чего. Подтухшие смердящие рыбины не замедлили вызвать весьма докучливую хворь – двое, если не трое суток маялись мы коликами в животе да поносом. Но, несмотря на боли и слабость, Черный Мануэль каждый день уходил в лес и возвращался с плодами, свежими побегами и травами, которые, как он знал, целительны в подобных случаях. Вскоре, немного оправившись, мы решили идти вдоль берега на север – у меня было ощущение, что так до Кастилии получится ближе. Ни за что на свете я теперь не согласился бы удалиться от моря, ибо сердце подсказывало, что только здесь можно рассчитывать на какую бы то ни было помощь, ежели Господь наш и Спаситель соблаговолит ее ниспослать, невзирая на бессчетные мои оплошности и прегрешения. Песок тянулся вдаль, нескончаемый, как мавританская пустыня, а то и более, день пролетал за днем, и мы останавливались лишь для того, чтобы поесть рыбы, какая выглядела не слишком вредоносной. Ни единого раза ни души нам по пути не встретилось, хоть порой и мерещились люди где-то за деревьями, и тогда Черный Мануэль кричал и махал руками, но никто не отзывался.
Прошло, наверное, чуть больше месяца с тех пор, как мы достигли моря, когда однажды вечером мы заметили далеко впереди огоньки, мерцающие в такт дуновениям ветерка – так видятся костры с очень большого расстояния. Но мы были страшно утомлены и добираться до них не стали, выкопали, как обычно, яму в песке да завалились спать. Однако сон не шел ко мне, и я поднялся прогуляться по берегу. Пытался снова разглядеть костры, но они уже погасли. Списывать их на игру воображения я не торопился, видели-то мы огоньки вдвоем с Мануэлем. Наутро мы тронулись в путь весьма резво, понукаемые желанием дойти до вчерашних костров; когда же остановились перекусить, Черный Мануэль, направившийся под сень деревьев за плодами и побегами, быстро вернулся с сообщением, что обнаружил тропинку, протоптанную явно людьми, а не животными. Позже мы наткнулись на отчетливые человеческие следы, и последние сомнения рассеялись: накануне вечером где-то вдали горели костры. Это заставило нас ускорить шаг, и еще до наступления сумерек мы вступили в чрезвычайно многолюдный городок под названием Софала. Нас окружало великое множество домов из досок и тростника, более прочной постройки, нежели привычные нам негритянские жилища, из чего я заключил, что местные, вероятно, живут здесь постоянно, а не переезжают каждые несколько лет, как иные их сородичи. Эти самые местные выбежали посмотреть на нас целой толпой; кожа у них была светлее, чем у населения внутренних областей, но губы такие же толстые и ноздри расплющенные. Обращенных к нему слов Черный Мануэль не понимал, но вскоре подошли еще люди, с которыми он таки смог объясниться. Беседа тянулась довольно долго: Мануэль рассказал, кто мы и что нам довелось пережить, а негры рассказали, что к ним иногда приплывают на больших кораблях с севера иноземцы со светлой кожей, хоть и не такой светлой, как у меня. Они покупают здесь золото, орехи кола и другие товары. „Мавры! – обрадовался я про себя. – Раз они так близко, а может, и прямо тут где-то сыщутся, значит, возвращение в Кастилию не за горами“. Однако следующее известие меня огорчило: оказалось, корабли на каждое такое путешествие затрачивают по два-три года, поэтому нам ничего не остается, кроме как смириться и ждать.
Делать нечего, я позволил отвести себя в сарайчик, набитый какими-то корзинами, где нам предоставили ночлег. Утром явились трое негров, разбудили нас, дали поесть лепешек и проводили на обширную площадь посреди городка, к солидному дому из кирпича-сырца, выкрашенному в бело-голубой цвет. Как мы догадались, это был дом здешнего алькайда. Из-за двери показался важный старик в льняной сорочке и шляпе из пальмовых листьев и принялся дотошно задавать те же вопросы, что задавали нам его подданные накануне. Черный Мануэль обстоятельно отвечал при помощи одного из тех, кто владел его наречием. Когда алькайд узнал все, что хотел, и, видимо, в целом остался доволен полученными сведениями, он повернулся к нам спиной и, не обронив ни слова напоследок, ушел в дом. Негр, исполнявший роль посредника в переговорах, объяснил нам, что это старейшина Амаро, он-де разрешил нам поселиться в городке и жить как сумеем, главное – не воровать.
В Софале я прожил полтора года. В первые дни местные стекались поглазеть на меня, подивиться на мою белую кожу, и малышей с собой тащили ради столь занимательного зрелища. Они давали нам лепешки и покатывались со смеху, глядя, как мы их едим, – до того простодушны были эти люди. Но постепенно новизна выветрилась, все ко мне привыкли и перестали обращать внимание. Мы устроились меж глинобитных оград на самой окраине городка. Черный Мануэль соорудил лачугу из веток и тростника, а в ней два нищенских ложа. За неимением лучшего жилья – вполне сносное пристанище для двух измученных скитальцев. Здесь, решил я, мы и подождем мавританских судов, чтобы уплыть домой, если найдется добросердечный капитан, который согласится взять нас на борт, удовлетворившись обещанием оплаты по прибытии.
Софала – портовый городок, куда стекается золото из шахт, расположенных в глубине страны. Многие жители промышляют рыболовством, переправляют солонину и соленую рыбу к шахтам и неплохо на том зарабатывают. Черный Мануэль ежедневно ходил в лес, расставлял силки и приносил домой дичь, а также съедобные растения и фрукты в достаточном количестве, чтобы прокормить нас обоих. Если же оставались излишки, я на следующий день выходил на площадь и обменивал их на муку, сало или какие-нибудь нужные в хозяйстве мелочи – так, с пятого на десятое, мы и перебивались. А мешок с костями для пущей сохранности я закопал в землю поблизости от нашей лачуги.
Первые месяцы в Софале нам жилось не так уж плохо – мы восстанавливали силы, как телесные, так и духовные, да упражнялись в терпении, ожидая прибытия кораблей. Я частенько подумывал о том, как сложится моя жизнь по возвращении в Кастилию и как примет меня повелитель наш король – усадит рядом с собой у выходящего на реку окна в алькасаре Сеговии и попросит в мельчайших подробностях поведать обо всем, что нам довелось выстрадать и совершить в Африке ради исполнения его воли. А потом велит отслужить в главной церкви города мессы по погибшим, осыпет милостями монастырь фрая Жорди, а нас одарит с присущей ему искренней щедростью. Сжалившись над моим увечьем, он обеспечит мне еду и кров до конца жизни… даже нет, не так – назначит своим летописцем, что устроило бы меня как нельзя лучше. Предаваясь подобным грезам, я каждую ночь созерцал звезды, столь крупные, что, казалось, можно дотянуться до них рукой. И еще представлял себе свое триумфальное возвращение в Марракеш – как я отыщу дом Альдо Манучо и госпожа моя донья Хосефина вскрикнет, завидев меня из окошка, и, бросив свое рукоделие, поспешит в мои объятия. Ведь она столько лет считала меня погибшим и все это время неустанно оплакивала, не снимала траура, точно вдова. Тут вдруг она заметит, что у меня недостает одной руки, и горько зарыдает, лаская мою горемычную лысую голову, сморщенные уши, запавшие глаза, белые шрамы по всему телу. А потом продолжит плакать уже тихими слезами, которые в мое отсутствие годами сдерживала и прятала в сокровенных тайниках души. И я заплачу вместе с нею, и сольются наши слезы, а там и наши губы, и с безграничной нежностью соединимся мы на ложе. Тем временем Альдо Манучо распорядится, чтобы никто нам не мешал и чтобы, когда мы соблаговолим покинуть опочивальню, нас ждал накрытый стол с изысканной трапезой. Отдохнув как следует, мы с почестями вернемся в Кастилию – я так и видел себя гарцующим на коне по дороге к замку господина моего коннетабля в сопровождении дамы моего сердца. Прямой что твой посох, я надменно застыл в седле, туго перепоясанный, ноги в стременах как влитые – но я нет-нет да поглядываю вниз: все ли безукоризненно? – сапоги начищены до блеска снизу доверху, культя за отворотом камзола, словно бы рука там на месте, на голове итальянский берет под шляпой с широкими полями, могучий скакун занимает собою едва ли не всю улицу…
Не забывал я в своих мечтах и Черного Мануэля. Он поедет со мной как друг, а не слуга, и я даже воображал, как с ледяным высокомерием осаживаю придворного, посмевшего отозваться о нем с презрением, а король, осведомленный о его подвигах, поощряет и хвалит мой поступок, ибо ему известно, сколько сделал этот чернокожий человек на королевской службе, еще не являясь даже его подданным. Но теперь, когда Мануэль ступил на землю Кастилии, подданство ему даровано, и притом почетное.
Однако воплотиться в жизнь всему этому было не суждено. Однажды вечером я не дождался Черного Мануэля домой и, обеспокоившись, пошел спрашивать о нем в городе, но и там ничего не знали. Не найдя его нигде, я призвал на помощь двух-трех негров, с которыми он приятельствовал, и мы отправились за ним в лес, откуда вернулись к ночи несолоно хлебавши. С рассветом мы уже вновь прочесывали лесные тропинки и в конце одной из них обнаружили его труп с перерезанным горлом. Всю его скудную одежку кто-то унес, он лежал в чем мать родила. Стервятники, разные мелкие падальщики и огромные муравьи, что водятся в тех краях, уже начали свое пиршество.
Равное по силе горе я испытывал лишь в тот день, когда умер мой отец. Чувство одиночества и беспомощности сковало меня по рукам и ногам – кто бы мог подумать, что Черный Мануэль станет мне таким незаменимым другом, такой надежной опорой? Потом мы вырыли ему глубокую могилу и похоронили, а я поставил сверху крест из двух дощечек и помолился изо всех сил как умел за упокой его души, ведь он жил и умер как христианин – лучший из лучших. Мне так и не удалось выяснить, ни кто его убил, ни по какой причине. В Софале подобные случаи не редкость, но никто не придает им значения, ибо на землях негров жизнь человеческая ценится куда меньше, чем у нас.
Глава девятнадцатая
Оставшись один, без всякой поддержки, я снова начал терять силы, мое здоровье ухудшалось день ото дня. Приходилось самому ходить в лес и добывать себе пропитание, что получалось у меня не лучшим образом – шутка ли, с одной рукой ставить силки и карабкаться по деревьям, чтобы нарвать фруктов. Так что я все сильнее тощал и отчаивался и опустился до столь плачевного состояния, что и самому теперь не верится. Наверное, и умер бы, если б не друзья Черного Мануэля – они иногда меня навещали, приносили просяные лепешки и еще кое-какую еду. Я меж тем уже овладел немного местным наречием и потчевал их историями о Кастилии, которые казались им невероятными и даже пугающими. Рассказывал о лошадях, о том, каков из себя король Энрике, о городах, обнесенных стенами, о церквах, мостах и мельницах.
Однажды утром городок огласился истошными криками, а на морском берегу поднялась страшная суматоха. Причиной тому служили возникшие на южном горизонте громадные корабли, каких здесь никогда не видывали. Я взбежал по откосу на холм, с которого хорошо просматривалось море, и углядел вдали что-то белое, но ослабевшее зрение не позволило разобрать, паруса это или просто низкий туман, часто застилающий воду при здешней жаре. Однако позже, к полудню, начали вырисовываться очертания парусов, и сердце мое бешено заколотилось в груди – похоже, корабли были христианские, поскольку символ, украшавший величественный прямоугольник паруса на первом из них, самом большом, весьма напоминал огромный алый крест. И если так, то к нам плыли мои единоверцы, а значит – честные люди. Уже празднуя свое спасение, я рухнул на колени и возблагодарил Пречистую Деву, святого Луку и всех прочих святых. Затем помчался туда, где хранились в земле кости фрая Жорди из Монсеррата вместе с рогом единорога, и в лихорадочной спешке выкопал мешок, ломая ногти и молясь как одержимый. Не хватало никаких слов, чтобы выразить всю признательность Господу Богу за то, что выручил меня из беды и послал христианских мореплавателей туда, откуда я уж и не чаял выбраться живым. Подхватив кости, я спустился к кромке воды. Корабли подошли уже так близко, что можно было различить матросов, прильнувших к высоким бортам и суетящихся на полубаке. Всего я насчитал четыре корабля, из тех что зовутся каравеллами, причем передний несколько превосходил размерами остальные. И направлялись они прямиком к нам. Несметную толпу негров, собравшихся на песчаном берегу, до сих пор кричавших и махавших руками, по мере приближения каравелл охватывала робость – надо полагать, привычные им мавританские суда были и сами по себе меньше, и оснащены скромнее. Поэтому негры постепенно отходили от моря, а особо трусливые даже побежали прятаться в лес. В итоге я остался у прибоя один со своим мешком костей на плече и попытался было махать свободной рукой, чтобы подать сигнал морякам, – все время забывал, что у меня ее нет. Взметнулся пустой рукав, и узел на его конце шлепнул меня по лицу. Вопреки здравому смыслу я вдруг устыдился того, что предстану перед единоверцами калекой, но вскоре неловкость рассеялась, вытесненная переполнявшей меня радостью. Я принялся бегать туда-сюда вдоль линии прибоя с отчаянными воплями – должно быть, слышавшие меня решили, будто я рехнулся и впал в безумие. Корабли тем временем приближались своим мерным ходом, и наконец бросили якоря в четырех арбалетных выстрелах от песчаного берега, и спустили на воду шлюпки, полные вооруженных стрелков, среди которых мелькали несколько бомбардиров с мортирами. Шлюпки подошли на веслах к тому месту, где я стоял, и до меня донеслись громкие голоса, вопрошающие, кто я такой. Бросившись прямо в воду, я стал, рыдая, обнимать тех, что высадились первыми, целовать кресты и медальоны, висевшие у них на шеях. Поначалу я принял коренастых смуглых стрелков за кастильцев, но после выяснилось, что они португальцы. Командовал ими помощник капитана по имени Жоан Альфоншу ди Авейруш. Он долго беседовал со мной на берегу, выспрашивая, как я сюда попал. Судя по всему, он был удивлен и раздосадован тем, что встретил кастильца в этих краях. Он то и дело повторял свои вопросы, как будто рассчитывал поймать меня на лжи. Но тут подошел старейшина Амаро, в некотором роде градоначальник Софалы, и Жоан Альфоншу при моем посредничестве вступил с ним в переговоры. Он подарил старейшине несколько ниток бус, зеркальце и еще какие-то мелочи, что тот воспринял как величайшую милость, и оба приступили к обсуждению своих дел, потратив на это добрых два часа. Местные жители притащили солонины для гостей и уже не удивлялись светлой коже христиан, поскольку свыклись с моей наружностью и быстро сообразили, что к ним пожаловали мои соотечественники. Потом все тот же помощник капитана велел двум стрелкам переправить меня на корабль Бартоломеу Диаша [18]18
Бартоломеу Диаш– реальное историческое лицо, португальский мореплаватель, возглавлял в 1487–1488 гг. экспедицию, исследовавшую юго-западное побережье Африки в поисках пути в Индию.
[Закрыть]. Они усадили меня в маленькую шлюпку и принялись грести что есть мочи – к тому времени поднялись волны, весьма затруднявшие путь.
Наконец мы достигли каравеллы, носившей имя „Пресвятая Троица“. Сверху нам сбросили трап, и с чужой помощью я сумел его одолеть. На борту матросы ходили босиком и чуть ли не нагишом, лишь десять-двенадцать стрелков носили сорочки и обувь. Среди них выделялся солидный муж, годами постарше прочих, с аккуратно подстриженной бородкой, благопристойно облаченный в легкий камзол, – судя по всему, адмирал этой флотилии. Так и оказалось; вскоре я узнал, что зовут его Бартоломеу Диаш. Когда один из моих провожатых доложил, кто я такой, откуда взялся и почему жил среди чернокожих в Софале, адмирал скривился, словно услышанное пришлось ему не по вкусу. Немного подумав, он приказал тем двоим возвращаться на берег, а меня оставить на корабле. Затем подошел ко мне и, обратившись на кастильском языке, пригласил в свою каюту. На удивление просторная, с двумя задраенными иллюминаторами над поверхностью воды, адмиральская каюта располагалась под кормовой надстройкой. Хозяин предложил мне сесть и начал в мельчайших подробностях допытываться, как меня занесло в такую даль, какова цель моих странствий и чьи это бренные останки лежат у меня в мешке. (В мешок уже не раз заглядывали Жоан Альфоншу и его товарищи; будучи по характеру людьми суеверными, при виде его содержимого они тотчас же с содроганием возвращали мне мое имущество.) Никто так и не заметил, что помимо крупных костей и черепа фрая Жорди там притаился еще и рог единорога, и я на протяжении всего путешествия предусмотрительно молчал о нем, ибо не хотел, чтобы сокровище, добытое ценой стольких трудов и человеческих жизней, досталось португальскому королю.
Бартоломеу Диаш расспрашивал о моей родине и о многом другом до самого вечера, когда, уже в темноте, вернулись с берега шлюпки, нагруженные тюками с разнообразным товаром, купленным в Софале. На корабле зажгли фонари, и при их свете экипаж поужинал сухими галетами, вяленым мясом и салом. Мне выдали такой же паек, как и всем матросам, среди которых я сидел, ловя на себе любопытные взгляды. Но поскольку Бартоломеу Диаш распорядился, чтобы никто со мной не заговаривал, они принялись болтать между собою на своем португальском языке – я понимал почти половину их речей, – старательно делая вид, будто меня здесь нет. От моего же внимания не укрылись следы кнута на спинах многих матросов, их длинные бороды и отросшие волосы, как и иные признаки неблагополучной судьбы. Впоследствии я узнал, что это и в самом деле осужденные из королевских тюрем, вызвавшиеся, дабы скостить себе срок, плыть в неведомые края, куда вольные моряки идти отказывались, опасаясь сгинуть навеки.
После ужина ко мне подошел один из стрелков и отвел в каюту адмирала. Там Бартоломеу Диаш держал совет с Жоаном Альфоншу и еще двоими – то ли помощниками, то ли капитанами других каравелл. Похоже, их весьма обеспокоила встреча со мной, из чего я с уверенностью заключил, что запрет португальцев на морские путешествия дальше страны мавров, о котором мы слышали, когда садились на корабль, идущий в Сафи, по прошествии стольких лет не утратил силы. Один из помощников спросил на своем языке (не подозревая, что я могу его понять), не разумнее ли будет перерезать мне глотку и сбросить труп за борт. Но Бартоломеу осадил его суровым взглядом и ответил, что не подобает так поступать с христианином, который столько выстрадал, служа своему королю. Следует, заключил он, отвезти меня королю Португалии, дабы тот решил мою судьбу, а пока обращаться со мной по-хорошему и выделять паек, положенный рядовому матросу. Остальные охотно согласились; тот, что предлагал меня убить, даже смутился и стал оправдываться: мол, он имел в виду лишь сохранить тайну морских экспедиций, совершаемых по велению португальского монарха. Так, с пятого на десятое, я улавливал обрывки беседы и все больше убеждался, что флотилия эта под строжайшим секретом исследует побережья, куда испокон веков не ступала нога христианина, в поисках источника золота и пряностей. Означенные поиски издавна составляли предмет яростного соперничества между Кастилией и Португалией, притом португальцы нас сильно опережали, оттого и всполошились, обнаружив кастильца так далеко. После совещания меня отвели на ночь в каморку, набитую веревками, кипами пакли и свернутыми парусами, где я устроил себе лучшую постель, в какой мне довелось спать за долгие годы, и, убаюканный мягким покачиванием волн, погрузился в столь глубокий и блаженный сон, что и стреляющая над ухом мортира не смогла бы меня разбудить.
На следующее утро я проснулся поздно. Солнце стояло уже высоко, и корабль резво бежал вперед, подталкиваемый ласковым морским бризом, спешащим на сушу и надувающим попутно наши паруса. Выглянув из своей каморки, я увидел, что мы держим курс на юг и что остальные корабли тоже идут на хорошей скорости, вспенивая воду вокруг себя. Матросы пели песни, занятые каждый своим делом, а адмирал наблюдал за ними с помоста на кормовой надстройке. Казалось, все довольны, что возвращаются домой. Заметив, что я вышел на палубу, адмирал поманил меня к себе и, когда я подошел поцеловать ему руку, сообщил по-кастильски, что меня везут к королю Португалии, который и определит мою дальнейшую участь. А до тех пор я могу свободно передвигаться по судну, запрещается мне лишь спрашивать о чем бы то ни было касательно цели данного путешествия. На любые другие темы беседовать разрешается, рассказывать о себе тоже. Мы еще немного поговорили о том о сем; узнав, что я умею читать и писать, потому как в прошлом был не только оруженосцем, но и летописцем коннетабля кастильского, адмирал очень обрадовался и проникся ко мне уважением. Теперь он смотрел на меня с таким изумлением, словно впервые увидел по-настоящему, а до сего мгновения мои изможденные черты не привлекали его внимания. Тут же был призван некий Жоан Тавареш, его денщик, с наказом остричь мне бороду и побрить. Когда тот выполнил поручение и я обрел более подобающий христианину вид, мне дали зеркало, чтобы я оценил работу цирюльника. И чудилось мне, будто вижу себя вновь таким, каким покидал Кастилию, и от волнения слезы наворачивались на глаза. Бартоломеу Диаш положил руку мне на плечо и долго всматривался в морские волны, убегающие от нас за кормой. В вышине надрывались хриплые голоса чаек. Потом адмирал велел принести вина, и тот же Жоан Тавареш протянул мне деревянный кувшинчик, который я с наслаждением опорожнил до последней капли. Адмирал с улыбкой спросил, сколько же времени я не пил вина.
– Не могу сказать точно, сеньор, – ответил я. – Знаю лишь, что последний раз это случилось в тысяча четыреста семьдесят первом году от Рождества Христова, когда мы пересекли границу Кастилии, и прошло с тех пор, по моим подсчетам, лет пятнадцать.
Бартоломеу Диаш, посмеявшись от души, поправил:
– Не пятнадцать, друг мой, а все семнадцать. На дворе уже восемьдесят восьмой, не за горами Рождество Господа нашего Иисуса Христа, а там и новый год наступит.
Далее речь зашла об искусстве писцов и о поэзии. Адмирал оказался большим любителем виршей, предложил продекламировать ему стихи, какие помню наизусть, и слушал с искренним удовольствием. В последующие дни он не раз просил меня почитать ему вслух изящно выведенные тексты маленьких рукописных книг, хранившихся в его каюте, да и в целом обращался со мной ласково и всячески выказывал свое расположение. Едва это заметили остальные, как я сделался всеобщим любимцем. А посему на основании собственного опыта могу смело утверждать, что португальцы – люди добрые, сострадательные и чистосердечные. За все время, что я провел в их обществе, более того – у них в плену, ни один не причинил мне никакой обиды, напротив, все меня жалели и баловали.
Из матросских пересудов и из сделанных мною наблюдений я понял, каким образом снизошло на меня милосердие Господне. Накануне того дня, когда флотилия прибыла в Софалу и нашла меня, адмирал постановил прекратить продвижение на север и возвращаться обратно на юг. Но пока корабли разворачивались, вахтенный на марсе закричал, что видит вдали, на самом горизонте, мерцающий свет, и адмирал решил потратить еще один день, чтобы выяснить, что там за огни такие. А уж после того как меня взяли на борт и осмотрели Софалу, они наконец-таки развернулись и поплыли в южном направлении. Корабли неизменно держались побережья, которое помощники капитанов скрупулезно изучали, отмечая в своих журналах горы и холмы, леса и мысы, бухты и утесы и все прочее, что привлекало их внимание. Таким образом они составляли чрезвычайно подробные морские карты по заданию своего короля. На двадцатый день мы достигли реки, которую португальцы называли Восьмой. Ее широкое устье мощным потоком извергало в море жидкую грязь. Здесь суда ненадолго встали на якорь. К берегу отправились шлюпки, груженные бочками, дабы пополнить запасы воды. Хотя меня на сушу не пустили, „Пресвятая Троица“ стояла к ней так близко, что я прекрасно видел, как стрелки волокут издалека каменные глыбы и сооружают на песке внушительный курган. Им пришлось изрядно попотеть, пока их товарищи тягали туда-сюда порожние и полные бочки, снабжая корабли водой. Третья группа углубилась в лес пострелять дичи. Охотники то и дело возвращались кто с антилопами, кто с разной мелкой живностью и жарили мясо на берегу, поощряемые восторженными криками оставшихся на борту.