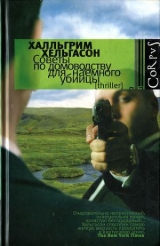
Текст книги "Советы по домоводству для наемного убийцы"
Автор книги: Хатльгрим Хельгасон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Глава 22. Отцова земля
Итак, я выхожу из врат ада, неся на руках невесомое тело возлюбленного отца, и нажимаю на Золотой звонок величиной с блюдце. Бог не торопится меня впускать. Видимо, мое заявление сначала должно быть одобрено Комитетом по Особым Делам, прежде чем лечь к Нему на стол.
Между тем Торчер приводит меня к себе в большой белый особняк на холме неподалеку от своей церкви и устраивает в подвале без окон, куда ко мне захаживают только он и его жена. Я узнаю, что у них трое детей. Я их не вижу, а они меня не слышат. Судя по всему, их дни проходят в гробовом молчании за чтением Библии. Как и мои. Каждое утро каратист-проповедник отмечает три главы, которые я должен прочесть. „Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию?“ [52]52
Послание к Римлянам 2:4.
[Закрыть]
Вот вам Торчер-терапия – этап третий.
Ханна, жена Торчера, является его секретным оружием. Вид у нее классический: дородная матрона с нежной кожей, симпатичными кожистыми морщинами, библейским бюстом и приятным голосом. Она бесшумно ходит по дому в бесцветных футболках и длинных юбках, с распущенными полуседыми волосами и без всякого макияжа. Если бы существовало телешоу „Мать Земля“, все софиты и камеры были бы направлены на нее. Можно подумать, что ее „конский хвост“ за день отрастает на пятьдесят сантиметров, а перед сном она его подрезает. И что каждое утро она сцеживается: необходимое для семьи молоко ставит в холодильник, а остатки посылает в фонд „Деловые женщины с пышной грудью“. Английский акцент у нее более ярко выраженный, чем у исландцев. Может, она из какой-нибудь теплой южной страны? Если другие женщины за мужьями – как за каменной стеной, то эта за своим – как гора. А еще она мне видится такой добрососедской христианской страной, которую ее муж, посол с пылающими углями вместо глаз, представляет на свой неуклюжий манер.
У Ханны есть один большой недостаток – чудовищный запах изо рта, плохо сочетающийся с исходящими от нее чудесными флюидами. Возможно, дело в библейских количествах горечи, выпитой ею за долгие годы. Быть замужем за Торчером – тяжелый удел.
И все же, если бы наш взвод на месяц застрял в горах и она была бы там единственной женщиной, я бы начал о ней мечтать на седьмой день.
На завтрак я получаю ломоть домашнего хлеба, который я целую, прежде чем отправить в рот. И стакан молока, тоже, надеюсь, домашнего. Обед ничем не отличается от завтрака. А вот на ужин мне всегда дают какое-нибудь мясо. Баранину, телятину или конину. Шматок животного, по-видимому зарезанного Торчером в гараже. Меня вернули в Ветхий Завет. На попечение Сары, жены Авраама. Комната без окон, жесткая постель, Библия для чтения. Мои дни незамысловаты, а ночи все более безмятежны.
Похоже, терапия дает результат.
Я отправил на тот свет сотню человек. Осталось еще одного. Каждый день ко мне в подвал спускается мой очкастый ангел-хранитель, чтобы послушать, как я читаю вслух Священное Писание. Хотя его тяга к насилию по-прежнему дышит Ветхим Заветом, взгляд его уже не так пылает. Или я притерпелся. Он посвящает меня в суть своей блестящей методы:
– У меня черный пояс по дзюдо и карате. Это основа. Я узнал Бога лишь в тридцать пять лет, когда встретил мою будущую жену. Я всегда повторяю, что женился на Спасителе. – Бородач произносит это с легким смешком. И тут до меня доходит смысл его фразы насчет освобождения сердца от крайней плоти. Когда ты женишься на Спасителе, тебе ничего другого не остается. Еще раз хмыкнув, он продолжает: – Мне повезло. – Его смех кажется мне отработанным. Как проповедник он научился приправлять свои речи короткими смешками. – Впрочем, я всего лишь поставил свои знания и опыт на службу Всевышнему. В Исландии мы говорим: против зла надо бороться злом.
Тщательно и спокойно разбирая все, что я успел наворотить, я постепенно, по частям, предаю это земле, как подобает. Моего отца в числе прочих. Помнится, один художник в грязной забегаловке на Ист-Сайде сказал мне как-то – мол, он пишет картины, чтобы у него пропало всякое желание видеться с бывшей женой. „Я должен освободиться от этого мусора, понимаешь?“ Он находился в процессе жесткого развода и раз за разом рисовал ее на холсте. Отвратительные расплывшиеся ню.
Пятнадцать лет я носил это в себе. Пятнадцать лет отец был в моей утробе этаким законсервированным плодом. Уж не потому ли я так раздобрел? Надо было наконец разродиться, чтобы впредь, как страус, от стыда не прятать голову в песок. Роды прошли ох как тяжело, но мне повезло с акушеркой – исландским проповедником в каратистском кимоно. Новорожденный выглядит так.
Шла к концу первая неделя моей службы. Вскоре после падения Вуковара мы – мой отец, Дарио и я – вызвались участвовать в большом наступлении на восточном фронте. Была поставлена задача – форсировать Вуку.
Но начальство не захотело отправить на передовую всю семью, так что мне было приказано остаться. „Сиди на позиции и стреляй в каждого поганца, который попадет в поле твоего зрения!“ Я провел целую ночь в обнимку с моей девственной винтовкой, стуча зубами от холода, а охранял я три палатки и один джип. В отдалении, как разъяренные насекомые, жужжали пули. Иногда огненная вспышка прошивала оголенный лес. Там, меся лесную грязь, мой отец и брат выполняли свой национальный долг. Я упорно старался отличить треск наших винтовок от сербских в надежде, что первые сумеют заткнуть вторых. Но оружие-то у нас у всех было одинаковое. Неподалеку от меня какой-то жирный козел отсыпался на удобном матрасе, захваченном у противника.
Пошел снег. Снежинки были тяжелые, серые, словно пропитавшиеся грязью. Я поймал одну на кончик языка – привкус грязи.
Ближе к рассвету я услышал голос и шорох в кустарнике. И мгновенно выпустил свой первый патрон, ставший моим боевым крещением. Я даже сам удивился собственной реакции. Хотя наступившая тишина показалась мне хорошим знаком, еще с полчаса, для верности, я просидел, держа палец на спусковом крючке, наблюдая за тем, как снежинки образуют маленький сугроб на прикладе и тают на руке. В какой-то момент мне почудился тот же голос, какое-то слабое бормотание в кустах. Я снова выстрелил. Ответа не последовало. Но бормоток – вот он. Я затаился еще на полчаса, на всякий случай еще пару раз пальнул, но неизвестный никак не желал угомониться. Тогда я пополз к кустам тихо, как змея. Наконец я увидел человека среди голых веток, разговаривающего с самим собой. На нем была наша форма. С предупредительным криком я побежал к кустам с винтовкой наготове.
И обнаружил отца с простреленным сердцем. Нижняя часть тела была вся запорошена снегом, как будто ноги уже омертвели. Лицо белое, а глаза огромные, как два яйца, которые при виде меня словно лопнули. Он лишь успел выдавить три буквы моего имени и испустил дух.
Я застрелил собственного отца и бросил издыхать, как раненого оленя. А когда, спустя час, все же отозвался на его голос, жизни в нем осталось на один слог. „Том…" В него я и превратился. Это было как проклятие.
Я по ошибке отстрелил вторую половину моего имени. И лучшую часть моей жизни.
Несколько минут я стоял, уставившись на лицо, копией которого было мое. А снег все шел, и вскоре снежинки перестали таять на отцовском лбу и на щеках, а вокруг кричащих глаз образовались заносы. Поразительно, как быстро из человека уходит тепло. Я не посмел к нему прикоснуться. Я повернулся и ушел, оставив позади остывшее тело и немой вопрос в открытых глазах, который каждый мог толковать по-своему.
Я не плакал.
Новости о моем отце и героической смерти моего брата Дарио мне сообщили одновременно. Последний встретил свою судьбу, как встречал ее всегда – с открытым забралом. Он бежал, что твой ямайский спринтер, на свидание с сербской пулей. В этом весь Дарио.
Мне сказали, что мой отец, на глазах у которого все произошло, словно обезумел. Он упал на бездыханное тело и вдруг стал выкрикивать мое имя – „Томо! Томо!“ – а затем, бросив обрез, помчался на нашу позицию.
– Да? – В ответ я покивал так, будто мне сообщили результат футбольной игры. – А… а как сражение?
– Мы захватили берег. Теперь он в наших руках.
Видел я этот хренов берег. Полная хрень.
Глава 23. Сделано в Исландии
Ладони у Ханны большие и невероятной белизны. Гораздо белее, чем руки. Она словно в перчатках. Ее длинные сильные пальцы работают быстро и бесшумно. Она забирает у меня пустую тарелку и стакан так, что я не слышу ни звука. То ли дело моя мать. Когда она моет грязную посуду, кажется, что в кухне репетирует группа панков. Может, отец недодавал ей в постели. Если так, то Торчер – сексуальный гигант под стать библейским патриархам.
– Вам лучше? – спрашивает она меня задушевным голосом, который журчит как красное вино, но при этом шибает в нос.
– Да.
– Это хорошо.
По каким-то своим загадочным причинам она верит в меня на все сто. Вы станете góður, любит она повторять. Что означает: „я поправлюсь“ и „я сделаюсь добродетельным“.
В очередной раз я перечитываю историю Савла, самовыдвиженца-праведника из города Тарс в Турции. Эта история, которую Гудмундур поведал аудитории в день моего приезда в Исландию, является, по утверждению Торчера, краеугольным камнем моего выздоровления. Все ясно. Этот тип тоже сменил имя. И у него тоже было кровавое прошлое. И при этом он стал святым Павлом, „отцом церкви“. Вот и мне уготовано стать святым Томом и отцом чего-нибудь. Надеюсь, все-таки не церкви.
К концу второй недели моего пребывания в подвале Ханна приносит мне письмо. С мягкой улыбкой, от которой вокруг ее глаз собираются морщинки, и со словами „прочтите это“ она кладет письмо мне на грудь по окончании ужина и, бесшумно забрав с прикроватного столика пустую посуду, уходит. Я провожаю взглядом длиннющий „конский хвост“, гуляющий по спине в такт шагам над округлым крепким задом.
Я разворачиваю листок. Написано от руки. Имейлам в дом Авраама путь заказан. Твердый почерк. Синие чернила. „ Дорогой Тордур…“ Написано отцом Френдли из Вирджинии в прошлом октябре.
Позвольте мне, прежде всего, поблагодарить Вас за добрые слова и приглашение посетить Исландию. Сама мысль о посещении Вашего экзотического острова, о коем я слышал столько интересного, приводит меня, мягко говоря, в радостное возбуждение. Мой добрый друг преподобный Карл Симонсен рассказал мне о Ваших похвальных трудах на благо Господа. Я также осведомлен о работе телевизионной станции Вашего друга Энгильбертссона и был бы рад сделать там несколько передач.
Вот почему я с огромным сожалением сообщаю Вам, что личные обстоятельства не позволяют мне принять Ваше любезное приглашение. В прошлом месяце моя жена Джуди попала в ужасную автомобильную аварию, и по крайней мере ближайшие три месяца она проведет в больнице. Как Вы понимаете, эта печальная ситуация препятствует моим путешествиям в настоящее время. Я отложил все поездки, включая авиаперелеты, до следующей весны.
Пожалуйста, напишите мне снова в 2006 году.
Профессионально, но по-дружески. Такой деловой брат во Христе.
Бедняга. Оставшись у одра умирающей жены, он сам подписал себе смертный приговор. Я обошелся с ним жестоко.
К письму приложено цветное фото с автографом: семейство Френдли стоит перед большим белым домом – то ли их церковь, то ли жилище, то ли все вместе. Вот он, мой лысый агнец в стоячем воротничке, а бок о бок с ним сияющая спутница жизни, блондинка Джуди, на которой я не так давно и совсем недолго был женат – в сущности, две секунды, пока садился в машину Гудмундура перед аэропортом. Эта полукрасотка южного типа могла бы сойти за вполне еще аппетитную мамашу Лоры Дерн. Девушка седьмого дня. Парочка гордо возвышается позади двух подростков лет десяти и восьми. Черного и белого. Последний сидит в инвалидном кресле. Миссис Френдли, как это умеют только американки, улыбается так широко, что она уже не способна видеть камеру. Она ослеплена блаженством. Можно подумать, что они позируют для рекламы лучшего отеля на небесах. А вот у подростка-инвалида и улыбка инвалидная. Такая печать разочарования жизнью в целом.
Я подытоживаю свои впечатления от преподобного Дэвида Френдли на основании его письма и внешности. Он не выглядит типичным телеевангелистом-южанином, этаким шулером на ниве Христовой. Скорее искренним. Вряд ли он заслуживал смерти в сорок лет. При всей своей гомофобии. По какой шкале ни суди, душеспаситель перевешивает вдовопроизводителя. К тому же один ребенок у него инвалид, а другой приемный. А теперь они остались круглыми сиротами. По большому счету мне следовало бы их усыновить.
На следующий день Ханна ставит точки над „i“. Я прочел письмо, я видел фото? Да, отвечаю.
– Он был достойным человеком, – говорит она. У глаз появились морщинки, в голосе же ни намека на обвинение.
– И потерял жену?
– Нет. Она попала в аварию, и ее пара… Как это сказать?
– Парализовало?
– Вот-вот. Она прикована к инвалидному креслу.
– Но Гудмундур мне сказал, что она умерла.
– Нет-нет. Она чуть не умерла, но затем, кажется, пошла на поправку.
– Так. И у них двое детей?
– Да. Оба усыновленные. Младший из Гамбии. И второй, в инвалидном кресле.
Нифигос. И инвалида усыновили. Это ж какими, блин, святыми надо быть? И теперь у них восемь колес на семью…
– Вы не хотите им написать? – спрашивает меня миссис Торчер.
Вот уж нет…
– Может быть.
– Разумеется, вы не должны говорить всю правду. Скажите, что вы знали отца Френдли как проповедника, что до вас дошел слух о его смерти… и что вам жаль.
Пауза. Мы встречаемся взглядами. Я и Мать Земля.
– Если вам жаль, – добавляет она.
– Да, конечно жаль.
– Это хорошо. Вы исправляетесь.
А теперь десерт. Она гладит мою щеку своей большой белой ладонью. Своими сильными нежными пальцами. Если бы это происходило в кино, я бы тут же облапил ее руками Тома Круза и мы набросились бы друг на друга, как двое путешественников на грейпфрут после недельного блуждания по пустыне, а потом я сорвал бы с нее одежду, и в следующем кадре мы бы уже занимались любовью по-библейски на моей ветхозаветной кровати. Фильм назывался бы „Троица“, такой любовный треугольник: грешник, священник и его жена.
– Мне кажется, вамбыло бы полезно написать им.
– О'кей. Я подумаю.
Собственно, мне следует написать еще шестидесяти шести вдовам. Одно стандартное покаянное письмо.
Дорогая миссис __________
С огромным сожалением и печалью имею Вам сообщить, что это я убил Вашего мужа. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что Вашего избранника жизни заменить невозможно и, каким бы глубоким ни было мое соболезнование, оно его не воскресит. Тем не менее я хочу, чтобы Вы попытались вникнуть в мою ситуацию. В момент ликвидации Вашего мужа я был профессиональным киллером в некой национальной организации. Убийства составляли мой единственный источник дохода. Между 2000 и 2006 гг. я убил шестьдесят семь человек. Ваш муж был лишь одним из многих.
Мистер __________ стал жертвой № __.
Могу Вас заверить, что его смерть явилась одной из самых памятных в моем списке. Ваш муж был славным человеком. Он умер с большим достоинством и ни разу не пожаловался на судьбу.
Вместе с тем я счастлив сообщить Вам, что я решил проложить новую тропу в лесу под названием Жизнь. С мая 2006 года я с этим завязываю. Киллерство, без сомнения, одна из самых тяжелых профессий. Физическая нагрузка и психологическое напряжение велики, не то слово. В общем, с меня довольно. Таким образом, могу Вас заверить, что если Вы нашли нового спутника жизни (в каковом случае я Вас искренне поздравляю), смерть от моих рук ему не грозит.
Искренне Ваш,
Томислав Бокшич.
В письме я последний раз употреблю отцовскую фамилию. Я решил ее похоронить. В общем, моя попытка суицида не совсем провалилась.
Мое новое „я“ рождается на свет с новым именем. За каждого убитого священника – по одному имени при крещении.
– Доброе утро, мистер Олавссон! – Неожиданно появившийся в дверях Гудмундур улыбается так, что вот-вот зубы вывалятся изо рта. Заканчивается вторая неделя моего подпольного существования. Он вручает мне новенький исландский паспорт с моей фоткой и идентификационным номером, по-здешнему kennitala. Я возродился под именем Томаса Лейвура Олавссона. Друзья-проповедники, наблюдая за тем, как я читаю паспорт, начинают хохотать и не могут остановиться. Уж не знаю почему, но они находят эту ситуацию жутко смешной.
– Томас Лейвур Олавссон! Поздравляем! Ты теперь исландец! Срочно учи язык! – почти орет Гудмундур.
Я придирчиво изучаю паспорт. Сработано безукоризненно. Даже лучше, чем Игорев ай-ди китайского производства.
– Как вы это… Где вы это раздобыли? – спрашиваю.
– Сделано в Исландии! Ручная работа!
Гудмундур светится от радости, его распирает гордость: это я раздобыл такую замечательную ксиву!
– У меня есть дружок в полиции, – подмигивает он мне с дурацкой ухмылочкой. – И еще один в политической партии.
Обхохочешься. Что может быть смешнее, чем праведники, занимающиеся подпольным бизнесом!
Следующий взрыв смеха вызывают мои попытки произнести мое новое двойное имя. „Томас-лей-в-юр… Том-в-осле-фырр…“ Заставив меня повторить это раз десять, они окропляют мою забубённую голову водой из-под крана, которую Торчер освящает крестом и благосклонной улыбкой. В общем, ребята развлекаются на всю катушку.
– На самом деле тебя должны были назвать Томас Лейвур Богасон, – объясняет мне Торчер. – Буквальный перевод с хорватского. У нас давно существует традиция: иммигрант должен взять исландское имя, которое является калькой либо вариантом его прежнего. Но зачем нам рисковать, правильно? Олавссон означает „сын Олава“, а так зовут нашего президента.
В этой стране нет фамилий в чистом виде. Исландцы по сей день сохраняют традицию викингов, производя фамилию детей от имени отца. Если у меня родится мальчик, то он будет гордо носить крутую и легко запоминающуюся фамилию Томассон, а если родится девочка, то она будет Томасдоттир.
Я умоляю святых отцов дать мне что-нибудь попроще, и после некоторых раздумий они выпускают меня в мир как Томми Олавса.
Глава 24. Отель „Ударный труд“
В дополнение к нелегальному паспорту я получаю нелегальное жилье рядом с церковью Торчера. На первом этаже этого недавно построенного здания располагается роскошный мебельный салон, а на втором ютятся совсем не роскошные рабочие-иммигранты.
Я попадаю в исландское подполье. Я и мои святые друзья словно поменялись ролями. У дружка Гудмундура из политической партии, носатого типа без шеи по имени Гуд-Ни [53]53
Good Knee – Здоровое Колено (англ.).
[Закрыть](никакого отношения к Раненому Колену [54]54
Ручей Раненое Колено – местечко в Южной Дакоте, где 29 декабря 1890 года состоялась резня, в результате которой американские экспедиционные войска убили около трехсот индейцев племени сиу.
[Закрыть]), вид типичного мафиози. В чем это проявляется, неискушенному читателю так с ходу не объяснишь, но рыбак рыбака узнает издалека. Эти глаза повидали многое в жизни и кое-что в смерти.
Этот пухлощекий всклокоченный тип лет пятидесяти в синей ветровке – поначалу она кажется слишком для него большой, однако при ближайшем рассмотрении это он оказывается слишком толстым – вылезает из черного побитого джипа и быстрой побежкой направляется к парадному подъезду. Из карманов, набитых ключами (и оружием?), он достает добрый десяток и только с третьего раза подбирает правильный.
Гудмундур знакомит нас, и выглядит это со стороны довольно комично, как будто гордый отец рекомендует своего сына знаменитому футбольному тренеру. Гуд-Ни на секунду бросает на меня тусклый взгляд и, буркнув исландское „хай“, входит в обшарпанный подъезд с валяющимися на полу яркими, но изрядно затоптанными брошюрами и непрочитанными местными газетами. Мы идем за ним вверх по лестнице, а затем по длинному голому коридору с дверями справа и слева через каждые пять метров. Потолок довольно высокий, арочный, со стенами не стыкующийся.
В конце коридора, в кухоньке, группка темнобровых и красноглазых работяг с бетонной крошкой в волосах потягивают пиво. На дешевом рабочем столике, рядом с допотопной микроволновкой, стоит маленький телевизор. Идет какой-то примитивный детектив, но работяги на экран не смотрят. Гуд-Ни тихо приветствует их на своем мафиозном наречии.
Один из работяг отвечает ему по-английски с сильным славянским акцентом и показывает пальцем туда, откуда мы пришли:
– Третья справа.
Моя каморка. Сын президента довольствуется складским помещением для запчастей, разделенным фанерными перегородками на боксы для сна. Кровать представляет собой матрас, приподнятый за счет фанерных обрезков и пиловочных чурбаков вместо ножек. Еще тут есть старый дешевый офисный стул, настольная лампа без лампочки и абажура и серебряная ложка на грязном полу – всё. Стена напротив двери – это, в сущности, одно большое окно и под ним вытянутый радиатор. Из окна видно такое же здание с магазинчиками на первом этаже и автостоянкой. Гудмундур бросает на кровать черный пластиковый мешок с постельным бельем.
– Хорошая комната, – обращается он к своему другу, а затем поворачивается ко мне со своей возродившейся в вере улыбкой. – Ты всегда можешь прийти к нам поесть, постирать или посмотреть телевизор.
Родной отец мне ничего такого не предлагал.
Гуд-Ни дает мне гуд-ки [55]55
Good key – здесь: правильный ключ (англ.).
[Закрыть], а также номер своего дорогущего сотового телефона на случай, если в бараке вспыхнет восстание или меня возьмут в заложники. Пожалуй, я не буду говорить гастарбайтерам, что с ними под одной крышей теперь ночует единственный сын президента Исландии. Славная парочка ретируется, и я не успеваю попросить Гудмундура, чтобы он наскоро благословил эту ночлежку. Я начинаю новую жизнь.
С маленькой спортивной сумкой и большой Библией.
Моими сокамерниками оказываются поляки и литовцы да еще один чернобровый лысоватый болгарин по фамилии Балатов, который вполне мог бы сойти за коллегу-киллера. Такой старый добрый Варшавский пакт. Общий сортир называется „мавзолей“. Туда ходят „к Ленину“ (по малой нужде) или „к Сталину (по большой). Саму ночлежку окрестили отелем „Ударный труд“. Обычно все приходят около одиннадцати вечера и уходят в семь утра, громко сопя в коридоре, пока влезают в свои „трактора“.
– Я вам не севен-илевен [56]56
Seven-Eleven („Семь-одиннадцать“) – всемирная сеть дежурных магазинов.
[Закрыть], – поясняет мне Балатов. Весь день он торчит дома: врубит на полную громкость стереомагнитофон и слушает рок из-за „железного занавеса“ или смотрит на кухне „ящик“, матеря все, что там показывают, на своем родном языке. Мне приходится быть начеку и не показывать виду, что я понимаю отдельные слова.
Черноморец подчеркивает свое происхождение с помощью черного свитера, черной бороды, черных волос и черных бровей над черными зенками. Кажется, других цветов он не признает.
– Черная, – произносит он одно из трех десятков освоенных им английских слов, когда на экране появляется чудаковатая негритянка в каком-то белоснежном дневном „мыле“. – Я ебал черную. Хорошо.
Я залезаю в холодильник за пластиковой бутылкой молока.
Весь день мы вдвоем. Я и Балатов, пахнущий конским навозом, вымоченным в бензине. В паузах между рекламой своих сексуальных предпочтений он всячески пытается со мной закорешиться. – Я тебе показывать черную. Фото там. Пошли.
Это все равно что оказаться с тигром в одной лодке посреди океана. Приходится взвешивать каждый свой шаг. Я по-тихому беру на кухне еду, „к Ленину“ же заглядываю, пользуясь шумовым прикрытием, которое мне обеспечивает стереомагнитофон. А так часами сижу у себя в каморке, пытаясь отделить писания пророков от божественных звуков болгарского „металла“. С таким же успехом эти амбициозные ребята могли быть из Арканзаса или Эквадора. Эти лохматые рокеры, рассеянные по всему миру, принадлежат к одной нации. Еврейство двадцать первого века.
Но с черноморцем мои попытки ЗНД не проходят. Раздается стук в дверь. Естественная реакция – где моя пушка? Я без нее как уборщик без швабры.
– Есть крем для битья, – спрашивает он меня.
– Если бы.
– Есть, да?
– Нет, извини.
– Хочу бить лицо.
– Ага. Дело хорошее.
– Ты исландец?
– Как тебе сказать… Отчасти. Отчасти исландец.
Эта страна засасывает меня, как вулкан, работающий наоборот. Чувствую, однажды зимой я проснусь снежной бабой с галькой вместо носа.
– Ты не работать?
Что дальше? Он потребует мой паспорт? Он спрашивает меня про Гуд-Ни и Гудмундура. Я даю короткие ответы, глядя на его макушку, просвечивающую сквозь черные волосья, как темечко новорожденного.
– Гуд-Ни и святой отец – твой друг? – говорит он с довольным смешком, как будто именно это его интересует, но тут же перескакивает на свой любимый цвет. – Ты черную ебать?
– Э… Да. Приходилось.
– Хорошо? – Гадкая улыбочка перерастает в еще более гаденький хохот. – Хорошо! – И продолжает хохотать всю дорогу до своей клетушки. – Черная – хорошо.
Надо будет поинтересоваться у Торчера, допускает ли моя терапия последнее маленькое убийство.
Субботним вечером появляется Гуд-Ни с картонной упаковкой водки, на которой не хватает разве что наклейки „контрабанда“. Он водружает коробку на кухонный стол с видом южного плантатора, знающего, что нужно его рабам, но, так ее и не открыв, а только с шумом выдохнув через нос, деловито уходит в своей шелестящей ветровке. Я настраиваюсь на бессонную ночь, но главные события разворачиваются позднее. В воскресенье поляки поднимаются с утра пораньше и налетают на коробку, как саранча на сахарный тростник. В полдень они уже вовсю распевают национальные хиты и зычными голосами призывают Томаша.
Когда они начинают барабанить в мою дверь, я притворяюсь мертвым. Насколько это возможно.
Они не могут понять, как может настоящий исландец жить в таких условиях. Отель „Ударный труд“ всегда был исключительно для гастарбайтеров. Я должен им казаться кем-то вроде офицера СС, добровольно поселившегося в Освенциме. Чтобы как-то спустить это на тормозах, говорю, что я исландец лишь на четверть, и рассказываю им долгую нудную историю про отца из Фресно, мистера Чака Олавссона, наполовину исландца, который пошел в армию и погиб в небольшой заварушке на Карибах во времена Рейгана („свои же случайно застрелили, такая вот печальная история“), и мать-немку, которая потом вышла замуж за хорватского священника, и теперь они живут в Вене.
– Венский „Рапид“ знаете? – быстро перевожу стрелки.
– Футбольный клуб, да? Они играли с варшавская „Легия“ в прошлым годом. Твой клуб?
– Да. Мне было десять, когда мой отец погиб. Позже мы переехали в Австрию, где я и жил до последнего времени.
На мгновение я умолкаю. На кой хрен я приплел Вену? Я провел там всего-то один уикенд. Зато в этом городе мне подарили РМ, Райский Массаж. Венгерка, выдававшая себя за двадцатилетнюю, хотя выглядела на все пятьдесят, утюжила мне спину здоровыми буферами. Ощущение непередаваемое, словно сам Бог ласкает тебя своими яйцами. Собравшись с мыслями, я заканчиваю:
– Вообще-то я первый раз в Исландии.
– Но ты говоришь по-исландски? – спрашивает один из поляков. Чем-то они все напоминают мне солдат Второй мировой. Вполне могли бы выступить статистами в черно-белой картине о преследовании евреев, достойной оскаровской номинации; так и вижу их в кузове армейского грузовика, который в следующей сцене взлетит на воздух.
– Немного. Моя мать… то есть моя бабушка говорила со мной в детстве по-исландски.
Я перестарался. Один из них ненадолго исчезает и, вернувшись с письмом на исландском со всеми этими фантастическими буквами – Þ, которая похожа на беременную I, или Æ, где А и Е слились в экстазе, – просит меня перевести. Я уединяюсь в своей конуре и звоню Ханне. На то, чтобы вслух прочесть невыговариваемые слова, у меня уходит целая вечность. Выясняется, что это всего-навсего приглашение на открытие здания, которое строил этот тип.
– Я не смогу, – в результате отмахивается он. – Работать на другая стройка.
Эти работяги вкалывают, как роботы. Они настолько привыкли ложиться в полночь и вставать в шесть утра, что даже поспать подольше в воскресенье у них не получается. Вот почему они не могут толком надраться в субботу и вынуждены переносить попойку на следующий день. Они начинают пить в семь утра и заканчивают в одиннадцать ночи.








