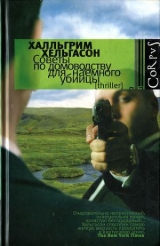
Текст книги "Советы по домоводству для наемного убийцы"
Автор книги: Хатльгрим Хельгасон
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Глава 19. Новая жизнь
До цели я добираюсь чуть не ползком. Это он. Я узнал серебристый „лендкрузер“. Значит, они дома. Я – первый и последний пешеход, которого эта страна когда-либо знала. Кровотечение, кажется, прекратилось, но зуб безвозвратно потерян. Видок у меня, как будто я пару дней провисел на кресте. Ловя ртом воздух и чувствуя, что вот-вот потеряю сознание, я жму на звонок.
Можно сказать, бью в набат.
Сикридер открывает дверь и тут же захлопывает перед моим сломанным носом. Я снова бью в набат. Голова Гудмундура появляется в узком окошке рядом с входной дверью. Аккуратная голова ламы с длинными передними зубами. Ему приходится совершить путешествие в недра собственной души, чтобы распознать меня в этом кроваво-потно-слезном месиве. Он открывает дверь, и мы оказываемся лицом к лицу: один с только что почищенными зубами, другой с только что выбитым зубом.
– Как это… вас сюда? – спрашивает он. Видимо, здесь Так изъясняются. – Что случилось? Вы весь в крови.
– Хай…
Меня пронзает боль. Одно-единственное словечко прожгло мне горло и едва не разорвало череп. Поэтому я стараюсь говорить глазами. (Они должны выглядеть как две дырочки в грязевой маске.) При виде хозяев я от радости теряю равновесие и падаю на колени прямо на золотом крыльце. Я пытаюсь схватить пастора за брюки, но он отступает к стоящей позади него жене, и моей опухшей саднящей руке достаются только пальцы ног в носке. И тут я начинаю завывать, как морж со сломанным клыком.
– Гудму… – На большее меня не хватает. Боль адская. Я должен соединить его напрямую с моей душой, чтобы она за меня закончила. Ее нутряной голос не слышен, с таким же успехом Барри Уайт [49]49
Афроамериканский автор песен и исполнитель.
[Закрыть]мог бы петь под водой. Я сам себя не понимаю, получается что-то вроде: —…пожаата помоите…
Интересное кино. Моя душа взывает к доброй старой ламе.
Я уже распластался в прихожей и размазываю по чистейшему кафелю свои грязные грешки. Дорогой пастор, разглядите поближе эту мерзость. Сожгите их в аду, или пусть ими займутся в вашей бесподобной райской химчистке.
Ситуация подвисает – я слышу, как они шушукаются, – но вот мистер Праведник протягивает руку и закрывает за мной входную дверь. Он помогает мне подняться и ведет в ванную. Я с трудом переставляю ноги.
Сикридер промывает мою ноющую голову и распухшее лицо. Я стараюсь не смотреть в зеркало, но оно мне нашептывает, что я весьма похож на человека-слона. Левым глазом я почти ничего не вижу. Мой нос увеличился вдвое. Наверное, сломан. Как и левый передний зуб. Верхняя губа смахивает на африканскую. Но сильнее всего кровит лоб. Над левым глазом рассечение до волосяного покрова. После того как Сикридер промывает рану, она открывается во всем своем великолепии. Моя правая рука онемела от боли в плече, и я не удивлюсь, если рентгеновская камера, буде таковая найдется в доме, покажет несколько запекшихся ребрышек. Каждый вздох отзывается болью. Правая лодыжка вывернута, словно не до конца выкрученное мокрое полотенце.
– Несчастный случай? – спрашивает меня священник.
– Аха…
Это все равно что пытаться говорить с дантистом, когда у тебя полон рот чужих пальцев.
– Где?
– Мафына… – бормочу сквозь сломанные зубы и распухшие губы.
– Автомобильная авария? Это ужасно. Надо показать вас врачу… в больнице.
– Но сначала мы должны его вымыть и остановить кровотечение. Нельзя везти его в таком виде, – возражает Сикридер, как опытная медсестра, осторожно вытирая мой лоб мокрым полотенчиком.
– Не-е… – протестую я. – Не нао ольницы.
– Но почему? Там стерильная чистота. У нас замечательное здравоохранение. Лучшее в мире. Может… может быть, вам не позволяют законы вашей церкви? – спрашивает Гудмундур, удивленно вздымая брови.
– Ты забыл? Это же не отец Френдли. Он убил отца Френдли. Этот человек – убийца, – произносит Сикридер с лицом „железной леди“ Маргарет Тэтчер и заботливыми руками Флоренс Найтингейл.
Ее не слишком сообразительный супруг задумывается.
– Ну да. Вы же преступник. Мы должны также отвезти вас в полицию, – наконец выдает он.
Я уклоняюсь от Сикридер с ее мокрым полотенцем и разворачиваюсь к моему верховному судье:
– Паалста. Зесь побить.
Он озадаченно переводит взгляд с меня на жену и обратно. Наверно, решает, бить меня или не бить. Чтобы помочь товарищу определиться, я утыкаюсь грязной башкой ему в грудь (при этом розовая сорочка и голубой галстук тихо охают от соприкосновения с окровавленным лбом) и для верности заключаю в свои объятья. Он хочет попятиться, но не тут-то было: я лишь сильнее прижимаю его к себе. С моей стороны это нетактично, зато токсично.
– Паалста, – подвываю ему в живот, на минуту забыв о боли. – Они меня упьют. Умояю.
Чувствую, они обмениваются многозначительными взглядами – двое солдат милосердия над сокрушенным злом. Они переходят на исландский. В попытке ЗНД я льну к проповеднику, как новорожденная обезьянка к матери. На пол капают две слезы, смешанные с кровью. Каждая образует на белоснежном кафеле прозрачное озерцо со снующими красными головастиками, вызывающими в памяти картинки под микроскопом.
Ни слова не говоря о принятом решении, они забинтовывают меня всего, как мумию, и отводят на второй этаж в мою бывшую спальню. Уложив в постель, Сикридер ставит мне на нос холодный компресс и велит отдыхать, после чего они уходят.
Мамочка с папочкой.
Я пытаюсь отдохнуть сам и дать роздых моей душе. Боль гнездится в стольких точках сразу, что превращается в один громовой зуммер, о котором то и дело забываешь; так человек, живущий рядом с громыхающей стройкой, в конце концов перестает реагировать на шум.
Я опоздал с прыжком. Опоздал, едрена мать. Не рассчитал, сколько времени потребуется моему жирному телу, чтобы пролететь пять метров. Я планировал получить смертельный удар от мощного бампера большого белого фургона. Но к моменту контакта фургон оказался уже наполовину под мостом. В результате я упал на крышу, затем отлетел к бетонному отбойнику, приложившись к нему левой стороной физиономии, и наконец шмякнулся на жесткую обочину ушибленным плечом. Я пролежал несколько минут в отключке, но, кажется, падение здоровенного тюка с грязным армейским бельем прошло незамеченным. И лежащего у дороги мертвого кабана тоже никто не замечал. Разве что проезжающие машины сбавили скорость, когда я, придя в себя, кое-как принял вертикальное положение. Наверно, все приняли меня за монстра, живущего под мостом.
Я продолжил путь. В полубессознательном состоянии я побрел дальше, оставив позади злополучное место, где я разминулся со смертью. Я ковылял, припадая на подвернутую ногу, по зеленой разделительной полосе меж двухполосных автострад. Сидящие за рулем – все эти долбаные косметологи и пластические хирурги – глазели на странного типа с залитой кровью физиономией, но никто так и не остановился. А затем пошел дождь, и я сделался для них человеком-невидимкой.
А я все шагал. Как раненый полярный медведь инстинктивно идет к Северному полюсу, чтобы там умереть, так я шел по бесконечной разделительной полосе к неведомой цели. Я понятия не имел, куда иду. Судя по дорожным знакам над головой, я шагал в аэропорт. На знаках было написано „Кевлавик“ и нарисован самолетик. Почему бы мне не попытаться сбежать из этой страны по Игореву паспорту и не начать третью жизнь гробовщиком в Смоленске?
Я миновал семь виадуков, „Пиццу-хат“ и похожий на диковинный космический корабль торговый центр, который я когда-то уже видел. Зеленая полоса закончилась, и пошел твердый грунт, на котором каждый шаг отдавал в больное плечо. Вдруг справа, между новыми офисными зданиями, я увидел белый щипец с нарисованным большим синим крестом. Это была церковь Торчера, которую мы с Гудмундуром посетили неделю назад. Она подала мне мысль. Она породила во мне надежду. Я понял, что Тихий Грот где-то неподалеку. И что родители Ган – моя единственная надежда. Двое праведников… И вот я лежу в своей бывшей постели, блудный сын…
На пороге возникает Гудмундур. На его лице печать отеческой суровости. Красное лицо, седые волосы. Цветом лица он, возможно, обязан временам, когда им владели демоны. Он берет стул и подсаживается к кровати. Теперь на нем голубая рубашка и розовый галстук.
– Вот что. Мы поговорили об этой ситуации… о вас. Возможны два варианта. Первый: мы сообщаем в полицию. Второй: мы берем вас под свою опеку. Но это не просто.
Пауза. Он вздыхает и поглаживает правой рукой свое продолговатое лицо.
– Это опасно для нас.
– Ага… – мычу я через мокрое полотенечко.
– Я позвонил своему другу Торчеру.
– Ага?
– Возможно, он тоже сумеет вам помочь.
Пауза.
– Вам нужна наша помощь? Вы хотите, чтобы мы вам помогли?
– Ага, – киваю, гримасничая от боли.
– Мы можем вам помочь, но только с одним условием.
– Ага, ага?
– Вы должны обратиться в веру Христову и стать членом церкви живого Бога.
Том кивает.
Глава 20. Торчер-терапия
Если сон – это радиотрансляция с небес, то в моем приемнике сплошные помехи. Не могу уснуть. Слишком много всего в моей оттаивающей больной голове. Незадачливый самоубийца оплакивает несостоявшуюся смерть. На меня поминутно наезжают белые фургоны. Только начал заниматься любовью с Мунитой посреди дороги, как ее губы леденеют, и через секунду я получаю удар бампером в затылок. Только собрался всадить пулю в жертву № 23, как уже декорирую свое похоронное бюро в Смоленске. Надо бы снять симпатичный домик, выходящий фасадом на оживленную улицу, а на окнах написать большими буквами в американском стиле: „ Ваш любимый гробовщик, лучший друг смерти“. И заодно добавить отзывы довольных клиентов: „ Отличный гроб и безупречный маникюр. Спасибо, Игорь. Теперь я могу спать спокойно. – Владимир Федоров (1932–2006)“.
Я лежу на спине неподвижно – то ли мумия, то ли незабвенный Федоров в гробу. Любое движение отзывается болью. Когда ко мне в очередной раз заглядывает Гудмундур, я прошу у него афпеин.
– Вас не устраивает перина?
– Афпеин. Икайство. Боеутояющее.
– А, понял. Но у нас аспирина нет. Господь – вот наше болеутоляющее средство.
И снова эта глуповатая улыбочка. Я в стране амишей [50]50
Секта американских меннонитов, основанная швейцарцем Якобом Амманом.
[Закрыть].
Они не осмелились притронуться к моим джинсам, поэтому я в них лежу. Мой сотовый по-прежнему в правом кармане, и время от времени я слышу, как мне названивает Ган. Эти вибрации действуют возбуждающе на другую игрушку, находящуюся по соседству, но я слишком слаб, чтобы вытащить телефон, да и отвечать мне не с руки. Не хочу, чтобы она застала меня в таком виде.
Среди дня неожиданно прибывает Торчер. Он входит в мою белую палату, как доктор, с маленьким кейсом. Черные волосы зачесаны назад, на переносице очки а-ля Джон Леннон. Глядя мне прямо в глаза, он начинает вещать громовым голосом. Если бы Господь Бог и дьявол встретились в теледебатах, я бы рекомендовал Небесному Отцу взять именно такой тон.
– Ты грешник из грешников и сам это знаешь. Ты убил посланца Святого Писания, благословенного провозвестника живого слова. Ты совершил самый страшный из грехов. Ты со мной согласен? Ты сознаешься в своем преступлении и в совершенном грехе?
Мумия кивает.
– Я хочу, чтобы твой сатанинский язык произнес слова покаяния.
– Да, пизнаю. Я гьешник, – слабым голосом произносит человек-слон опухшими резиновыми губами.
– И убийца.
– Да. Упийца.
– Это ты, Бог свидетель, убил отца Френдли, нашего возлюбленного брата и спасителя миллионов?
– Да. Я упил отца Фьендли. Это… нехоошо.
– НЕ ХОРОШО? Да уж. Ты был недостоин находиться с ним в одной комнате. Мои друзья, Гудмундур и Сигридур, очень многим рискуют, пытаясь спасти твою заблудшую душу. И я тоже. Мы все рискуем. Ты должен это понимать. Они рискуют своей работой, своей репутацией, своей телестудией, своим домом, своим котом – всем, что у них есть.
Святое семейство стоит за его спиной – глаза выпучены, губы выпячены.
– Но спасение даже одной души для царствия небесного… спасение одной души, даже такой грешной, как твоя… стоит любого джипа, любого дома, любой работы. Как истинно верующие в учение нашего Господа, они веруют в любовь и высшее прощение. Следуя примеру Иисуса Христа, они готовы полюбить и простить перед лицом зла. Знай же, что ты обязан им своей жизнью до конца дней твоих и до конца времен. Владыка небесный свидетель, что доброе деяние, оказанное перед лицом зла, с риском для собственной жизни, есть дар на все времена. И отблагодарить за него, видит Бог, никому не дано. Давайте же помолимся…
Они молятся за мою заблудшую душу. Чтобы вернуть ее, я должен семь дней и семь ночей пролежать пластом и все это время поститься. Мне будет позволен лишь один стакан святой воды в день. „Твое тело должно отказаться от своих притязаний, только тогда к тебе вернется твоя душа“, – заверяет меня Торчер, зашивая рваную рану на лбу вязальной иглой и суровой ниткой. Я вспоминаю, как отец зашивал мне небольшую рану на ноге в первую ночь войны, уложив меня на заднем сиденье старого школьного автобуса. Та же молчаливая свирепая сосредоточенность на широком бородатом лице. Гудмундур помогает Сикридер, чтобы кровь не залила их храмово-белоснежное постельное белье.
– Ибо ты открыл свои раны, дабы кровь Спасителя пролилась с небес в твою плоть… – бормочет Торчер, завязывая торчащий конец суровой нитки узелком.
Я не имел бы ничего против поста, если бы до меня не доносились запахи с кухни. История про женские духи и эрекцию повторяется. Я отпиваю воду маленькими глотками, растягивая удовольствие на весь день. Торчер – тиран. В моем желудке не осталось ничего, кроме осколка зуба, ноющего по поводу моей вины.
Одним словом, Торчер-терапия дает необходимый эффект. У меня достаточно времени, чтобы заглянуть в каждое отверстие, оставленное в теле моих жертв. Мысленно я заглянул им в глотку, в мозги, в прямую кишку и, преисполненный раскаяния, заставил пули проделать обратный путь, чтобы они продырявили мою собственную башку, сделали из нее решето. И вот теперь из нее с шипением выходят мои смертные грехи, смешанные с кровью и всяким дерьмом.
Неделя самоочищения.
На седьмой день в родительском доме появляется Ган. Признаки налицо. Тихий Грот наполнился непривычными звуками. Ожесточенный спор сменяется резкими выкриками – если не ошибаюсь, по телефону. Поколенческий кризис, однако. Без серьезного повода она бы не пришла. Может, этот повод – я? И вот я слышу, как после долгих препирательств между матерью и дочерью они поднимаются по лестнице, как две лесные нимфы из моего сна, запущенного нажатием кнопки на пульте дистанционного управления.
Очень медленно Сикридер открывает дверь в мою комнату и впускает красотку с покрасневшими глазами. По привычке я втягиваю живот, хотя там уже втягивать-то нечего. В моем желудке неделю не было маковой росинки, к тому же через пуховое одеяло все равно ничего не разглядишь. Ганхолдер подходит к моей кровати осторожными шажками. Она явно не ожидала увидеть перед собой мумию. Мои изголодавшиеся глаза, неделю не видевшие ничего съедобного, пожирают ее с жадностью. Я бы с удовольствием проглотил ее целиком. Ее мать стоит в дверях с каменным лицом, дающим понять, как она ко мне настроена: я, молодой человек, не устанавливала здесь часы посещения. Кажется, впрочем, она решила использовать меня, чтобы попробовать восстановить отношения с дочерью. Посвятив Ган в страшную тайну – вот, мы приютили и выхаживаем серийного убийцу, которого разыскивает половина земного шара, – она, пожалуй, лишь набила мне цену. Кто бы возражал. Я в роли Спасителя. Ну и ну. Терапия действует быстрее, чем можно было ожидать.
Внизу звонит телефон, и Сикридер ненадолго исчезает. Мы остаемся вдвоем. Я и моя заплаканная Ган.
– Привет, – говорит она едва слышно. Таким тоном люди разговаривают, войдя в брошенный дом после пронесшегося смерча.
– Привет.
– Я звонила тебе.
– Знаю.
Моя способность артикулировать слова до известной степени восстановилась.
– Как ты? – спрашивает она.
– Проголодался.
Она улыбается.
– Почему ты ушел от нас? Что случилось?
– Я… я получил плохие известия.
– А именно?
– Они убили мою девушку.
– Твою девушку? Кто это?
– Мафия. То ли наша, то ли тальянская.
– Нет, я имела в виду… У тебя есть девушка?
– Была. Ее убили.
– О'кей. Поздравляю.
– Поздравляешь?
– С тем, что у тебя была девушка. Я не знала.
– Я тоже не знал.
– То есть как?
– Мы с ней просто… встречались.
– И как долго?
– Полтора года.
– Ого. В нашей стране это квалифицировали бы как брак. А сколько можно „встречаться“ в Америке?
– Я думаю, сколько угодно, но по достижении тридцатипятилетнего возраста, когда ты получаешь права наследования, дело принимает более серьезный оборот…
Этим я ее немного рассмешил.
– Как ее звали?
– Мою девушку? Мунита.
– Мунита? Как она выглядела?
– Она была… упитанная.
Это говорит осколок зуба у меня в желудке.
– Упитанная?
– Да. Она… она была вроде… мясного блюда.
Сливочная блондинка смотрит на меня так, словно физическими увечьями мои проблемы не ограничиваются. Я мысленно приказываю своему зубу заткнуться.
– О'кей, – говорит она, облизывая свои шербетовые губы земляничным язычком.
– И кто-то ее съел. Тело слопал, а голову оставил в холодильнике. Для меня.
После короткой паузы она задает мне вопрос тоном врача, проверяющего вменяемость пациента:
– Ты ее любил?
– Нет. Тогда – нет. Сейчас, пожалуй, да.
Смерть – это наркотик. Я не знал, что люблю своего отца, пока он не погиб.
С минуту помолчав, Ган наклоняется и запечатывает мне рот своими подрумяненными губами. Эффект превосходит все ожидания: мой ярило и мой желудок тут же вступают в выяснение отношений. Каждый из этих изголодавшихся мерзавцев считает поцелуй своим. Пока дело не зашло слишком далеко, я успеваю выступить миротворцем, вклинившись между ними, как Билл Клинтон между Рабином и Арафатом на залитой солнцем лужайке перед Белым домом, где готовилось их историческое рукопожатие. Остается только решить, кто из этих двоих играет сейчас роль моего члена.
Она меняет повязку на моем носу.
– У моих родителей на твой счет большие планы. Они в таком возбуждении. Ты для них чуть ли не главный вызов судьбы.
– Вон как. Я не должен их подвести?
– Уж постарайся. По крайней мере, не убивай.
Прелесть, а не девушка.
– А как там Трастер?
– Мы поссорились. Неделька выдалась сумасшедшая.
– Ну-ну.
– Сегодня я переночую здесь. В своей старой комнате, впервые лет за шесть. Завтра сюда приедет Тордур.
– О? Торчер-тайм? [51]51
Torture time – время истязаний (англ.).
[Закрыть]
Она смеется:
– Вот-вот. Он повезет тебя в свою церковь.
– Даже так?
– Да. Как сказал мой отец, тебе предстоит пройти через врата ада.
Обана.
Глава 21. Врата ада
Вот она, Торчер-терапия, этап второй.
Я стою на ковровой дорожке в упомянутой церкви – с пластырем на лбу и без одного зуба, зато опухоль спала, лодыжка особенно не беспокоит, а правое плечо лишь изредка напоминает о себе тупой болью. Я потерял килограммов восемь. Для моего желудка, истинного скромника, пост – своего рода психотерапия.
В церковь меня привезли в багажнике. Эти ребята вызывают у меня большое уважение. Не могу взять в толк, зачем они так носятся с убийцей своего друга. Почему бы не отправить меня сразу в ад? Или это он и есть?
„Тебе предстоит пройти через врата ада“.
В церкви пусто. Мистер Т. ушел в свой офис. Возвращается он в забавной белой курточке, перехваченной черным поясом, и босой. Он подходит ближе, и тут я понимаю, что он так оделся не то для схватки на татами, не то для бала-маскарада. В японском стиле. Есть в этом что-то залихватски гейское. Каратист в женском наряде.
Торчер велит мне следовать за ним по коридору. Справа от входа обнаруживается темно-красная дверь. Через нее мы входим в кубообразную комнату примерно 5x5x5 метров. Потолок очень высокий, стены белые и маленькие окошечки под потолком. Посреди комнаты стоит массивная квадратная колонна белого цвета. На полу матрасы в красных синтетических чехлах. И застоявшийся запах пота.
– Снимай ботинки, рубашку и штаны, – обращается он ко мне, запирая дверь и включая свет.
Сейчас меня будут насиловать по-японски.
– Как ты, вероятно, слышал, мир состоит из рая и ада. Их разделяет Великая огненная стена. Она тянется от Эдема до наших дней, от глубочайших угольных шахт до кончиков пальцев нашего Творца. НИ ОДНА ПТИЦА НЕ ПЕРЕЛЕТИТ ЧЕРЕЗ НЕЕ. Ни одна рыба не проплывет под ней. Ни одна душа не просочится через нее! – вдруг выкрикивает он громовым голосом и тут же шепотом добавляет: – Но есть в ней маленькие врата…
Он наматывает круги вокруг колонны, тяжело дыша, этакий маньяк из блокбастера. Почти все с себя сняв, я складываю одежку в углу. От меня самого идет запашок; который уже день на мне эти черно-белые „боксеры“ из замечательной коллекции мистера Маака. А Горчер снова вещает:
– Ты ведь слышал про Золотые Врата? Все твердо рассчитывают в них войти. Даже грешник из грешников уверен, что войдет в Золотые Врата. Э нет. – Его указательный палец проделывает в воздухе запретительные мановения, а сам он все быстрее кружит по комнате. – Все думают, что после смерти они попадут в рай или в ад. Не-ет. ОНИ УЖЕ ТАМ! И ты тоже. Ты или в раю, или в аду. Тыкаться то туда, то сюда не получится. Никакого промежутка. Никаких компромиссов! Так что, друг мой, ТЫ В АДУ! И, чтобы попасть в рай, тебе сначала надо выбраться из ада. Чтобы войти в Золотые Врата, ты сначала должен выйти из ВРАТ ПРЕИСПОДНЕЙ!
Неожиданно он переходит на отеческий тон:
– Скажи мне, Томислав… мой дорогой Томислав… Почему, по-твоему, все парадные входы, такие, как в банках или церквях, имеют двойные двери? Почему делаются двойные двери?
– Я не знаю… Чтобы труднее было… убежать?
– Чтобы воздух внешний и воздух внутренний не смешивались. Первая дверь закрывается, прежде чем откроется вторая. Идеальная система. И тот же принцип действует в отношении двух врат. Золотых и огненных. Кому понравится обжигающая ноздри воздушная волна из ада в нашем кондиционированном раю? Поэтому сейчас тебе предстоит покинуть АДСКИЕ ВРАТА! – Взвыв, как сербский генерал, очумевший от порохового дыма, он вдруг прыгает на меня в стиле Джеки Чана и с каким-то восточным боевым кличем засаживает мне в фейс правой ногой. Губы мои лопаются, точно воздушный шарик, заполненный кровью.
У-Ё!
И тут же, получив по затылку кулаком, как кирпичом, я оказываюсь на полу. Кровь заливает матрасы. Моя душа наполовину покинула этот мир через те самые блядские врата, но тут наш рупор библейской мудрости хватает меня за уши и давай в них заливать огнекипящую благую весть:
– БАЛКАНСКИЙ СУЧОНОК! МРАЗЬ! ПОДЛЫЙ УБИЙЦА! ГРЯЗНАЯ СВИНЬЯ! ИЗВЕРГ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО! ДЬВОЛЬСКОЕ ОТРОДЬЕ! ВСЕЛЕНСКАЯ ПОМОЙКА!
Приподняв меня за уши, он практически нокаутирует меня своим библейским лбом, а когда мне все же удается встать на четвереньки, я получаю от него ногой в пах. После второго пинка я уже не поднимаюсь. А он прыгает мне на спину всем своим весом, словно победитель в борьбе без правил на арене Мэдисон-сквер-гарден, и, стиснув горло одной рукой, другой начинает откручивать мне голову. Ну ни фига себе. Чтобы меня так отделывал священник!
Нет, это выше моих сил.
Во мне пробуждается испытанный боец хорватской армии и, встав во весь рост, как Тито из могилы, берется за дело. Мгновение – и вся моя слабость, физическая и ментальная, улетучилась. Вконец истощенный, я превратился в голодного вепря. Я прокусываю ему руку до кости и резким поворотом вокруг своей оси сбрасываю с себя говнюка. Он шмякается на пол, багровый от боли, а я накидываюсь на него сверху, как разъяренная гейша на любовника, посмевшего прийти на свидание в пидорской распашонке. Потом беру за горло и начинаю сдавливать сильнее и сильнее, точно удавкой. Я уже готов успокоить его навсегда, но тут передо мной вырастает товарищ Тито. В маршальской форме, с головой Муниты в руках. Я закрываю глаза и пытаюсь стряхнуть наваждение. Снова открываю – все те же. Голова и маршал. Маршал и голова. Усиливаю хватку на горле священника-каратиста – картинка отчетливее. Ослабляю – картинка исчезает. Снова сжал – наваждение вернулось. Прям как пластиковая игрушка, которая пищит, когда ты на нее надавливаешь. Что бы это значило? Глава моего государства с головой моей любимой…
Почувствовав мое смятение, Торчер оживает и давай отрывать руки от своего горла. Левая почти сразу поддается, но при этом сбивает с него очки. Я тут же забываю про Тито и с утроенной силой принимаюсь за свою священную жертву, которая на глазах меняет цветовую гамму: от красного лица до малинового, от малинового до палевого, от палевого до белого. Я уже боюсь поднять голову, хотя меня так и подмывает. Вдруг Торчер превращается в моего отца. Без очков – одно лицо. То есть я душу собственного родителя.
Охренеть.
Я тут же вскакиваю и быстро ухожу в угол. Отвернувшись от лежащего, я восстанавливаю дыхание. Из шумной сопелки капает юшка.
Ну, блин.
Семь дней спасения души не привели ни к чему хорошему. Неделя строгого поста заканчивается убийством кабанчика. Человек возродился в вере, чтобы снова умереть. Убийство двух священников не слишком хорошо смотрелось на моем заявлении в рай, а уж добавление третьего сведет мои шансы к нулю.
Я провожу несколько секунд в аду, но вот за моей спиной раздается какая-то возня. Священное животное медленно поднимается.
– Томислав Бокшич… – Хотя голос дрожит, драматизма не убавилось. – Томислав Бокшич. Балканский солдат… – Гм, он основательно покопался в моем прошлом. – В игру по твоим правилам мне не выиграть, поэтому будем играть по моим.
Он хватает меня за плечо и разворачивает к себе. Он снова водрузил очки, на щеках появился легкий румянец, на расхристанном кимоно видны пятна крови. Дыхание вроде как налаживается. И слава богу.
– Сукин сын! – Он сопровождает эти слова пощечиной. – Какая сука, такой и щенок! – Он хватает меня за плечи. – Что ты о себе вообразил? Ты, ничтожная вошь, ползающая в помойном ведре на задворках царства Божьего! Безмозглое насекомое!
Он отпихивает меня – раз, другой. Я не реагирую. Этими тычками он заставляет меня пятиться, а у самого колени подгибаются. Скорее, он использует меня как ходунок.
– Болван. – Язык заплетается, точно у пьяного. – Сербо-хорватский болван.
– Просто хорватский.
– Заткнись!!!
Он останавливается. Мы стоим лицом к лицу, не шелохнувшись. Наконец, он спрашивает меня уже спокойно:
– Сколько человек ты убил?
– Ну… сто двадцать с чем-то.
– Сто двадцать с чем-то?!
– Ну да. Точнее не скажу.
– То есть как? Разве ты их не считаешь, как, например, женщин? Сколько у тебя было женщин?
– Не знаю. Вместе с проститутками?
– Ну, нет. Так мы до вечера не закончим.
– Тогда… точно не скажу… шестьдесят, семьдесят…
– Шестьдесят, семьдесят? То есть ты убил больше людей, чем уложил женщин? Ты еще хуже, чем я думал.
– Но я не убил ни одной проститутки.
– Что-о?
– В смысле… женщины. Я не убивал женщин.
– Не убивал женщин?
– Нет… то есть… да, во время войны были женщины, Но они не в счет.
– Не в счет?
– Нам приказывали стрелять. Это как на охоте. Или ты, или тебя. У нас не было выбора.
Пауза. Он шумно втягивает воздух, неотрывно глядя на меня. И потом говорит:
– Ты отдаешь себе отчет в том, что натворил?
– Да. Отдаю.
– Ты сожалеешь об этом?
– Да.
– Ты убивал людей.
– Да.
– Ты взял на себя функции Бога.
– Вы хотите сказать?..
– А это грех. Самый великий грех.
– Вы хотите сказать, Бог… убивает людей?
– Он творит и убивает, он царит и повелевает! Ты должен смиряться, а не своевольничать! Что ты ощущаешь?
– Что я… это вы о чем?
– Что ты ощущаешь, убиваячеловека?
– Я… я ощущаю…
– Ну?
– Как будто… проповедую.
– Что?
– Ага. Я чувствую власть… все под контролем.
– Черта с два. Это ты думаешь, что все у тебя под контролем, но под контролем находишься ты сам… Кто был первым?
– В смысле?
– Кто был твоей первой жертвой?
– Вы спрашиваете про первое убийство?
– Да. Твое первое убийство.
В считанные секунды, как ракета взлетает с авианосца в Персидском заливе, мой мозг проделывает обратный путь, на самое дно длиннющего списка, сквозь бетонные перекрытия и проржавевшую железную обрешетку, прямиком в подвал, где пахнет тьма и темнеют запахи, – чтобы вскрыть давно забытый, плесенью покрывшийся гроб в пыльном углу.
– Мой отец, – говорю.
– Твой отец?
– Да.
– Ты убил отца?
– Ммм.
Я убил отца. Наверное, следовало упомянуть об этом раньше.
– Ты убил собственного отца?
– Да, но об этом никто не знает.
– То есть?
– Я никому не рассказывал. Никто не видел.
– Никто?Бог все видит! Убийство есть убийство, какими бы… а отец есть отец. Как ты мог?! Что за дьявол подговорил тебя убить собственного отца?
– Я… Это было…
– Ну? Что это было? Дьявол заморозил твою кровь в холодильнике?
– Несчастный случай.
Я никогда про это не говорил, и от одной мысли, что я должен открыться наместнику Бога на земле, я падаю перед ним на колени. Я стою коленопреклоненный, этакий полуголый рыцарь перед своей дамой сердца в белом кимоно. Дама дает мне понять, что у нее есть меч.
– Несчастный случай?! Но ведь ты его убил, так?
– Да, но…
– Но что?
– Это была его вина.
– Его вина?
– Да… он сам…
Батарейка сдохла. Подобно яду замедленного действия – пятнадцать лет спустя – мой главный секрет нанес мне нокаутирующий удар. И вот я лежу у ног Торчера.
– Что? Что он сам?
– Он сам…
На меня нападает приступ кашля с воем, о существовании которого я даже не подозревал. Так, наверно, будет трубить детеныш тюленя, если охаживать его бейсбольной битой. Торчер с минуту слушает этот концерт, а затем решает поставить точку.
– Ты убил отца. Спаси, Господи, грешную душу.
Он опускает голую подошву на мою содрогающуюся спину, как генерал-победитель на поверженного врага. Этот жест странным образом действует на мои завывания умиротворяюще. Зато меня охватывает невероятное чувство голода. Из серии „заказывайте столько, сколько съедите“. Я готов ринуться к алтарю и обгладывать огромный деревянный крест, как обезумевшая лошадь.
Мое левое ухо улавливает шевеление ветерка: или Торчер пернул, или это он перекрестил мое беспомощное тело.
– Спаси, Господи, грешную душу, – повторяет он. – Если можешь.
И дай мне что-нибудь поесть. Если можешь.








