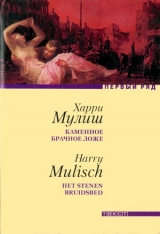
Текст книги "Каменное брачное ложе"
Автор книги: Харри Мулиш
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
«…мы остаемся, а об этом…»[долговязый мальчишка за решеткой].
Голова стала горячей и мутной из-за света, сухого воздуха, тишины, толчеи; в одиночестве можно было любоваться лишь пожарными шлангами, красными сигнальными кнопками за стеклом и стрелками, указывающими дорогу к туалетам. Когда он, наконец, уселся перед «Спящей Венерой», которую нашел только благодаря каталогу, то подумал: «Лучше было порвать свой входной билет и послать к едрене фене дерьмовые мотки пожарных шлангов».
Он взглянул на часы, но они стояли. Мальчонка, вцепившийся в руку отца и повернувшийся к картине, замер на полпути, глядя на лицо Коринфа. Коринф подмигнул ему, и мальчик перевел взгляд на других сидевших на скамье и на Шнайдерхана, решительно прокладывавшего себе путь среди людей, которым приходилось торопливо расступаться.
Он взмахнул рукой, хотел что-то сказать, но увидел картину, пробормотал «Боже мой» и замер, глядя на нее. На лице его появилось болезненное выражение, он потер лоб рукой и вздохнул. Через минуту, когда группа школьников заслонила от него картину, Коринф сказал:
– Куда вы делись вчера вечером? Мы вас искали.
– Вы что же, вернулись? – Шнайдерхан удивленно повернулся к нему.
– Мы хотели отвезти вас в отель.
– Я пошел пешком. Я подумал, что вы сами отвезете фрау Вибан домой. Что с ней было?
Коринф (подумав: «Он опасен, как бешеная собака, я должен его как следует пнуть») улыбнулся:
– Не знаю.
– Мне необходимо было пройтись после этого чудовищного рассказа. Как она себя чувствует?
– Вы что же, тоже не были утром на открытии?
– Мы с вами похожи, герр доктор. Я осматривал Цвингер. Пёппельман [37]37
Маттхойз Даниэль Пёппельман (1662–1737) – архитектор, автор проекта дворца Цвингер.
[Закрыть]. Если не сделать этого сразу, потом уж не соберешься.
– Вас, значит, не только руины интересуют?
– В основном руины, – рассмеялся Шнайдерхан.
Он обернулся к картине, и смех его оборвался. Коринф изучал его профиль и думал – он чувствует себя неудобно, потому что остался со мной один на один. Лучше всего ему было бы в плотной толпе на стадионе, и там, под рев зрителей, закуривать сигару, теребить бороду, пить пиво. Большие уши, грубый, крепкий нос. Лицо палача? Он попробовал представить себе лицо Шнайдерхана без бороды, но подумал: «Грубое лицо может оказаться лицом святого; благородное лицо может оказаться лицом палача; как перейти от Джорджоне к массовым захоронениям в лесу, к пыточным подвалам в мирных холмах? Начать медленный, бессмысленный разговор или спросить сразу, как полицейский в кино?»
– Да, – сказал Шнайдерхан, – чем дольше я смотрю, тем больше она напоминает мне фрау Вибан.
Коринф подумал: «Может быть, бедра… как сказать ей сегодня вечером, что я не могу больше с ней спать, я могу думать только о вдове Горация», – и сказал:
– Пожалуй, верхняя часть тела, скрытая от взоров.
– Так уж и скрытая? – Шнайдерхан лукаво посмотрел на него. – Даже от вас? Вы, кажется, живете в одном пансионе?
– Я гомосексуалист.
Шнайдерхан расхохотался:
– Тогда я – некрофил. Раскапываю могилы. По ночам. Но чаще всего гробы оказываются пустыми. Ах, если б вы хоть раз попробовали свеженького покойничка… – Он громко высморкался и, захлебнувшись смехом, уткнулся в носовой платок. Потом посмотрел в платок, сунул его в карман и спросил: – Она вам нравится?
– Какое невероятное разнообразие интересов, – заметил Коринф. – Я еще вчера поразился. Счастливый вы человек.
– Может быть, – кивнул Шнайдерхан, – может быть.
– Вам не в чем себя упрекнуть.
– О, конечно есть в чем, но я так занят, я бы охотно себя упрекал, но у меня, к сожалению, нет на это времени. Может быть, позже. Ах, позже, позже! Из добрых намерений ничего не получается. Если я что-то не сделаю сразу… – Засмеявшись, он взглянул на Коринфа. – Вы-то другой, не так ли? С ранимой душой.
Коринф ухмыльнулся и подумал – на самом деле он мне симпатичен.
– Хорошо бы, если б это было так, – сказал он.
Шнайдерхан уронил руку на колено.
– Это не было нам дано. Собственно говоря, – он удрученно покачал головой, – мы должны рассматривать себя как непризнанных…
Коринф насторожился:
– Не признанные кем?
– Чем.Как художник – Ван Гог – который писал гениальные работы, но так и не добился успеха, так и нам, непризнанным, неведомо покаяние. Вместо того чтобы успешно мучиться раскаянием, мы живем, неизменные, дальше. Ужасная судьба.
«Процесс пошел чересчур быстро, – подумал Коринф. – Еще одно слово, и он закроется». И про себя поправил собеседника: не неизменные, а неизменяемые.В дверях появился человек в рубашке в красную клетку, скользнул взглядом по залу и исчез. Группа мальчишек-подростков остановилась перед картиной; девочка с косичками рассказывала что-то с видом знатока, водя рукой вдоль обнаженного тела богини, но мальчишки смотрели только на девочку. Под потолком неровно стучал вентилятор. Клап, клап-клап.
Коринф сказал:
– Сегодня утром я размышлял об истории.
– Ах, у вашей страны замечательная история. Вашингтон, Линкольн, борьба за свободу…
Коринф улыбнулся:
– По-вашему, я похож на американского патриота?
– Но вы, должно быть, любите свою страну?
– А вы любите Германию?
Шнайдерхан удивленно поднял брови:
– Да.
– После всего, что здесь случилось?
– Даже после всего, что здесь случилось.
Коринф на минуту прикрыл глаза.
– Я думал об истории вообще. Я думал о том, что существует две истории: каноническая и апокрифическая. Апокрифическая – это история Тамерлана и Гитлера: та, что не дает результатов, где все совершается без намерений, само по себе, как… – ему захотелось сказать: как в концлагере, но он, запнувшись, продолжил: – Как русский поход, предпринятый Гитлером только потому, что ему хотелось своегорусского похода. Я хочу сказать, война противГитлера была канонической, война самогоГитлера – апокрифической.
Шнайдерхан расхохотался.
– Очаровательная теория! И вы верите, что русский поход Наполеона был другим? Вы идеалист, герр доктор. Теперь я все понял. Через год вы станете пацифистом, через два – вегетарианцем, через три – трезвенником, а через четыре начнете играть на флейте. Нет, нет. Связь вещей друг с другом гораздо сложнее. Вы, конечно, нечто большее, чем просто дантист?
– Я хочу сказать, если бы русские завтра развязали войну, чтобы повернуть мир к коммунизму, это была бы каноническая война, хотя мне она, может быть, и не понравилась бы.
– Русские этого никогда не сделают, герр доктор. Человека, который этого хотел, в тысяча девятьсот двадцать девятом году выслали из страны. Его звали Троцкий. Коммунисты – не идеалисты вроде вас; у них несколько другое понимание истории.
– Я не имел в виду, что некоторые наступательные войны справедливы, а другие – нет.
– А что вы тогда имели в виду?
– Немного прояснить все это для себя. Вот вас разве не интересует, почему вы любите руины? У вас нет никакой теории на этот счет?
– Я меньше занимаюсь самоанализом, чем вы. Они кажутся мне красивыми. У вас есть какое-нибудь хобби?
– Садоводство.
– Здорово. В точности как Фридрих Великий. Когда будете возвращаться в Берлин, вам непременно надо заехать в Потсдам, в Сансуси, его любимый маленький замок. Оттуда открывается прелестный вид на лес. И что, вы думаете, виднеется там, вдали?
– Руины.
– Ах, вы там были?
– Я об этом слыхал, – сказал Коринф и подумал: «Я все еще на шаг впереди него». – Но почему вы находите их красивыми?
– Похоже на то, что это становится опасной темой, – засмеялся Шнайдерхан. – Фрау Вибан спросила, как это возможно, вы – почему. Что я должен сказать? В мире всегда были люди, которым они нравились. Пиранези, Альтдорфер, Рейсдал, Пуссен, Вордсворт… Вы видели Пиранези, его тюрьмы и римские развалины? Я не знаю. Мир раскрылся до самого горизонта, уничтожив предметы первой необходимости, сказал Хайдеггер: тоже не кремлевский философ. Почему я должен создавать какую-то теорию? Вы не можете себе представить, что кто-то относится к себе серьезно? – ( Мерзавец, подумал Коринф.) – Что может быть прекраснее природы, которая остается прекрасной благодаря работе людей? Обвитые лианами руины храмов в джунглях Индии. Талая вода в желобках шиферной крыши, блестящая на солнце. Наполеон, который все-таки напал на Россию. Американцы в Дрездене. Туман в большом городе. Есть ли что-либо прекраснее старости? Старик. Книга, которую никто больше не читает. Судья, который идет к проституткам. Человек, сошедший с ума. Палач…
Они посмотрели друг другу в глаза. Последнее слово, проскочившее между ними, еще не отзвучало. Коринф увидел, что на лбу его собеседника выступил пот; почувствовал, как дергается его нижнее веко, и понял, что Шнайдерхан заметил это. Он выругался про себя и посмотрел в чужие карие глаза. Венера спала. Клап-клап, клап. Обнаженная. Все слишком ужасно. Вещи отрицают смерть, и когда приходит смерть… Нагота неуязвима. Карие глаза. Зрачки – на что они смотрят, на какую вещь? Что это было?
– Простите. Извините, пожалуйста…
Они разом посмотрели вверх. Женщина, в восхищении слишком далеко отступившая от картины, наткнулась на них.
– Ничего, – сказал Шнайдерхан и поднялся. – Ничего.
– Садитесь, – сказал Коринф и тоже поднялся.
– Я совсем не имела в виду… Просто засмотрелась на эту чудесную картину, и…
Держась рядом, они вышли из зала. Спустя минуту, в коридоре, где висел Беллотто [38]38
Бернардо Беллотто (1721–1780) – итальянский художник, мастер городского пейзажа.
[Закрыть](«Вид нового рынка в Дрездене со стороны Еврейского квартала»), Шнайдерхан сказал:
– Может быть, вы и правы насчет будущего. Может быть, чувство истории исчезает. Бог знает, наступят ли времена с традициями и табу, как в примитивные эпохи, и была ли история только короткой вспышкой света между темным временем пирамид, воздвигнутых три тысячи лет назад, и временем новых пирамид, которое начинается теперь, быть может, более успешным. Тогда мы – первое поколение на земле без будущего. – Он положил руку на рукав Коринфа, остановился и сказал без перехода, словно ответ должен был только подтвердить его утверждение: – Скажите честно, герр доктор, вы влюблены во фрау Вибан?
Они стояли у лестницы в холл. Снизу доносились голоса. Коринф повернул часы на руке.
– Что вы сказали?
– Мне кажется, вчера я заметил особое выражение ваших глаз в автомобиле, когда положил ладонь ей на колено.
Он убрал руку. «До чего же он похож на кота, – подумал Коринф, – я все-таки недооцениваю его».
– Вы заметили водку с перцем.
– Рассказать вам историю ее жизни?
– Вы так хорошо ее знаете? – Коринф удивленно посмотрел ему в глаза; он знал ее лучше любых глаз – какие глаза были у Хеллы?
– Абсолютно, – сказал Шнайдерхан и начал спускаться с лестницы. – Я вчера впервые ее встретил, там же, где вы. Ее отец был социал-демократом. В тридцать третьем стал национал-социалистом, потому что социал-демократы в Первую мировую совершили предательство и потому что Гитлер, по крайней мере, что-то делал. Но продолжал называть его «этот маляр». В тридцать девятом фрау Вибан вступила в компартию, и ее отец, спасая дочь, заплатил огромные деньги. По той же причине он поступил в сороковом в эсэсовские части. Дочь его в ту пору была влюблена в капитана люфтваффе, который в сорок третьем погиб в Северной Африке. А она записалась добровольно медсестрой на Восточный фронт…
– Фрау Вибан с тридцать девятого по сорок пятый год сидела в концлагере.
Коринфу показалось, что он с размаху вонзил топор в живое дерево. Они стояли у гардероба. Шнайдерхан уже положил номерок на прилавок; он смотрел на Коринфа расширенными от ужаса глазами. У Коринфа задрожали колени. Шнайдерхан облизнул губы.
– Ах, – пробормотал он, – я и не знал…
– Пожалуйста, сударь, – гардеробщица положила его пальто на прилавок, а сверху пристроила камеру.
– Дантисты в Освенциме, – сказал Коринф мягко, – ожидали у выходов из газовых камер. Когда двери раскрывались, мертвецы стояли голые, очень плотно друг к другу, потому что некуда было падать. Семьями. Тела были влажными от пота и мочи, покрыты дерьмом и менструальной кровью. Пока рабочие вытаскивали золото и брильянты из задниц и половых органов, дантисты-эсэсовцы выламывали из челюстей щипцами и молотками золотые зубы и коронки. – Кровь стучала у него в висках. – Все так? Поправьте меня, если я ошибся. Поправьте меня, герр доктор.
Шнайдерхан посмотрел направо, налево, нахлобучил шляпу и потащился к двери. Коринф догнал его, развернул к себе лицом и гаркнул:
– Отвечай!
– Нет… я… – Шнайдерхан, совершенно непохожий на себя, ощупал свое пальто, перекинутое через руку, и посмотрел на Коринфа, на лице его вдруг отразилась открытая ненависть. – Да, – сказал он и быстро отодвинулся назад, словно боялся, что Коринф его ударит.
«Я до тебя добрался», – подумал Коринф; продолжая смотреть на Шнайдерхана, он глубоко вздохнул и улыбнулся. Губы Шнайдерхана дрожали.
– Чего вы смеетесь? – Он вцепился, как краб, в свое пальто и камеру. Коринф надел шляпу и сказал:
– Как вы думаете, не поделиться ли мне этой информацией с оккупационными властями?
Шнайдерхан повернулся, быстро шагнул за дверь и остановился, поджидая Коринфа.
– Сообщению, поступившему от американца, здесь могут и не поверить, герр доктор!
Лицо его перекосилось, держа пальто на согнутой руке, он вышел из ворот. Коринф не отставал от него.
– Справедливо, может быть, справедливо. Лучше обратиться к немцам?
Шнайдерхан промолчал и быстро пошел по тротуару. Вдруг он остановился, хотел что-то сказать, но снова пошел вперед. С реки подул холодный ветер. Коринф поднял воротник пиджака, взял Шнайдерхана под руку, и они вместе пересекли площадь.
– А что, если бы вы сделали доклад на конгрессе по этому вопросу? Это привлекло бы всеобщее внимание. Вы моментально стали бы знаменитостью.
Шнайдерхан сказал, глядя в сторону:
– Что, довольны?
– Почему бы нет? Но я вас ни в чем не упрекаю. – Шнайдерхан попытался высвободить руку, но Коринф держал его крепко. – Вы тоже могли бы обвинить меня – как участника десяти или двенадцати бомбежек Берлина, четырех – Гамбурга и около тридцати в других городах – Маннхайм, Кельн, Эссен, Ганновер и какие-то еще, не помню. Надеюсь, что именно я имел счастье угодить бомбой в вашего отца, жену и ребенка. Так что не мне обвинять вас как участника… – Он шутливо махнул рукой.
Шнайдерхан остался стоять.
– Вы можете рассматривать меня как поставщика. – Коринф ухмыльнулся. – Представьте, если б не я, вы никогда не увидели бы изумительной картины: поющего дерева, просунувшего ветви в окна. Я сделал для вас все, что мог.
Шнайдерхан смотрел на него, разинув рот. Они стояли перед церковью. У забора сидели рабочие и, как в средние века, высекали вручную из свежего песчаника капители с цветами и водостоки в виде звериных морд.
– Вы меня не благодарите? Подумайте только: ко всему прочему, я еще и еврей. Жаль, теперь это меньше заметно, чем раньше. – Коринф расхохотался, взял его под руку и сказал: – Пойдемте, нам пора на конгресс. На моих часах уже час дня.
ФОРМУЛЫ, ФУТЛЯРЫ ДЛЯ ПЕНИСОВ
Симметрия зала мучила его. Два высоких окна с витражами слева (крестьянин, рыбак) и два высоких окна с витражами справа (рабочий, интеллигент) создавали причудливую игру света и тени на портрете седовласого мужчины, висевшего как раз над трибуной, установленной посередине сцены. Если бы многомудрый Ежи Замойский, пока говорил речь, хоть на миг вышел из-за трибуны и уничтожил симметрию, благолепие, послушание, Коринф бы немедленно во всем разобрался. Но Замойский верил в конгрессы, оставался неподвижен, и Коринф не понимал ни слова, хотя его немецкий был не хуже, чем у остальных. Делегаты молча слушали, внимательными рядами, время от времени раздавался легкий ропот: в этом месте прозвучало нечто сенсационное, – но поляк оставался неподвижен.
– …сообщения Эйнлоса из Персии, Дапперта из Абиссинии, Хрука из Тироля…
Коринф осторожно передвинулся на несколько мест дальше. Он опоздал на полчаса и, войдя в зал, оказался в самой середине восьмого ряда; единственный человек в первом ряду повернул голову в его сторону: Хелла. Шнайдерхан сел с краю и положил скрещенные руки на спинку кресла перед собой. Он стоял лицом к стене. Гюнтер стоял лицом к стене. Людвиг стоял, полуобернувшись к стене. А сам Коринф стоял позади них, небрежно откинувшись назад, автомат под правым локтем, большой палец левой руки на поясе. Где-то сбоку замешкалась Хелла. Южен сидел сзади него, на белоснежном песке. Так они все расположились. Он засунул большой палец за пояс; триумфальное чувство переполняло его. Ненависть вскрылась на лице Шнайдерхана, как нарыв. И он почувствовал себя победителем, в точности так же, как прошлой ночью, когда Хелла раскрылась и позволила ему скользнуть внутрь. Он думал: «Женщины должны давать любовь мужчинам, мужчины должны их ненавидеть», – и как бы со стороны любовался собою, возвысившимся надо всеми, триумфатором, победителем!
– …не может быть атрофии диффузии в первом случае, вместе с чрезмерной нагрузкой, и приведет к воспалению, видимо…
Поляк несимметрично выбросил вперед руку – призывая всех немедленно отреагировать: профессор Рупрехт чихнул, впереди упал и покатился карандаш. Хелла подкатила его к себе носком туфли и отдала какому-то мусульманину, который отсалютовал, пятикратно склонив свой розовый тюрбан. Усаживаясь, она оглянулась на Коринфа, но он этого не видел, потому что быстро перевел взгляд на свои ногти.
Неясные мысли бродили в его голове, он был доволен. Не зря он приехал в Дрезден, хотя и не знал зачем; он приблизился к окончательной разгадке, хотя и не знал чего; вероятно, правильное решение было страшно важно, потому что поиск ответа всегда начинается раньше, чем поставлен вопрос, который проходит трудный период формирования и конструируется на основе ответа, по милости Господа возникающего из ничего. Точно так же человек не может оплодотворить ни своим семенем, ни своими мыслями что-то знакомое в прошлом, бывшем и его прошлым, ибо тогда это будет, собственно, он сам, – но только чужую ему случайную женщину, ибо у него есть своя миссия; нормальный человек не может возбудиться от своей собственной руки, как онанисты, некрофилы и другие солисты.
– … следовательно, случается с лицами депрессивного типа значительно чаще, чем с шизофрениками и другими, к депрессивному типу не относящимися.
Пока поляк, склонившись, собирал свои бумаги, участники конгресса, после коротких аплодисментов, поднялись и стали выходить из зала. Шнайдерхан быстро пошел к двери. Коренастый, крестьянского вида человек – его представили как начальника из Ленинграда – сопя прошел мимо Коринфа, раскатисто выкрикивая по-немецки:
– Предупреждение пародонтоза! Профессор Замойский! Предупреждение пародонтоза!
В коридоре, куда выходил ряд дверей и где подавали кофе, Хелла подошла, улыбаясь, и остановилась возле него.
– Доброе утро, герр доктор. Выспались?
Коринф почувствовал, что на лице его появилась улыбка.
– Я – да. А ты? С ног не падаешь?
– Лучше здесь не говорить друг другу «ты».
– Хорошо.
– Мне хочется поцеловать тебя.
Он кивнул, не зная, о чем говорить дальше. Прошедшие испытание врачи толклись в коридоре у стоек с чашками кофе. Хелла, смеясь, продолжала спектакль:
– Как вам понравилась речь о пародонтозе, высокочтимый герр доктор?
– Весьма интересно, весьма интересно.
– Не всякий с вами согласится.
– Это не важно. Если была проделана стоящая работа. – Он поглядел на зуб у нее на шее, и его пронзила мысль, что он забыл спросить ее об этом.
– Я и забыла, вы ведь не верите в понимание и истину. – Глаза ее сияли. – Сейчас будем смотреть фильм.
– Фильм ужасов?
– Кулинарные обычаи в Новой Гвинее.
– A-а, о каннибалах.
– Никто не знает. На этом конгрессе могут случиться совершенно безумные вещи.
Коринф придвинулся к ней поближе:
– Вы уже проинформировали наших общих друзей?
– Осторожнее, – сказала Хелла, не сводя с него глаз, – он идет сюда. Добрый день, герр Шнайдерхан, – сказала она и, смеясь, протянула ему руку. – Как дела? Неразлучные задушевные друзья, конечно, опоздали.
– Герр Шнайдерхан, – сказал Коринф и фамильярно похлопал его по плечу, – фильм о каннибалах! Вам должно понравиться. Поглядите, как они лопают, и у вас слюнки потекут. Как вам больше нравится есть человечину: вареной или жареной?
Шнайдерхан разразился дурацким хохотом: он выглядел бледным и неуверенным. Коринф внимательно поглядел на него и добавил:
– Вам, конечно, известен особый рецепт ее приготовления? Кисть руки. Тушить в шерри, приправленном долькой чесноку и мелко порезанным сладким перцем. Не хотите ли записать?
– Герр Шнайдерхан, – сказала Хелла и сердито посмотрела на Коринфа, – совершенно не любит человечины. Так же, как и вы.
– Ох, – сказал Коринф (и подумал: «Надо бы и тебе об этом узнать»), – у алтаря…
Шнайдерхан, замерев, моргал глазами и молчал. Со всех сторон их толкали делегаты со своим кофе. Толпой их почти прижало друг к другу. Хелла посмотрела сперва на одного, потом на другого.
– Мне кажется, вам надо что-то обсудить, – сказала она, – я должна…
– Вовсе нет, – откликнулся Коринф, – мы все утро проболтали.
Но Хелла дружелюбно кивнула.
– Увидимся за обедом. Вы, конечно, пойдете вечером на концерт, господа?
Как только она исчезла, Шнайдерхан перевел взгляд на Коринфа, который, глядя на него с усмешкой, произнес:
– Как вы побледнели.
– Не будете ли вы так любезны пойти со мной? – Шнайдерхан, напрягшись, смотрел на него.
– Вы хотите мне что-то объяснить насчет газа?
– Господи Боже! – прошептал Шнайдерхан.
Вслед за ним Коринф выбрался из толпы; они подошли к столу, на котором была разложена специальная литература и рекламы инструментов для лечения зубов. У стола стояла юная белокурая девушка. «Ага, вот и помощница», – подумал Коринф. За окном позади девушки старик мел двор.
Шнайдерхан очень близко придвинулся к нему; кожа у него была плотная, жирная. Он был в отчаянии.
– Вы должны мне кое-что пообещать.
– Не думаю.
Шнайдерхан хлопнул себя по губам и взялся за лацкан пиджака Коринфа. Коринф повернул голову и подмигнул девушке; та рассмеялась, глядя в сторону.
– Я должен вам о чем-то рассказать.
Коринф расхохотался:
– Еще о чем-то? Может быть, ваше настоящее имя – Гиммлер? На меньшее я уже не соглашусь.
Шнайдерхан заметил, что девушка смотрит на них; некоторые доктора тоже поглядывали в их сторону с интересом. Он отворил дверь, потянул Коринфа за собой, и они оказались в пустом классе.
Под картинами, изображавшими исторические события, стояли парты, на время оставленные хозяевами: измазанные чернилами, полные книг и тетрадей, они молча глядели на классную доску, где стояло:

И под этим, обведенное кругом: Не стирать.
– Вы могли бы объявить меня сумасшедшим, – сказал Шнайдерхан, – но я умоляю вас мне поверить.
– Не надо умолять. Чего вы хотите?
– Не знаю, как это сказать.
– Может быть, вы собираетесь рассказать мне, – сказал Коринф, присаживаясь на крышку парты в первом ряду и вытягивая ноги, – что вы не могли иначе? Что занимались этим из страха за свою дочь, которая была влюблена в капитана люфтваффе?
– Вы, видимо, найдете это подходящим предметом для насмешки, – сказал Шнайдерхан страдальчески.
– А вы бы хотели, чтобы я испытывал отвращение? – спросил Коринф громко. – Тогда вы еще сегодня попали бы в тюрьму. Я уже сказал, что ни в чем вас не упрекаю. Как могут меня волновать ваши побудительные причины? Могу предположить, что вы делали это из материнской любви.
Шнайдерхан отвернулся, потом снова встал к нему лицом.
– Я совсем о другом, герр доктор. Это… это все неправда.
Коринф закурил. Из-за двери доносился шум, разговоров. Он выпустил дым.
– Так.
Шнайдерхан стоял, ритмично сжимая кулаки, словно собирался выдоить правду из воздуха.
– Клянусь вам, что я не имел никакого отношения к концлагерям!
– Вы сознаете, какое впечатление производите на меня сейчас?
– Я не знаю, почему я это сказал. Может быть… потому что я вас ненавижу, но я все равно не знаю почему. Я ведь с вами совсем незнаком.
– Ну, это вовсе не обязательно для ненависти, – сказал Коринф успокоительно.
– И я не знаю, почему я сказал, что ненавижу вас – я хочу сказать… Раньше у меня было бы больше причин для того, чтобы… но потом… Вы не слушаете. Поверьте мне, ради Бога! Это был припадок безумия! Я не знаю, что со мной происходило.
– Вчера, сегодня. С вами это частенько случается.
– Я могу только сказать, что это неправда!
Задыхаясь от бесполезности своих слов, он прошелся по классу, схватил указку и снова положил. Коринф отбросил сигарету и следил за ним, не спуская глаз.
– A-а, вы хотите сказать, что ваше настоящее имя фон Штауффенберг! [39]39
Клаус Шенк фон Штауффенберг (1907–1944) – офицер вермахта, полковник; один из руководителей группы заговорщиков, совершивших покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.; расстрелян.
[Закрыть]– Коринф кивнул. – Конечно. Вы бросили бомбу в Гитлера, чудом бежали в Америку, там повстречали меня, но я об этом позабыл. Точно, так оно и было.
Он сунул руки в карманы и, пританцовывая, направился к окну. На подоконнике стояли горшки с цветами, заботливо обернутые бумагой. Из-за большого здания на другой стороне улицы, от которого остался один фасад, выехал грузовик, полный обломков. Он обернулся.
– Я не понимаю, чем вы сейчас занимаетесь. Я просто хотел бы это точно знать. Вы делали то, что делали, и я делал то, что делал. Я – последний человек, который мог бы на вас донести.
– Я не делалто, что я делал! – заорал Шнайдерхан. – Я хочу сказать, я ничего не делал!
– Вы это так красиво сказали: внутренний фронт, тихие холмы, мирные леса. Это звучало очень аутентично, вы могли это заметить по реакции фрау Вибан. К чему теперь вся эта чепуха? Вы так гордитесь этим, что не смогли удержаться и не рассказать. Ладно, это ваша специфическая черта, ваш способ, при помощи которого вы пытаетесь покончить со мной. Меня это не трогает, и я хочу, чтобы вы это знали. По-моему, вы только усугубляете ситуацию, отрицая свою вину.
Теперь, в полном отчаянии, Шнайдерхан пошел на него.
– Не убийца! – прошипел он. – Я не хочу, чтобы обо мне думали, что я убийца! И не хочу, чтобы вы так думали! Я бы много чего еще мог сказать. Я этого не делаю, потому что чувствую, что у меня больше нет права. Я проиграл вам право на мою правду – по непонятному капризу. Я не буду больше пытаться вам ничего доказать, но я не убийца. Гибелью моей жены и ребенка клянусь вам: я не убийца.
Весь дрожа, он поднял правую руку, выставив вверх два пальца.
Испытывая отвращение, Коринф обошел его, остановился у доски, стер формулу и написал:
Почему был Нерон Нероном?
Потому что Нерон был Нероном.
Он положил мел, плюнул на пол и вышел из класса.
Коридор почти опустел; последние участники конгресса заходили в двери зала. У стола девушка складывала книжки стопками. Коринф подошел к ней:
– Помощь не нужна?
Он заметил, что разговор почти не возбуждал его. Девушка вспыхнула, взглянув на него.
– Тут немного работы. А разве вы не должны смотреть фильм?
– Пойдем на фильм вместе.
Девушка покраснела еще сильнее. Коринф оставил книги и спросил:
– Как тебя зовут?
– Карин.
– Норман.
Она вежливо подала ему руку.
– Какие у вас ледяные руки. Вы что, эскимос?
Смеясь, Коринф разглядывал темные брови, голубые глаза, нежную кожу.
На пороге класса появился Шнайдерхан. Он бросил взгляд на Коринфа и исчез за дверью в зал.
Испуганно закусив губу, Коринф посмотрел на Карин.
– Поссорились? – спросила она, продолжая складывать книги.
– Вроде того. Мой лучший друг. Мне не хотелось бы его презирать. В этом не было нужды. Ты не находишь, что иногда на действия не стоит обращать внимания, но стоит прислушаться к словам?
– Что вы хотите сказать? – Она подозрительно посмотрела на него.
– Я хочу сказать, если кто-то, к примеру, совершил… скажем, кражу со взломом. Не беспокойтесь, этот господин не совершал кражи. Но если кто-то совершил кражу и сказал об этом своему другу, то друг не считает его поступок таким уж плохим, потому что он все-таки друг и, собственно, тоже взломщик. Но если он начинает отрицать факт кражи, а друг знает, что кража имела место, то друг начинает его презирать. Не потому, что он украл, но потому, что своей ложью он предал дружбу.
– Если бы моя подруга совершила кражу, я бы сказала ей, что она должна вернуть все, что украла.
– Конечно. Но если украденное уже невозможновернуть?
– Но ведь это всегда возможно?
Чуть улыбаясь, Коринф глядел на нее.
– Но если все уже продано, Карин?
– Тогда надо все выкупить.
Коринф помолчал.
– Я должен это обдумать, – сказал он.
Когда они вошли в зал, на экране гигантские пигмеи откусывали куски от жареных бутылочных тыкв и кенгуру; проектор стоял посередине, между рядами, и, освещенные мигающими джунглями, они отыскали свободные места сзади. Коринф положил руку ей на плечо.
– Но герр Норман, – прошептала она.
– Я боюсь темноты.
– Ну, вы даете.
Пигмеи охотно открывали рты перед камерой; один из них наблюдал со стороны, хихикая и небрежно держа за крыло курицу.
– Глядите, какой брезгливый, – сказала Карин.
«Если бы он подошел, чтобы воткнуть мне нож в спину, – думал Коринф, – Карин бы поняла, что это он, и он об этом знает; он этого не сделает».
Карин засмеялась. Человек в коротких белых штанишках выдирал пигмею зуб, а тот, визжа, изо всех сил сжимал свой, упрятанный в футляр, пенис; потом человек, зажав зуб в щипцах, смеясь, показал его орущей деревне. И тут пигмей подпрыгнул, выхватил зуб из щипцов и убежал куда-то за кадр. После его поймали, связали и выковыряли, хохоча, из раны остатки корней. В ходе борьбы футляр соскочил с пениса, и, когда соплеменники начали радостно кувыркаться, Карин повернулась к Коринфу.
– Фильм для тех, кто старше восемнадцати, – прошептал он.
– Это просто ужасно.
– Мы нисколько не лучше.
– Вы тоже такой живодер?
– Я? Способен на все. Что вы делаете завтра вечером?
Она посмотрела на экран и снова повернулась к нему.
– Вы – садист? – поинтересовалась она.
– Я всегда работаю без наркоза.
Он засмеялся, поглядев ей в лицо, и поцеловал ее. Она обхватила руками его шею и начала его целовать. Он подул на ее волосы и сказал:
– Ты вкусно целуешься.
– Я чищу зубы каждый день, по два раза.
– Очень хорошо. Еще надо есть много яблок. Именно благодаря яблокам у Евы были здоровые зубы. – «Боже, – подумал он, – что за плоская шутка».
Карин искоса посмотрела на него:
– А с фрау Вибан вы так же быстро разобрались, герр дантист?
– С фрау Вибан? – переспросил он ошеломленно.
– Да, не пытайтесь выглядеть невинно. Я свои глаза не в кармане ношу. Я хорошо видела, как вы вчера с ней говорили, во время обеда и потом.
– И где же ты вчера сидела?
– Почти напротив вас, но вы никого, кроме нее, не видели. Когда вы вышли, она почти сразу вышла за вами, а ваш друг – вы еще назвали его «взломщиком» – последовал за ней. Чудесный конгресс. А от нас эта фрау Вибан требует «приличного поведения».
Коринф погладил ее по шее.
– Я и думать забыл о фрау Вибан, Карин.








