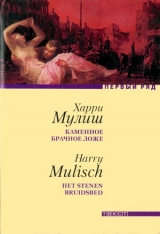
Текст книги "Каменное брачное ложе"
Автор книги: Харри Мулиш
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
Хелла уставилась на него, открыв рот, словно не могла поверить тому, что он сказал, потом перевела взгляд на его руку, касающуюся ее руки. Вдруг она прижала обе руки ко рту и в отчаянии оглянулась.
Коринф вскочил, подхватил ее подмышки и, пока позади них полицейские в касках обрабатывали драчунов дубинками, быстро дотащил до двери, на которой стояло «Для дам». Дверь оказалась заперта. К счастью, ему удалось открыть соседнюю дверь, и едва они оказались снаружи, рвота потекла из-под ее ладоней. Он пригнул ее вперед, нажав на шею и поддерживая другой рукой под грудью, пока ее рвало так, как будто она уже ничего не могла удержать в себе.
Ночь. Прохладная тишина. Сухое тик, тик, тик неслось оттуда, где женщин и девушек освещали прожектора на подпорках. Он думал: я жив.
АРИСТОТЕЛЬ И МУХИ
Он повернул выключатель, и со всех сторон зажглись лампы; потом повернул еще раз, некоторые погасли, а возле одной из четырех кроватей зажглась маленькая лампочка. Он помог ей снять пальто и бросил свою шляпу на постель.
– Садитесь. Я купил бутылку коньяку в самолете, но, к сожалению, сам же ее и прикончил.
– Не создавайте проблем. – Она села на краешек кровати и потерла лоб. Лицо у нее было белое, тонкое; высокие скулы придавали ему что-то монгольское.
– Вы бы в кресло сели, – сказал он и оглянулся, но в комнате не было ни одного кресла. Он сел на другую кровать, напротив нее. Пахло плесенью. В полуподвале чем-то стучал Гюнтер. Тихий замок поглощал все звуки, и он смотрел на нее. Сумрачная комната кружилась перед его глазами. – Почему бы вам не расслабиться? Прилягте.
– Это ужасно, что я доставляю вам такое беспокойство, но мне уже лучше. Вы очень добры ко мне, герр доктор.
Она не стала ложиться. Конгресс еще шел, а он был иностранным гостем. Чтобы успокоиться, он закурил сигарету.
– Если бы вам не стало плохо, нас забрали бы в полицию. – Он помолчал. – Вы съели что-то несвежее?
– Мы ели совсем мало, – сказала она, не глядя на него, – скорее всего, дело в выпивке. И потом, там было так душно, и этот рассказ…
– Конечно, – кивнул он. – Что за занятный персонаж этот герр Шнайдерхан. Вы с ним что, знакомы?
Она затрясла головой, потом сказала:
– Нет.
– Вы, конечно, встречаете самых удивительных людей, при вашей-то работе. И давно вы этим занимаетесь?
– Почти четыре года.
Он заметил, что она обрадовалась смене темы. Что-то ее беспокоило. Кто такой этот Шнайдерхан?
– Как вышло, что вы занялись этим?
– Герр Коринф, вы приносите себя мне в жертву. Идите спокойно спать. Сегодня днем я думала, что вы и часа не продержитесь. Утром вы еще летели над океаном.
– Мне кажется, что я тут уже несколько дней.
Она кивнула дружелюбно:
– Тогда спокойной ночи.
– Вы пытаетесь убедить меня в том, – сказал он медленно, – что хотите остаться в одиночестве?
Она молчала. Он затянулся сигаретой и подумал: «Понимает ли она, что прямо сейчас уляжется со мной в постель?» Желание торчало и мешалось внутри его тела, словно тяжелая железяка, вроде чугунного лома. Ее белые, полные руки лежали на коленях. Он проанализировал ситуацию. На другом конце комнаты между деревянными колоннами стояли, сдвинутые вместе, третья и четвертая кровати. Над ними висели написанные на выгнутых досках иконы в золотистых тонах. Он встал, пошел в эркер и сел там на подоконник.
– Вы довольно жестко с ним обошлись, когда он стал рассказывать о своих увлечениях. О руинах, – он заметил, что не произносит имени «Шнайдерхан», словно само собой разумелось, что ни о ком другом разговор идти не может.
– Я знаю, я никогда не могу с собой справиться… (Он улыбался, пока не увидел, что она это видит, и сразу перестал, но снова улыбнулся, потому что увидел, что она увидела, что он перестал.) Вы должны понять. Только немцы могут проливать слезы наслаждения при виде руин. Подозрительное качество. В восемнадцатом веке здешние герцоги строили в своих парках искусственные руины. В наше время в этом нет большой нужды, можно сказать, что романтика руин после войны несколько устарела.
– Ох, – сказал Коринф, – я не верю, что вы нанесли ему вред. Он абсолютно романтический персонаж. Даже когда он курит сигару, это выглядит совершенно естественно. Все, что он делает, столь же картинно. Время от времени он казался мне похожим на отца – каким я его помню в ту пору, когда мне было лет пять. – Он встал и поглядел в окно. – Должно быть, чудесно обладать подобным характером.
Она не ответила ничего определенного. На темной террасе, в густой тени рододендронов, отсыревал каменный ангел. Балюстрада загораживала вид на долину.
– Вы считаете себя бесхарактерным, герр Коринф?
Он поглядел сквозь стекло, в котором не было ее отражения, и спросил:
– Разве может быть вместо характера что-то другое? – Она молчала, и он продолжил: – Идол, например? Или просто пустое место? – Чувствуя, что она не смотрит на него, он медленно подошел к раковине и попытался закрутить капающий кран. – Может быть, это такое понятие – романтическая личность. Как определение характера.
Она помедлила, глядя на него с кровати, потом сказала:
– Война кончается, когда умирает последний ее участник.
А она совсем не глупа. Он поглядел на ее ноги, и желание взвыло в его мозгу; внутри у него все задрожало.
«Почему я не могу к ней подойти и молча лечь возле, на край постели? – подумал он. – Вот он, вот она, а снаружи – только ворона парит над темной лощиной!»
Он сказал:
– Я сегодня дважды напился и дважды протрезвел. Я чувствую такую ясность ума, как никогда в жизни.
– Я бы тоже хотела себя так чувствовать. Завтра в девять я должна быть внизу, на приеме, который дает городской совет. В новой ратуше. Я не стану спрашивать, придете ли вы.
– Можете спросить. Я с удовольствием послушаю ваш голос.
Она рассмеялась.
– Такого участника конгресса, как вы, я никогда еще не видела.
Он тоже рассмеялся и подумал: «Пора переходить в наступление, иначе она сейчас велит мне выметаться». Стеклянная клетка ждала его где-то высоко на крыше, он чувствовал это и помнил, что он не должен туда идти. Он подумал – на стратегию, разговоры по душам, нежное проникновение в сердца друг к другу времени уже не осталось: блиц! Он должен ее спровоцировать, застичь врасплох.
– Много лет прошло с тех пор, – сказал он, – когда в Европе я был наедине с женщиной.
Она снова засмеялась, высокомерно, в нос.
– А что, американские женщины другие, герр доктор?
– Их просто не существует.
Она посмотрела на него снизу.
– Вы женаты, герр доктор?
– В некотором роде, – кивнул он.
– Вы находите приличным так говорить о своей жене, герр доктор?
Он старательно обдумал ответ.
– Моя жена на самом деле не в полной мере моя жена.
– Вы хотите сказать, что жена вас не понимает и что вы очень ее любите, но чувствуете себя очень одиноким?
– Вы не даете мне возможности не сказать этого. Вы верите, что я сказал бы именно так?
Она улыбалась глядя на свои руки.
– Вероятно, вам лучше знать.
Он вежливо поклонился:
– Если бы моя жена понимала, что она меня не понимает, все, может быть, удалось бы наладить. Но моя жена понимает даже, почему мышки пищат, а гуси гогочут. Знаете ли вы большее тщеславие, чем все понимать?
– Что ж тогда, по-вашему, существует между людьми, если не существует понимания?
Он тихо рассмеялся:
– Вы мне нравитесь.
– Вы мне тоже, – сказала она и посмотрела ему в глаза, – но позвольте мне сразу сказать, что вы слишком самоуверенны, если думаете, будто я когда-то, для кого-то соглашусь быть непервой и единственной. Если я ошиблась, прошу прощения. Мне было бы жаль, если бы вы на меня рассердились.
Он рассмеялся:
– Женщины всегда чересчур спешат. Никогда не ждут. Всегда хотят всего и сразу. Начинаешь с ними болтать, а они заводят речь о постели. Выказываешь дружеское расположение, а они планируют, как откажутся с тобой спать. Все женщины одинаковы. Иногда, верители, просто руки опускаются.
Она смотрела на него растерянно.
– Круто. Такого у меня еще в жизни не было.
Он сунул руки в карманы и расхохотался грубым смехом, и она подумала, что это очень мужской смех. Потом сказал:
– Это меня чрезвычайно забавляет.
– Я заметила.
Она все еще была слишком смущена, чтобы сказать что-то более значительное. Он некоторое время смотрел на нее, потом снова заговорил:
– Вы никогда не думали о том, что в описании сильных чувств может таиться большая ошибка?
Она внимала ему с подозрением, в нем было что-то опасное. Она чувствовала себя окруженной, атакуемой. Он скрестил руки на тумбочке, покрытой мраморной плитой. В доме не было слышно ни звука. Он сказал (и подумал: «Как интересно – то, что я здесь думаю и говорю, становится там частью ее»):
– Взять войну. Кодекс предписывает ненавидеть врага, есть еще вариант – его возлюбить. А я никогда не ненавидел нацистов – хотя и не возлюбил, представьте себе. Было только смутное отвращение, чувство нечистоты, удивления, смешанного с некоторым возбуждением, может быть, немного зависти или чего-то в этом роде. Если просуммировать – чужой бардак. Зато если кто-то в метро меня оттолкнет, так что я пропущу поезд, я его возненавижу по-настоящему. Сильнее, чем Гитлера! Может быть, у него жена при смерти или он слепой, все возможно – плевать, я готов буду разорвать его на части, вырвать у него язык, истребить его семью, сжечь до основания деревню, в которой он родился.
– Но это безумие!
– Это – реальность. Будьте честны. С вами ведь тоже так.
– Абсолютно нет, – пылко возразила она.
– О, это еще не все. Человек имеет совсем другую структуру, чем та, которую требует у него кодекс. Почти все, что мы о нем знаем, – это не он, это – кодекс. Психология говорит о человеке не больше, чем имена звезд говорят о самих звездах. Вне кодекса остается реальная жизнь, которая последователю кодекса подходит как… как человеку подходят музейные латы. Вы хоть раз думали о том, какие безумцысуществуют? Их тысячи в каждом городе, полные психушки полководцев, королей, чайников, кактусов, святых дев, Пап Римских, мессий или просто тех, кто пугается определенных слов или даже точки на стене. Я это у вас спрашиваю. Вы этого не знаете – больше не знаете. Вы уверены в себе и только ради пользы делапозволяете уродству себя обманывать, и это существует многие века: благодаря кодексу, благодаря обществу.
– То, что вы называете уродством, я называю организацией, – сказала Хелла и одним движением поднялась. – То, что вы называете обманом, я называю культурой. Вне кодекса,как вы это называете, никакой структуры нет, только несчастье, варварство. – Она сделала несколько шагов в сторону окна и добавила: – Вы… вы просто дикарь.
– Может быть, может быть, – кивнул он и посмотрел, оскалившись, на зуб, болтавшийся у нее на шее. – Но вы когда-нибудь пытались сравнить свои кодексовые чувства со своими обычными чувствами? Я надеюсь, вы их еще имеете.
– Я этого не желаю.
– А вот я именно это называю уродством. Вы – в точности как те люди, которые веками верили, что у мух четыре лапки, потому что так было написано у Аристотеля. Никто не догадался взять да и пересчитать их; а когда кто-то пытался сделать это, он думал, что у него не в порядке глаза или ему случайно попался ущербный экземпляр; во всяком случае, рта он не раскрывал, на костер угодить никому не хотелось. А главное, Аристотель, несомненно, изучил предмет лучше, чем мухи. Вот и вы такая.
– Почему я, собственно, позволяю вам все это говорить? Что вы имеете в виду?
Она закурила, возмущенная. Коринф (обнажив зубы, растягивая мертвую кожу) рассмеялся. Он взмахнул рукой:
– Наверное, это все Дрезден. Я весь день этим занят. Город произвел на меня огромное впечатление.
Она курила короткими, нервными затяжками. Он не видел ее лица.
– Что же у вас останется после всего этого? Если вы говорите не просто так, если верите в это, это ужасно. Значит, вы видите человека, как… как… Тогда всё – кодекс, и весь наш мир чужд человеку. Любой идеал, даже замужество…
– Вы говорили, что вы в разводе, – сказал он дрогнувшим от тревоги голосом.
– Вы и любви тоже не знаете.
– Простите. Брак – это что-то вроде войны: неопределенность, беспорядочность. Но любовь – это человек в подполье. Это – настоящее.
– Но она так же быстро исчезнет, как ваша ненависть к людям.
– Может быть. Но она быстро возвращается, и она – настоящая; она не такая, какой люди воображают ее себе, – и не другая. Какую роль играет здесь время? Время… – сказал он, – время – это для швейцарцев.
– Это, – сказала Хелла через несколько секунд, и с каждым словом из ее рта выплывало облачко дыма, – в вас говорит солдат, человек, побывавший на войне. Разрушенный человек.
– Конечно, – Коринф двинулся к ней, твердо глядя ей в глаза. – А разве другие бывают? Что вы делали во время войны? Отчего вас стошнило? Может быть, вы сидели в концлагере? В глубине леса или на мирном холме? И не был ли Шнайдерхан начальником такого лагеря?
Она смотрела, как он подходит. Он стоял перед ней, не спуская с нее глаз. Вся дрожа, она смотрела в его изуродованное лицо, над которым смерть провела эксперимент на выживание, лицо, которое оказалось теперь так близко; она не знала, что теперь все зависит от него, ей почудилось, что его рука входит в ее тело, и она задрожала от наслаждения; она была потрясена и не могла сопротивляться, она почувствовала, как он провел руками по ее спине, и скользнула к нему (он подумал: «Я тебя получил»), и смотрела через его плечо, пока мысли, чувства, слова, кровь текли сквозь нее. Глаза Коринфа блестели, уставясь в ночь за двойными окнами.
Прошло очень много времени, две или три минуты, и она сказала бесцветным голосом, глядя ему в плечо:
– Завтра я выясню, кто он такой.
Коринф кивнул:
– Да.
– Должно быть, мы ошиблись. Совершенно невозможно, чтобы его с таким прошлым пригласили сюда, не говоря уж о том, что он должен быть членом партии.
– Кто сказал, что он член? Он этого не говорил.
– Но не такой же он дурак, чтобы намекать на военные преступления, если он никогда не проходил процедуры денацификации? Он, должно быть, имел в виду что-то другое. – Она поглядела на дверь. – Он не мог иметь в виду что-то другое.
Коринф подумал, я спрошу его завтра, я должен это знать.
– Сколько времени ты просидела там? – Его голос был мягким и тихим.
– Шесть лет.
– Почему? Ты еврейка?
– Член компартии.
«Суперкодекс, – подумал он, – а теперь ты обнимаешь меня».
– Мне надо потушить сигарету, – сказала она и попыталась высвободиться из его объятий.
«Опасность!» – подумал он.
– Дай сюда. – Он вынул сигарету из ее пальцев и бросил на ковер. Она поглядела на него и сказала:
– Солдат. – Не скрываясь, она рассматривала его лицо (словно за это время оно изменилось), потом спросила: – Почему русские?
Он прижал ее к себе:
– Как ты думаешь, почему из ста тысяч американских дантистов они выбрали именно меня?
– Потому что ты – самый лучший.
– Не смеши меня.
– Потому что ты коммунист.
– О, – сказал он, – хочешь сказать, что весь вечер я тебе объяснял принцип организации компартии Америки?
– Тогда не знаю. Ты был в Красной армии?
– Должен тебя разочаровать, нет.
– Как же ты к ним попал?
– С неба свалился.
Она помолчала.
– Ты бомбил города?
– Да.
Она захотела высвободиться, но он прижал ее к себе, усмехаясь. И вдруг она обняла его в ответ и пробормотала:
– О Господи.
Они молчали, не разжимая объятий. Комната обнимала их. Кап, кап, кап, кап, кап: кран.
– Поэтому ты сегодня снял шляпу, когда смотрел в долину, – сказала она.
– Разве?
– Да.
Он попробовал вспомнить, но не смог. Ему это показалось смешным.
– Это тебя преследует? – спросила она.
– Нет, – ответил он. – Почему? Разве ты согласилась бы просидеть еще год в лагере?
– Я подумала о Дрездене.
– Это были англичане, – сказал он.
– Это имеет для тебя значение, был ты там или не был?
Он подумал, если бы я сказал, что вторая волна состояла из американцев (и что третью волну пришлось отправить на Лейпциг, потому что жар сделался невыносимым), то я все бы погубил.
– Нет, – ответил он. Подумал и прибавил: – Этого словно никогда не случилось. Тысячу лет назад. Я – убитый грек из армии Агамемнона, который жив до сих пор. Я никогда об этом не думаю.
Она поглядела на него:
– Тебе не кажется, что это еще страшнее, чем когда тебя это преследует?
Он потряс головой и почувствовал, что лицо его сделалось влажным; вдруг ему стало страшно, но он не понял – отчего. Страшно, и все. В испуге он взглянул на нее, широко открыв глаза, и оглядел темную комнату – окно, кровать, лампа, столик, – словно пытался остановить то, что его пугало.
– Господи Иисусе, – сказал он, сжимая ее руки, но не решаясь посмотреть на нее, словно опасно было выпустить комнату и вещи в ней из поля зрения, – Господи, Хелла, со мной что-то не так… – В ужасе она смотрела, как крупные капли пота выступают у него на лбу и вокруг носа. Взгляд его метался по комнате. Ему становилось все страшнее: все вокруг дрожало, словно вещи перестали быть вещами, и это грозило ему чем-то ужасным. Он думал: свету, свету, – но не мог говорить; он чувствовал нечеловеческое напряжение, но какое? против чего? Потом приступ пошел на убыль, словно штормовой ветер, который стал стихать, и исчез вовсе.
Он поглядел на нее.
– Что это было? – у него почти совсем пропал голос.
Комната была комнатой, Хелла – Хеллой. Глаза ее округлились от испуга; она не могла произнести ни слова. Он провел рукой по лицу и внимательно оглядел комнату, хотя понимал, что ничего в ней не найдет, ничего и никогда, что «оно» исчезло, словно и не появлялось. Не находя слов, он смотрел на нее.
– Что-то случилось вдруг… Словно… – В отчаянии он сжал ее плечи.
– С тобой такое раньше случалось?
– Никогда.
Она коснулась его лица кончиками пальцев, разглядывая его. Оно состояло из лоскутков и обрезков, как сегодня вечером, когда он сказал: «Не правда ли, она – самая прелестная женщина в мире»?
– Разденься, – сказала она.
– Да.
Он сел на кровать, развязал галстук и стал раздеваться. При этом он все время оглядывал комнату, пытаясь разобраться в своих чувствах, но от того странного ощущения не осталось и следа: все было твердым, стояло непоколебимо, словно мир, в котором он жил, всегда был таким. Зеленого шепота тоже не было слышно – это порождало смутное беспокойство. Шепот сопровождал его весь день. Тут он обнаружил, что у него жутко болит затылок. Он покрутил головой и подумал, что это просто от переутомления, тело протестует, кровь оттекает от мозга…
– Отвернись.
Он послушно отвернулся, но не увидел ничего интересного: окно, панели шоколадного цвета. Он вопросительно взглянул на нее. Она стояла в одной рубашке рядом с умывальником.
– Я сказала, отвернись, – повторила она.
Он снял с себя остатки одежды. И пока она уютно устраивалась в кровати, бормоча, что это ужасно, что она всегда возмущалась девчонками, готовыми забраться в постель к любому иностранцу, и вот лежит тут, в первую же ночь, она помешалась, обалдела, но кто мог знать, что он окажется таким варваром, – он обливался водой, набирая ее горстями, позволяя ей струиться по спине; потом обтерся. Она лежала, свернувшись клубочком, и смотрела на него.
Погасив свет у двери и протянув вперед руки, абсолютно обнаженный, он стал искать к ней дорогу в темноте, натыкаясь на углы и чувствуя, что цели его совершенно переменились. Он ощупывал покрывала, пока не нашел ее лицо, и забрался в постель рядом с ней.
– Ах, милый, – сказала она, лаская его. – Ты будешь осторожен?
– Да, – ответил он и больше ничего не смог сказать. Боже, думал он, Боже, это возможно, его руки блуждали по ее телу – каждый раз словно впервые.
– Какие у тебя чудные, холодные руки. Но тебе нельзя остаться на всю ночь, сам подумай. Я не хочу, чтобы этот педрило заметил.
– Людвиг, – пропыхтел он, ничего не понимая.
– Для тебя это не имеет значения, – прошептала она, раздвигая ноги. – Ты весь в шрамах. Любимый, солдат…
– Весь, весь, – согласился он.
– Как это называется по-английски?
– Fuck, fuck, fuck…
– Ficken. Почти так же.
Всхлипывая, вскрикивая входили они друг в друга. Ночь развалилась, иконы засветились и комната
Песнь вторая
загорелась. Как во дворце хрустальные светильники и сверкающие венцы остаются в пределах парадного зала – и, улыбаясь, следует по мрамору президент под руку с женой, и что-то говорит ей, и машет гостям, поющим государственный гимн, так яркие ракеты отделили высоту ночи от глубины обреченного предместья, пушки палили: с крыш, из парков, с платформ. «Еще восемьдесят секунд», – прозвучал властный голос штурмана. «Восемьдесят», – повторил его слова истребитель городов и решительно взялся за рукоятку. Дробь свистела и говорила: Чпок! Чпок! Голубоглазый Коринф поднял свой дрожащий пулемет, а через четыре секунды опустил и направил его убийственный огонь меж плывущих в воздухе кораблей вниз, на предместье. И перед началом никогда не ошибающийся Алан произнес: «Держи хвост огурцом, шкипер». Так он сказал, и тогда пилот грозно накренил внушающий ужас воздушный корабль. Время шло, и, когда ночь поднялась в глазах умирающих, прозвучал голос штурмана Харри: «Еще семьдесят секунд». – «Семьдесят». Юный Патрик рассмеялся, неизвестно чему. Его божественной красоты лицо было покрыто потом, как утреннее поле – сверкающими каплями росы. Коринф искал гордыми глазами ближайший город, но он был скрыт траурной вуалью дыма. Одна за другой гасли ракеты, но несчетные чудовищные огни пылали внизу, за пеленой дыма. Там, наверху (так пчелы жужжат над сладким ртом спящего ребенка – и отец мчит через сад, запустив пальцы в волосы), жужжали, разворачивались, описывали круги «либерейторы». Положив руки на пулемет, голубоглазый спокойно смотрел, как они приближаются. Круглая вершина холма проплыла под ним, блеснула вода. «Еще сорок секунд. Открыть бомбовые люки». – «Сорок. Бомбовые люки», – повторил сотрясающий землю, и слова его слились со скрипом люков и со словами украшенного нейлоновым чулком Франка и упали во тьму. «Господи Иисусе, если б я жил в Дрездене, немедленно переехал бы». Такие бесстрашные слова, а моторы на пределе сил несли свою ношу; оглушительно грохотали взрывы, и клубы дыма всплывали над ними, словно утопленники в море, полном редких рыб. Радист Джим заорал: «Двести метров направо от красной отметки! Сохранять высоту!» Так кричали во время доисторических битв: и благородный Арчи заорал в ответ: «Двести метров направо!» В черных клубах дыма пылали огненные шары: так глаза дикой кошки светятся ночью в кустах. «Еще тридцать секунд!» – «Тридцать!» У себя, на носу, голубоглазому герою был слышен свист бомб, пролетающих с высоты, но, хотя его глаза были зорки, он видел только вспышки в тумане, зарево пожаров и на этом фоне – нижние самолеты, словно нарисованные острым пером, спокойно летящие вперед. «Еще десять секунд!» – «Десять!» – «Мать твою!» – пробормотал про себя голубоглазый, его заливало потом из-за жара, поднимавшегося снизу, он увидел, хмуря красивые, полукруглые брови, как два самолета пылающими осенними листьями закружились в черном воздухе и по дороге к земле прихватили с собою третий. Но тут штурман заорал: «Бомбы!» – и разрушитель городов отозвался: «Бомбы!» И чудесный воздушный корабль подпрыгнул, встал на дыбы и сладострастно взревел в четыре глотки, и сотрясатель земли пронзительно проорал, притоптывая, бессмертные слова: «Эй! Эй! Эй! Они летят! Heil Hitler! Heil Hitler!» Так он орал, не помня себя; но штурман сказал: «Поворот на сто двадцать градусов, лететь прямо!» – «Сто двадцать градусов, прямо!» – повторил бесстрашный капитан и рассмеялся. И они летели пять минут, как бы совершая круг почета над городом, но на самом деле – над тихим, темным полем, где деревья сгибались под ветром, и набожный фермер, преклонив колена, смотрел вверх и говорил: мы пообедали ветчиной с яйцами, в последний раз, мы трудились для рейха, но это время прошло, что теперь? И хитрый Франк произнес: «Держу пари, полгорода сейчас купается в Эльбе». И никогда не ошибающийся Алан поддержал его план: «Давайте слетаем и посмотрим, парни! Сюзи в купальне!» [21]21
Намек на картину «Сюзанна в купальне» немецкого художника Альбрехта Альтдорфера (1480–1538) из коллекции Дрезденской галереи.
[Закрыть]И сотрясатель земли засмеялся: «Вперед!» – и свернул, и направил самолет к реке, и, отбрасывая назад взбудораженную гремящими моторами воду, воздушная крепость следовала за мягкими извивами реки к дымящемуся городу, которому суждено было гореть семь дней и семь ночей. И потерявший работу сотрясатель земли Патрик поглядел через плечо штурмана и закричал смеясь: «Глядите! Глядите!» И голубоглазый Коринф увидел их: в черной воде, освещенных дрожащими огнями пожара, головы, неподвижные. И он рассмеялся под своим куполом смехом победителя и крикнул: «А не спеть ли мне им серенаду?» – и все рассмеялись, весь экипаж, Джим, Алан, Франк, Патрик и Арчи, и он начал стрелять по ним, головы разлетались, они переворачивались, сталкивались, подпрыгивали, падали в воду, тонули, а они, пилоты, хохотали в ночи и пели:








