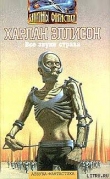Текст книги "Миры Харлана Эллисона. Том 2. На пути к забвению"
Автор книги: Харлан Эллисон
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 29 страниц)
Эротофобия
– Все началось еще с моей матери, – с отвращением произнося каждое слово начал свой рассказ Нейт Клейзер. Брр, и чего только стоит вспоминать об этой мерзости! Мало того, что сейчас он был на приеме у психиатра, мало того, что его уложили на ярко-зеленую кушетку, мало того, что он страдал от естественной для каждого мужчины неловкости, но ему еще приходилось все рассказывать, задыхаясь от нахлынувших чувств, врачу-женщине, и, вдобавок, начинать рассказ со своей матери.
– А часто ли вы… ну… сами с собой? – спросила врач Фелиция Бреммер, выпускница Шпицбергеновского Колледжа Психологических Проблем.
– Да не нужно мне это! В том-то и дело. – У него опять возникла боль в голове, где-то в глубине за правым глазом. Пальцы левой руки зажили свой жизнью, независимой от его воли, и заскребли по зеленой кушетке.
– Давайте еще раз вернемся к Вашему рассказу, – попросила доктор Бреммер. – У меня нет полной уверенности в том, что я Вас правильно поняла.
– Ну, хорошо. Вот, к примеру, – он попытался встать, но она твердо положила свою мягкую руку ему на грудь и он был вынужден продолжать лежа. – Вы известны как специалист по проблемам сходным с моей, ну скажем, имеющим отношение к сексу, так? Прекрасно! И только для того, чтобы увидеться с вами, я беру билет на самолет и лечу из Торонто в Чикаго. В самолете находятся две приятные девочки, стюардессы. Сразу же одна из них, Крисси, фамилию не помню, начинает предлагать мне всякие подушечки, разную вкуснятину, а ее напарница, Лора Ли, приносит большой бокал шампанского. И все это только мне, и больше никому ничего! А потом, наклоняясь к моему столику, чтобы поставить бокал, одна из них еще исхитрилась укусить меня за ухо. Через десять минут они уже дрались из-за меня на кухне, а пассажиры в это время вовсю нажимали на кнопки вызова, но абсолютно безрезультатно. Девочки все же появились через некоторое время, но только затем, чтобы спросить, какой бифштекс я предпочитаю, с кровью или хорошо прожаренный, а заодно предложить мне мятные конфетки… это в самом деле крайне неловкая ситуация.
И в том же духе продолжается весь этот дурацкий полет. Девочки уже готовы пустить в ход кислородные маски и придушить друг друга шлангами, только из-за того, чтобы просто выяснить кто же из них двоих останется со мной в Чикаго. Я уже не чаю выбраться живым из этого проклятого самолета. Самолет идет на посадку, девочки так никого и не обслужили, и, конечно пассажиры рады бы давно меня прикончить, если бы только не одно «но» – они все уже давно меня любят, и я знаю точно, что без борьбы по трапу я не спущусь.
Но меня спас маленький негритенок, который летел со своей мамой и подмигивал мне всю дорогу. Он им обблевал и кресло и проход, и все на свете… Так вот, пока они засыпали это хозяйство молотым кофе, чтоб не пахло, я тихонько улизнул.
Доктор Бреммер медленно покачала головой:
– Какой ужас! Просто ужасно!
– Ужасно?! Да, это страшно, черт возьми! Я к вашему сведению, вообще живу в постоянном страхе, что когда-нибудь они меня залюбят досмерти!
– Ну, – сказала доктор Бреммер, – а может Вы все же немного, совсем чуть-чуть, драматизируете события?
– Что это Вы делаете?
– Ничего, мистер Клейзер, совершенно ничего. Попробуйте сосредоточиться на Вашей проблеме.
– Сосредоточится? Вы шутите, я и так ни о чем другом думать не могу. Хорошо хоть что я зарабатываю на жизнь карикатурой – работу можно высылать почтой, если бы только мне приходилось выходить на улицу, смешиваться с толпой, меня стали бы рвать на части уже через десять минут!
– Я думаю, что вы все-таки преувеличиваете, мистер Клейзер.
– Конечно, Вам легко говорить, Вы не были в моей шкуре, но со мной так было всегда, сколько я себя помню. Я всегда был самой популярной личностью в классе, меня первого приглашали на белый танец, меня всегда зазывали в бейсбольные и другие команды, так как мое участие почти всегда приносило успех, а учителям всегда было мало моих знаний, им еще хотелось и моего тела…
– В колледже, да? – уточнила доктор Бреммер.
– Черта с два! В детском садике! Я не знаю больше не одного случая, чтобы мальчика в четвертом классе силой затащили в женскую раздевалку и там изнасиловали… Вам этого не понять, черт возьми! Они точно меня залюбят… до смерти!
Голос Нейта звучал резко, неистово и доктор Бреммер попыталась успокоить своего пациента.
– Когда люди бояться, что за ними постоянно следят, что их хотят обидеть или даже убить, – что бывает в крайних параноидальных случаях, тогда все понятно – это типичная паранойя. Такое случается на каждом шагу, особенно в наше время. Но то, что Вы мне рассказываете, нечто особенное, нечто совершенно противоположное. Я с таким пока не сталкивалась и даже не знаю, как это назвать.
Нейт устало прикрыл глаза:
– И я не знаю.
– Возможно все же это – эротофобия, боязнь быть любимым, – продолжила доктор Бреммер.
– Класс! Даже название придумали! А мне-то, что за польза от этого? Меня волнует секс, а не ваша терминология!
– Мистер Клейзер, – попробовала смягчить ситуацию доктор Бреммер. Вы же не предполагаете, что результаты скажутся мгновенно. Нам придется поработать вместе…
– Вместе?! Черт, да мне вообще не следовало тут валяться… на вашем диване!
– Прошу Вас, спокойней, мистер Клейзер.
– А что это Вы делаете, собственно?
– Ничего.
– Вы блузочку расстегиваете, я слышу шорох ткани. Я слишком хорошо этот звук изучил!
Оттолкнув психиатра, Нейт поспешно сел на диване. Доктор Бреммер была уже почти полностью раздета, то есть, не дав ему опомниться, она умудрилась скинуть мини юбку, нижнюю юбку, туфли, колготки и крошечные кружевные штанишки… Было совершенно ясно, что эта женщина знает, чего хочет. Нейт увидел, что все было проделано профессионально. Объятый ужасом он вскочил с зеленой кушетки и, шатаясь, направился к двери. Доктор Бреммер метнулась за ним, свесившись с кушетки, по ходу обрушивая стопку журналов "Психология сегодня", и сметая со стола все остальные бумаги.
– О, боже! – заорал Нейт, съеживаясь в страхе.
– Ой, ой, прости, милый, – бормотала доктор Бреммер, сползая с кушетки.
Нейт кинулся бежать, но она быстро поползла за ним и, как капканом, захватила рукой его лодыжку:
– Прошу, умоляю, возьми меня с собой, делай со мной что хочешь, пользуйся мной, оскорбляй меня, бей, я люблю тебя! Я люблю тебя! Отчаянно, безнадежно, абсолютно!
– Господи, господи, господи! – бормотал Нейт, цепляясь за ручку и одновременно пытаясь сохранить равновесие. Но тут дверь открылась, задев Нейта по плечу, от чего он таки потерял равновесие и наступил, похоже, на спину психиатру.
– О, да! – прохрипела доктор Бреммер. – Попирай меня, бей, я во всем себе отказывала, я не представляла себе, что значит любить такого мужчину, как ты! Возьми же меня, как в "Истории о…", да, да!!!
В то же мгновение в открытую дверь кабинета вошла сестра, прыщеватая женщина, лет пятидесяти, которая уже видела Нейта в приемной. При виде лежащей ничком докторши ее глаза округлились, но уже через секунду она бросилась высвобождать ногу Нейта от обнаженных рук психиатра, до тех пор, пока ее изумление не перешло в вожделение, и она сама не присоединилась к доктору Бреммер…
Нейт с трудом вырвался, оттолкнувшись от стенки, вывалился в дверь, а потом помчался как угорелый.
Нейт добежал до лифта и был в безопасности еще до того, как обе женщины смогли подняться на ноги.
Нейт Клейзер хорошо усвоил, что судьба не жалует тех, кто медлит.
Уже мчась в сторону Мичиган Авеню, он услышал крики и оглянувшись увидел доктора Бреммер и ее бюст свесившихся из окна восемнадцатого этажа. Он с трудом смог разобрать хоть что-то в ее вопле.
– Если ты меня покинешь, я покончу с собой!!!
– Хорошо, когда у людей есть хоть какой-то выбор, – мельком подумал Нейт и рванул дальше.
Ему негде было укрыться. Не было даже комнаты в гостинице, так как прямо из аэропорта О'Хара он отправился в клинику. Пожалуй, впервые за последние шесть лет, он более двух часов находился вне спасительных стен своего дома-укрытия в Торонто. Отчаянно хотелось выпить, а силы ада искушали сладким видением яичницы с сыром.
Неоновая реклама Будвайзера и солидная, тяжелая, темная дверь говорили сами за себя, и Нейт осторожно прошмыгнул внутрь. Похоже ему повезло. Это было царство абсолютного спокойствия в эпицентре тайфуна. Как раз в тот краткий миг, когда еще не пришли скрытые алкоголики, чтобы быстренько пропустить для храбрости рюмку-другую, и не прибыли постоянные клиенты, чтобы присосаться к рюмке и повиснуть на стойке бара до закрытия…
Нейт проскользнул в затемненную кабинку, задул горевшую свечу, стоящую в железном подсвечнике на столе, и приготовился ждать официанта, отчаянно надеясь, что это будет мужчина.
Но пришла женщина. Одета она была с редким вкусом – платье с какими-то буфами, чулки «сеточка», туфли на шпильках.
Прикрыв лицо рукой, Нейт заказал три двойных виски, без воды, без льда, а, по возможности, и без стакана: вот так, налейте прямо в пригоршню.
Она довольно долго пристально на него смотрела и уже было открыла рот, чтобы сказать: "Мы с Вами уже где-то…"
Но Нейт свирепо и жутко рявкнул:
– Каким макаром?!! Да я только что из тюрьмы! Восемнадцать лет за решеткой!!! Я изнасиловал, убил и съел хорошего мальчика! Или нет, сначала съел, а потом изнасиловал…
Ее как ветром сдуло, а виски принес буфетчик, который затем так постоянно и вертелся подле кабинки, пока Нейт пил и периодически, по гладкой полированной поверхности стола, посылал ему очередной чек на новые порции.
Так продолжалось около трех с половиной часов, пока Нейт не угомонился немного и даже позволил себе завязать осторожную беседу со странным маленьким человечком, который с самого начала следил за ним, проскользнув в глубь кабинки, своими маленькими маслеными глазками.
Нейт пожаловался незнакомцу на свои беды, а тот, не пропуская при этом ни рюмки, стал предлагать массу неосуществимых планов избавления от этих бед.
– Послушай, ты мне нравишься, – говорил человечек, – и поэтому я попробую тебя выручить. Я тоже немного психиатр, и по этому делу прочел кучу книг: Фромм, Фрейд, Беттельхейм, Калил Гибран, все что хочешь. Вот послушай, что я тебе скажу! Каждый человек состоит из мужского и женского начала, понимаешь, к чему я веду? Мне кажется, что твое женское начало пытается самоутвердится. У тебя никогда не было мысли завести шашни с мужчиной?
И тут, вдруг, Нейт почувствовал руку, шарящую у него по бедру. Но этого не могло быть! Никакая рука не могла дотянуться до него под столом через всю кабинку. Нейт завопил и глянул вниз… Под столом на четвереньках ползала официантка.
Нейт молнией вылетел из бара и не останавливался до тех пор пока не очутился в многолюдном районе. Когда же он наконец остановился и огляделся, то понял, что влип.
Он стоял на Стейт Стрит в тот самый момент, когда масса людей начинает расходиться из клубов…
Они преследовали его пятнадцать кварталов, и Нейт оторвался от двух последних – шикарной негритянки в обалденной натуральной шубе и пятидесятилетней матроны, которая пыталась использовать использовать свою, искусственную, вместо лассо, – лишь на какой-то изрытой канавами стройке. Когда они пропали из виду, Нейт еще долго слышал их вопли.
Приметив мотель на углу Шор Драйв и Огайо, Нейт завернулся получше в то, что осталось от его одежды и проверил кошелек, который, славу богу, не потерялся, когда эти скауты в юбках, – или скаутки? – отрывали рукава от его пиджака.
Оказавшись за стенами мотеля и временно ощутив себя в безопасности, Нейт снял номер. Администратор, молодой шептун в белоснежной рубашке, с белоснежным галстуком и аналогично белоснежным лицом, посмотрел на Нейта с несрываемой симпатией и предложил ему ключи от свадебного люкса.
Одинокий, оторванный от привычного распорядка жизни, Нейт таки настоял на своем выборе и поднялся лифтом наверх, оставив белоснежного администратора в сильном возбуждении.
Номер, который выбрал для себя Нейт, был маленьким и спокойным. Нейт задернул шторы, запер дверь, подпер стулом дверную ручку и тяжело опустился на край кровати. Через некоторое время он окончательно протрезвел, расслабился, но зато теперь разболелся желудок. Нейт медленно разделся и забрался под горячий душ.
Намыливаясь, он размышлял. Хорошее это место для размышлений – душ.
Живя в Торонто, он мог, по крайней мере, хоть как-то себя обеспечить. Он сам создал себе такие условия, которые при всей свой мрачности, все же позволяли ему сносно существовать.
Но теперь Нейт понял, что нужно, в конце концов, что-то делать пора прекратить это безрадостное существование, которое год от года становилось все невыносимей. В двадцать семь лет ему не осталось уже никаких надежд. И безнадежность эта преследовала его с тех самых пор, как в нем проснулся мужчина.
Услышав о докторе Бреммер, он сильно колебался, – как-никак женщина. Но отчаянье усыпляет бдительность и он все-таки договорился о встрече. А теперь что: и цветочки осыпались и ягодки уже сорваны – только хуже стало. Конечно, поездка в Чикаго была изначально идиотской затеей. И что теперь делать? Как выбираться с вражеской территории с минимальными потерями?
Нейт нехотя посмотрел на себя в зеркало.
В зеркале отразилось его обнаженное тело.
Он действительно неплохо сложен.
И лицо у него хорошее, пожалуй, и правда, красивое… даже неотразимое…
Пока он смотрел на себя в зеркало, отражение начало мерцать и расплываться. Волосы отросли и посветлели, налились груди, а волосы с тела исчезли… Под его пристальным взглядом весь образ изменился…
Теперь перед ним стояла самая красивая женщина, какую он когда-либо видел.
Слова маленького человечка из бара на мгновение промелькнули в памяти, но тут же растворились в преклонении перед существом в зеркале.
Он потянулся к ней, но она отодвинулась.
– Убери руки, не приставай! – произнесло существо.
– Но я люблю тебя, в самом деле, люблю!
– Я честная девушка, – сказало отражение.
– Но я хочу не только твоего тела, – поспешно продолжил Нейт, в его голосе прозвучали умоляющие нотки. – Я хочу любить тебя и жить с тобой всю жизнь. Я построю для тебя хороший дом. Я всю жизнь ждал именно тебя!
– Ну, – откликнулась девушка, – я, конечно, могу немного поболтать с тобой. Но ты рукам воли не давай!
– Конечно, конечно, – пообещал Нейт. – Я их вообще уберу.
И они жили долго и счастливо.
Как я искал Кадака
Вы меня, конечно, простите, но меня зовут Евзись, и стою я посреди пустыни, разговаривая с бабочкой, и если вам кажется, что я разговариваю с собой, то, простите еще раз, что я вам могу сказать? Взрослый человек стоит и разговаривает с бабочкой. В пустыне.
Ну так и ну? А чего вы ожидали? Знаете, бывают времена, когда просто приходится приспосабливаться и спускать окружающим с рук. Не то чтоб меня это радовало, если уж хотите знать. Но я это усвоил, Господь свидетель. Я ведь еврей, а если евреи и научились чему-то за шесть тысяч лет, так это тому, что, если хочешь дотянуть до седьмой тысячи – иди на компромисс. Так что буду стоять и болтать с бабочкой – эй, бабочка! – и надеяться на лучшее.
Вы не поняли. По глазам вижу.
Слушайте, я в одной книжке прочел, что как-то раз в сердце Южной Америки нашли племя еврейских индейцев.
Это еще на Земле было. На Земле, штуми. Газеты читать надо.
Да. Таки еврейские индейцы. И все кричат, и визжат, и устраивают такой мишугасс, и посылают историков и социологов и антропологов и весь прочий ученый кагал, чтобы выяснить наконец, правда это или кто-то трепанулся ненароком.
И вот что они выясняют: вроде бы один голос из Испании бежал от инквизиции, залез к Кортесу на борт, явился в Новый Свет, кайн-агора, и, пока все смотрели в другую сторону, сбежал. Так он фарблонджен, забрел в какую-то дыру, полную легко внушаемых туземцев, и, будучи вроде тумлер, стал их учить, как надо быть евреем Просто чтоб себя занять, понимаете – евреи ведь миссионерами никогда не были, никаких там «обращений», как у некоторых других, не стану пальцем показывать; мы, иудеи, прекрасно сами обходимся. И к тому времени когда то племя нашли по второму разу, индейцы поголовно не ели трефного, делали детишкам обрезание, соблюдали праздники и не рыбачили на шабес, и все шло прекрасно.
Так что неудивительно, что евреи есть и на Зушшмуне.
Шмуне, а не шмоне! Литвацкий у тебя акцент.
Ничего удивительного, что я еврей – я синий, у меня одиннадцать рук, и в гробу я видал зеркальную симметрию, и еще я маленький, круглый и передвигаюсь на коротеньких гусеничьих ножках, которые растут на колесиках по обе стороны моей тухес, за которую спасибо зеркальной симметрии, так что, когда я подбираю ноги под себя, мне приходится подпрыгивать, чтобы начать движение, и хамоватые туристы говорят, что это забавно.
Во "Всеобщих эфемеридах" меня обзывают аборигеном шестой планеты Теты-996 скопления Мессье-3 в созвездии Гончих Псов. Шестая планета и есть Зушшмун. Тут к нам пару оборотов назад прилетал один писака, путеводитель составлял по Зушшмуну для издательства в Крабовидной туманности, так он меня все зушшмоидом называл, чтоб ему головой в землю врасти, как репе. Еврей я!
Кстати, а что такое репа?
Поехали мои шарики и ролики. Вот что значит болтать с бабочкой. Дело у меня – такое, что от него умом подвинуться можно, сдохнуть можно, шпилькес у меня от него. Я ищу Кадака.
Эй, бабочка!. Слушай, ты хоть моргни, крылом дерни, сделай хоть какой знак – мол, слышишь. Что я тут стою, как шлемиль, и распинаюсь?
Ничего. Ни сна ни отдыха измученной душе.
Слушай, если бы не этот придурок Снодль, я бы тут не торчал. Я бы сидел со своей семьей и согнездными наложницами на третьей планете Теты-996, которую «Эфемериды» называют Бромиос, а мы, евреи, – Касрилевкой. И тому, что мы называем Бромиос Касрилевкой, есть исторический прецедент. Вы почитайте Шолом-Алейхема, поймете. Планета для шлимазлов. Говорить о ней не хочу. Вот туда нас и переселяют. Все уже уехали. Несколько психов осталось, такие всегда находятся. Но большинство улетело: что тут делать? Зушшмун-то уводят. Бог знает куда. Куда ни глянь постоянно кого-то куда-то перемещают. И говорить об этом не желаю! Ужасные люди, совершенно бессердечные.
Так вот, сидели мы в иешиве, последние десятеро, полный миньян, готовились сидеть шиве за всю планету в те последние дни, что нам оставались, и тут этот ойзвурф Снодль забился в припадке и помер. Ну, так вы думаете, что за проблема? Почему это мы сидели шиве в раввинской школе, покуда все прочие носятся как воры, торопятся смыться с планеты, прежде чем эти ганефы из Центра Перемещения не придут со своими крючьями? Самый натуральный глич, темное, поганое дело – хватать планету и выпихивать ее с орбиты, и засандаливать на место милого, симпатичного мира здоровенные мешигина магниты, чтобы скопление не развалилось, когда они выдернут планету, и все остальные не поналетали друг на друга… Таки вы меня спросили? Я вам отвечу.
Потому, бабочка ты моя молчаливая и крылом-не-махательная, что шиве это самое святое. Потому как в Талмуде сказано: при оплакивании покойного следует собрать десять евреев, чтобы те пришли в дом усопшего, не восемь, не семь и не четыре, а именно десять, и молиться, и зажигать йорцейт свечки, и читать кадиш. А кадиш – это, как знает любая разумная форма жизни в скоплении, кроме, может быть, одной сумасшедшей бабочки, поминальная молитва во славу и честь Гесподню и усопшего.
А с чего это мы решили сидеть шиве по своей планете, которая столько времени была нам родным домом? Потому Боже, и с чего я решил, что меня поймет какая-то бабочка? потому, что Господь был добр к нам здесь, и у нас была собственность (которой больше нет), и у нас были семьи (которые уже уехали), и у нас было здоровье (которое я скоро потеряю, если и дальше буду с тобой болтать), а имя Господне может быть произнесено вслух лишь в присутствии группы верующих – конгрегации – короче, миньяна из десяти человек, вот почему!
Знаешь, ты даже для бабочки на еврея не похож.
Ну так и ну, может, теперь понятно? Зушшмун был для нас голдене медина, золотой страной: здесь нам было хорошо, мы были счастливы, а теперь нам приходится переезжать на Касрилевку, планету для шлимазлов. Нет даже Красного моря, чтобы разделить его воды; это не рабство, это лишь мир, которого не хватает – вы меня поняли? И мы хотели отдать родине последний долг. Не так это и глупо. Так что все улетели, и только мы десятеро остались, чтобы семь оборотов сидеть, потом тоже уехать, и Зушшмун уганесрят с небес Бог знает куда. Все шло бы как по маслу, если бы не этот придурок Снодль. Который забился в припадке и помер.
Так где нам найти десятого для миньяна? На всей планете только девять евреев.
Тогда Снодль сказал:
– Есть еще Кадак.
– Заткнись, ты же мертв, – ответил ему реб Иешая, но это не помогло. Снодль продолжал предлагать Кадака.
Вы поймите, один из недостатков моего вида состоит в том ну, этого бабочка может не знать, – что когда мы помираем, отправляемся на тот свет, то все еще разговариваем. Нудим.
Вы хотите знать, как так? Как это мертвый еврей может говорить с той стороны? А я вам что, ученый, я что, должен знать, как оно работает? Врать не стану – не знаю. Но каждый раз одно и то же. Одного из нас прихватывают судороги, он помирает и ложится и не гниет, как туристы, которые шиккер в дрек барах в центре Гумица, и падают в канаву, и их переезжает двуколка.
Но голос остается. И нудит.
Наверное, это как-то связано с душой, хотя не поручусь. Одно могу сказать – слава Богу, мы на Зушшмуне не поклоняемся предкам, потому что с полным небом старых нудников не было бы и резону оставаться по эту сторону. Благословенно будь имя Авраамово – через некоторое время они затыкаются и куда-то уходят, наверное, нудеть друг другу, хотя им давно следует покоиться с миром.
А Снодль еще никуда не ушел. Он только что помер и теперь требовал, чтобы мы сидели шиве не только по нашим угробленным жизням, но и – нет, вы только подумайте, на полном серьезе – по нему! Ну не ойзвурф ли этот Снодль!
– Есть еще Кадак, – говорил он. Голос шел из воздуха в футе над трупом, лежащим спиной вверх на столе в иешиве.
– Снодль, не будешь ли ты так любезен, – ответил ему Шмуль, тот, что с переломанной антенной, – заткнуть свой рот и оставить нас в покое? – И, заметив, что Снодль лежит лицом вниз, добавил (тихонько, потому что о мертвых плохо говорить не стоит): – Я всегда утверждал, что он через тухес разговаривает.
– Перевернуть его? – предложил хромопрыгий Хаим.
– Пусть лежит, – заявил Шмуль. – С этой стороны он лучше смотрится.
– Ша! Мы так никуда не придем, – сказал Ицхак. – Ганефы вот-вот уведут планету, остаться мы не можем, уехать тоже не можем, а у меня согнездные наложницы мокнут и молоко дают на Бромиосе.
– На Касрилевке, – поправил Аврам.
– На Касрилевке, – согласился Ицхак, делая опорной, задней то есть, рукой извинительный жест.
– Планета десяти миллионов Снодлей, – сказал Янкель.
– Есть еще Кадак, – повторил Снодль.
– Да о каком таком Кадаке талдычит этот ойзвурф – спросил Мейер Кахаха.
Мы все закатили глаза – девяносто шесть исполненных цорес глаз. Мейер Кахаха всегда был городским шлемилем. Если есть на свете больший ойзвурф, чем Снодль, то это Мейер Кахаха.
– Заткнись! – Янкель ткнул Мейеру Кахахе указательной рукой в девятый глаз (тот у него с бельмом).
Мы сидели и переглядывались.
– Он прав, – сказал наконец Мойше. – Это еще одно горе, которое мы оплачем на Тиш Беав (если только на Касрилевке Тиш Беав выпадет на нужный месяц), но ойзвурф и шлемиль правы. В Кадаке наша единственная надежда пусть поразит меня Господь громом за такие слова.
– Кому-то придется идти искать его, – заметил Аврам.
– Только не мне, – взвился Янкель. – Нашли дурака!
Тогда реб Иешая, который был мудрейшим из синих евреев Зушшмуна даже до исхода – а уж кое-кому из них неплохо было бы остаться да помочь, чтобы мы не оказались в такой дыре, когда Снодль помер от припадка, – так вот реб Иешая согласился, что надо искать дурака, и заявил:
– Надо послать Евзися.
– Спасибочки, – отвечаю.
– Евзись, – сказал ребе, глядя на меня шестью передними глазами. Может, нам послать Шмуля с оборванной антенной? Или Хаима хромопрыгого? Или Ицхака, у которого от похоти судороги делаются? Или, может, нам послать Янкеля, который даже старше Снодля, и тот умрет в дороге, и нам надо будет искать двух евреев? Или Мойше? Так Мойше со всеми спорит. Он нам таки кого-нибудь приведет.
– А Аврам? – спросил я.
Аврам отвернулся.
– Ты хочешь, чтобы я упомянул проблему Аврама перед открытым Талмудом, перед усопшим, перед лицом Господа и всеми нами? – жестко глянул на меня реб Иешая.
– Прошу прощения, – смутился я. – Не надо было об этом упоминать.
– Или, может, ты послал бы меня, вашего раввина? Или Мейера Кахаху?
– Все понял, – сказал я. – Я пойду. Хотя совершенно этому не рад, говорю вам честно и откровенно. Возможно, вы меня больше не увидите, возможно, я сдохну в поисках этого Кадака, но я пойду!
И я направился к выходу из иешивы.
– Судороги, – пробормотал я, проходя мимо сидевшего с невинным видом Ицхака. – Да чтоб он у тебя отсох и отвалился, как лист сухой!
Я вприпрыжку выкатился на улицу и отправился искать Кадака.
Последний раз я видел Кадака семнадцать лет назад. Он сидел в синагоге во время праздника Пурим и неожиданно выкатился в проход, сорвал с себя ярмулке, талес и тфилин – все одновременно, тремя руками, – швырнул на пол, заорал, что для него с иудаизмом покончено и он перешел в Церковь Отступников.
Больше никто из нас его не видел. По мне, так оно и к лучшему. Начать с того, что Кадака я, честно говоря, всегда недолюбливал. Он сопел.
Ну, это не больно-то авейра, думаете вы, и я делаю много шума из ничего? Так вот, господин Похлопаю-КрылышкамиЧтобы-Меня-Заметили, я человек прямой, я все, что у меня на уме, выдаю в лоб – хочешь, чтобы вокруг да около ходили, поди к Авраму, он тебе покажет, как это делается. И я говорю, что выносить это постоянное сопение было совершенно невозможно. Сидишь ты в шуле, и посреди "Шма Исроэль", точно в самой середке "Слушай, Израиль, Бог наш Господь, Господь един!", слышишь такой рев, точно пеггаломер двухоботный в болоте трубит.
От одного звука хотелось вымыться.
Этот Кадак, ему же наплевать было. Ешь ты, спишь, гадишь, штап – ему все равно, он выдает трубы иерихонские, хлюпает носом, сопит так, что тебя наизнанку выворачивает.
А насчет поговорить с ним – и не думайте: как прикажете говорить с человеком, который на каждой запятой сопит?
И когда он перешел к Отступникам, конечно, случился скандал… на Зушшмуне не так чтобы много евреев… скандал делают из всего… но если честно, то я вам скажу: мы все вздохнули с облегчением. Избавиться от этого сопения уже было нахес, вроде как обсчитаться в свою пользу. Или получить семь в цену пяти.
Ну, так мне надо было идти и искать, прислушиваясь, не раздастся ли это жуткое сопение. Вот уж, простите за прямоту, без чего я бы обошелся.
Прокатился я через центр Гумица и направился к Святому Собору Церкви Отступников. Город выглядел преотвратно. Когда уезжали на Касрилевку, из него вывезли все, что не было к земле привинчено. И все, что было привинчено.
И винты. И немало той земли, к которой все это привинчивали. Одни ямы кругом. Зушшмун к тому времени уже не был такой милой планеткой. Больше он походил на старика с крепком. Или на пишера прыщавого. О такой мерзкой прогулке и говорить неохота.
Но часть их дурацкого фаркахда собора еще осталась. Что б ее не оставить: дорого, что ли, новый сделать? Бечевка. Эти тупицы построили святое место из бечевки, слюны и сушеного дерьма с улиц и самих себя, мне даже думать о таком богохульстве противно.
Я вкатился внутрь. От вони сдохнуть можно. У нас на Зушшмуне водился такой поганый маленький кольчатый червячок, которого все называют щипец пробойный, а мой дядя Беппо, псих-зоолог, – Lumbricus rubellus Venaticus. И не удивляйтесь, что я знаю такое иностранное – латинское, кстати – слово, я тоже в общем-то ученый, не такой дурак, как вы могли подумать, и ничего удивительного, что реб Иешая послал меня искать Кадака, такое не всякому еврею под силу. Я запомнил, потому что один щипец укусил меня за тухес, когда я купался, а такое не скоро забудешь. У этого червячка спереди и по бокам щипчики, и он лежит в засаде, поджидая сочный тухес. Только ты расслабишься в речке или решишь подремать на пикнике – хвать! – эта тварь вцепляется прямо в тухес. И висит там на своих трижды проклятых, чтоб всей их породе гореть в Геенне, щипчиках, и вспомнить тошно – сосет из тебя кровь прямо через тухес.
Снять ее нельзя, вся наша нынешняя медицина не может, хоть ты упердись от врачебных счетов. Единственное, что с ней может справиться, – если музыкант ударит над вашей тухес в литавры. Тогда эта тварь отпадает, вся раздутая от крови, а на тухес у вас останутся шрамы от клешней, которые и соложницам стыдно показать. И не спрашивайте меня, почему врачи для таких случаев не носят с собой литавры. Вы не поверите, какие у нас на Зушшмуне профсоюзные проблемы – это и к врачам, и к музыкантам относится, – так что, если вас щипец возьмет за тухес, лучше бегите не в больницу, а в концертный зал, иначе худо будет. А когда эта жуткая тварь отпадает, она – чмок! лопается, дрянь, которая из нее выплескивается, воняет до небес, и все двенадцать ваших глаз вылезают на лоб от запаха – фе! – крови и дерьма.
Вот так и воняло в этом Соборе Церкви Отступников миллионом раздавленных щипецов. Я чуть не упал от вони.
И зажал нос тремя руками, чтобы ни струйки не просочилось.
Начал я тыкаться в те бечевки, которые у них назывались стенами. К счастью, я вкатился рядом с входом, так что я высунул нос на пару футов наружу, сделал глубокий вдох, снова зажал нос, втянул обратно и огляделся.
С полдюжины Отступников, из тех, что еще не сбежали на Касрилевку, валялись на брюхе, быстро-быстро сворачивая и разворачивая ноги, уткнувшись мордами в грязь и дерьмо пред алтарем – наверное, молились своему идолу, как его там – то ли Сеймур, то ли Шимон, то ли Штуми. Я уж лучше, знаете ли, выучу латинское имя мерзкого вонючего червяка, чем ихнего языческого идола.
Так что там они и были, и я таки получил немало цорес с того, что на них все же наткнулся, но… я ведь искал Кадака, или нет?
– Эй, – позвал я одного из них.
И что я получил? Превосходный вид на его тухес. Только щипеца не хватало, чтобы подобраться и – хвать!
Тишина.
– Эй! – кричу второй раз. Ноль внимания. Лежат, понимаете ли, уткнувшись мордами в дерьмо. – Э-эй, вы! – ору я во весь голос, а это не так-то просто, когда зажимаешь нос тремя руками, и все мысли о том, как бы отсюда поскорее выбраться.